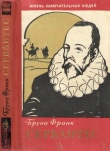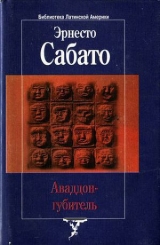
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Мы отошли в угол, где среди измерительных приборов безусловно казались Сесилии и Гольдштейну карикатурным зрелищем. Шепотом конспиратора Молинелли сообщил, что его друг Ситроненбаум хотел бы посоветоваться со мной о весьма важных вещах, касающихся алхимии.
Я взглянул на Ситроненбаума – его маленькие глазки искрились фанатизмом.
Меня обуяла странная смесь чувств – с одной стороны, разбирал смех и возникала забавная мысль сравнить фамилию этого человека с машиной «ситроен», но, с другой стороны, я испытывал какое-то необычное волнение.
– Алхимии, – повторил я безразличным тоном.
– Какого ты мнения о Тибо? – спросил Молинелли.
О Тибо? Я о нем мало знаю, когда-то читал популярную книжицу.
А о Гельброннере?
Гельброннер? Это физико-химик, знаю, конечно.
– Он хорошо разбирается в этих материях, – объяснил молодой Ситроненбаум, не сводя с меня своих глазок, словно желая подловить на какой-нибудь ошибке.
В этих материях?
Да, в алхимии.
Разбирается в алхимии? Я не знал, как реагировать, но решил, что лучше всего сохранять спокойствие. Молинелли выручил меня. Всегда, мол, есть люди, что-то изобретающие, – вечные двигатели, алхимические опыты. Однако это не самое важное: Ситроненбауму (жест в сторону, указывающий на него) удалось войти в контакт с кем-то потрясающе могущественным. Сабато читал книги Фульканелли? Нет, не довелось.
– Ты должен их прочитать, – сказал Молинелли.
Ладно. Но чем я могу быть полезен? Молинелли отрицательно покачал головой с выражением лица, говорившим примерно: «это не самое важное» или «речь идет о другом». Этот человек исчез именно тогда, когда было объявлено о расщеплении атома урана.
Кто исчез? Фульканелли?
Нет, он говорит об алхимике, с которым Ситроненбаум познакомился через Гельброннера, о совершенно загадочном человеке.
Тогда зачем ты мне говорил о Фульканелли?
Затем, что, по мнению их двоих, алхимик и Фульканелли могли быть одним и тем же человеком.
– Ты должен знать, – сказал Молинелли, не без опаски озираясь на Гольдштейна и Сесилию, прекративших работу и глядевших на нас во все глаза, – ты должен знать, что личность Фульканелли окружена глубокой тайной.
В этот момент случилось нечто неожиданное, от чего мне и сейчас стыдно и что совершенно не вязалось со страхом, который в те дни лишал меня сна: я начал почти истерически хохотать.
Молинелли с приоткрытым ртом и отвисшим подбородком казался крайне удивленным.
– Что с тобой происходит? – спросил он дрожащим голосом.
И тут я совершил самую идиотскую ошибку, какую только мог совершить: вместо того, чтобы промолчать, я сказал: «Молинелли – Фульканелли». Я вытер глаза платком и, когда снова приготовился выслушать гостей, осознал чудовищность своего поведения. Рот молчащего от изумления Молинелли все еще был открыт, а его друг дошел до наивысшего электрического накала в сверкающих своих глазках. Они переглянулись и, не простившись, ушли.
Сперва я не знал, что делать, – только обернулся на Гольдштейна и Сесилию, следивших, не двигаясь, за необычной сценой. Потом побежал к выходу, стал звать Молинелли. Но они даже не оглянулись. Тогда я остановился, наблюдая, как оба удаляются по коридору: один огромный, рыхлый, другой маленький, в одежде с чужого плеча.
Я вернулся в лабораторию и, молча усевшись, предался размышлениям.
Несколько дней я ходил подавленный, не мог уснуть, а если засыпал, начинались кошмарные сны. В одном из этих снов на первый взгляд не было ничего тревожного, но я проснулся взволнованный. Я шел по одному из подвалов лаборатории, входил в комнату Лекуэна и видел его со спины, наклонившимся над какими-то пластинами. Но, когда я его окликнул и он обернулся, у него было лицо Ситроненбаума.
Почему я проснулся взволнованный? Не знаю. Может, мучила нечистая совесть по отношению к бедняге Молинелли. Я встал с твердым решением попросить у него прощения. Однако, когда начало светать и я встал с постели, я был убежден, что этот кошмар не являлся простым следствием чувства вины, а чем-то более глубоким. Но чем?
Я направился прямо в его берлогу, заваленную каббалистической литературой. Было еще очень рано, лежал туман, и сквозь туман виднелся купол Пантеона – это зрелище вселяло меланхолию, умерявшую остроту моих тревожных мыслей. События, связанные с Р., казалось, отошли далеко в прошлое, и чувство страха уступило место состоянию меланхолии, все усиливавшейся у меня в Париже 1938 года. Я поднялся на нужный этаж и настойчиво постучал – Молинелли, вероятно, еще спал. Когда, наконец, он откликнулся и я назвал себя, наступило молчание, слишком продолжительное. Я растерялся, но все же не хотел уходить, не попросив прощения.
Немного выждав, я громко сказал в дверную щель, что он должен меня простить, что мне плохо, очень плохо, что смех был истерическим смехом и т. д. Еще сказал, что он замечательный человек (он скончался года два тому назад) и не способен затаить злобу. В общем, он в конце концов открыл мне, и, пока он умывался, я сидел на трехногой софе – четвертую ножку заменяла стопка оккультистских книг. Я попытался изложить мои объяснения, однако он вполне разумно попросил меня не делать этого.
– Мне обидно за Ситроненбаума, – сказал он, но не объяснил, почему и что такого мог вызвать мой смех у этого фанатичного человечка.
Вытираясь, он повторял: «Только за него».
Я был пристыжен, и, думаю, он это заметил, потому что великодушно сменил тему, готовя кофе. Все же я попросил рассказать, о чем они собирались говорить со мной, когда пришли. Он поднял руку, как бы показывая, что это неважно, и хотел было продолжить рассказ о том, что у них вчера произошло с Бонассо.
– Я прошу тебя, – сказал я.
Тогда он немного бессвязно начал излагать историю Фульканелли. Нашел одну из его книг и дал мне – я должен ее прочитать.
– Знаешь, никто никогда его не видел. Эта книга вышла в двадцатом году – видишь? Уже столько лет прошло, и ни один человек не может сказать, кто он такой.
А издатель?
Он мотнул головой. Помнит ли С. историю Бруно Травена [232]232
Бруно Травен(наст. фамилия: Торсван; 1890?—1969) – немецкий писатель. Скрывал свое имя и происхождение. В 1919 г., после падения Баварской Советской республики, был приговорен к смертной казни и бежал в Мексику.
[Закрыть]? Рукописи приходили по почте. В случае Фульканелли хотя бы известно, что их доставлял некий Канселье.
Но тогда не трудно что-нибудь узнать об авторе.
Нет, отнюдь, потому что Канселье систематически отказывался говорить. Теперь С. понимает, почему встреча с Ситроненбаумом чрезвычайно важна?
Нет, не понимает.
Но послушай, профессор Гельброннер – это человек, сведущий в алхимии и имевший контакты со многими алхимиками, настоящими или мнимыми. Однажды он послал Ситроненбаума взять интервью у господина, работавшего в опытной лаборатории «Общества газовиков». Этот господин предупредил, что и Гельброннер, и Жолио, и его сотрудники, если говорить только о французах, находятся на краю пропасти. Он упомянул об экспериментах, проводящихся с дейтерием, и сказал, что все это было известно определенным людям много веков назад и что не зря они, когда эксперименты дошли до известной точки, хранили молчание, спрятали все в архив и знания свои изложили на языке с виду бессмысленном, но на самом деле это зашифрованные тексты. Он объяснил, что даже нет надобности в электрическом токе и ускорителях, а достаточно определенного геометрического расположения идеально чистых материалов, чтобы развязать ядерные силы. Почему обо всем этом молчали? Потому что в отличие от современных физиков, наследников салонов просветителей и либертенов XVIII века, у тех алхимиков были соображения глубоко религиозные. Разумеется, он говорит не обо всех – в огромном большинстве среди алхимиков были обманщики и шарлатаны, морочившие сказками какого-нибудь короля или герцога, авантюристы, часто кончавшие на виселице или в пыточной камере. Нет, он говорит о подлинных алхимиках, о настоящих посвященных, вроде Парацельса или графа Сен-Жермена вплоть до самого Ньютона. Известны ли С. двусмысленные, но многозначительные слова Ньютона, произнесенные в Королевской академии? Вся история алхимии, по крайней мере та, что дошла до нас, материалистов, каковыми мы являемся в нашей цивилизации, толкует о превращении меди в золото и о прочей чепухе, во всяком случае, о простом применении чего-то бесконечно более глубокого. Самое главное – преображение самого исследователя, древнейшая тайна, известная в каждом веке одному или двум достойнейшим личностям. Великое Деяние.
Мы немного помолчали, прихлебывая кофе.
– Так он и есть этот недавно исчезнувший человек? – спросил я.
– Да, исчезнувший, как только газеты всего мира заговорили о расщеплении урана.
Но зачем было исчезать? Я не понимал.
Молинелли пожал плечами. Гипотеза Ситроненбаума состоит в том, что этот человек из «Общества газовиков» был не кто иной, как Фульканелли. Еще один его друг, некий Бергер, думает то же самое.
Я был озадачен этим сообщением, но все же не понимал, для чего им понадобилось встретиться со мной.
– Долго объяснять, – ответил он. – И кроме того, тут многое связано с Ситроненбаумом. Но, к сожалению, теперь уже поздно. Не думаю, что он захочет снова видеть тебя.
Я обозлился – ведь я уже все ему объяснил. Да, конечно, конечно. Но Ситроненбаум человек другого склада. И, глядя мне в глаза, он торжественно прибавил:
– Гений.
Я спросил Молинелли, сможем ли мы встретиться в ближайшее время. Ну, разумеется. Однако я понял, что пока, во всяком случае, ничего не смогу предпринять.
Несколько дней я слонялся, пытаясь привести в порядок свои мысли, но не находил разумных решений. Тогда, чтобы немного отключиться от назойливых наваждений, я принялся искать в книжных магазинах на бульваре Сен-Мишель какой-нибудь французско-албанский учебник. Когда я об этом сказал Бонассо, он посмотрел на меня как на сумасшедшего.
– Испанско-албанского нет. Вот поэтому, – сказал я.
Он все еще пристально смотрел на меня – быть может, потому, что распространился слух, будто у меня с головой не все в порядке. Я рассмеялся.
– Да нет же, старик, это из-за моей матери. Она наполовину албанка, но всегда говорила нам, что не знает этого языка. А мне известно, что знает.
Он был удивлен происхождением моей матери, но сказал, что, по его мнению, это еще не причина, чтобы изучать настолько бесполезный язык. Все равно, что изучать гаэльский [233]233
Гаэльский(гэльский) язык – язык жителей северной Шотландии и Гебридских островов.
[Закрыть].
– Ну, знаешь, мне всегда нравилось учить языки. Возможно, при другой жизни я бы увлекался лингвистикой. Но дело не только в этом. Это проблема, пожалуй, психологическая и семейная. Мать ненавидит свое албанское происхождение, а меня оно восхищает. Албанцы не дали ни одного изобретателя, ни одного ученого, ни одного большого художника.
– Хуже, чем баски.
– Вот именно. И ты очень правильно сравнил их с басками.
– Тогда какие же достоинства ты у них нашел, кроме того, что произвели на свет тебя?
– Это воинственный народ, которого никто не мог поработить. Заметь, это древние иллирийцы и македонцы, они там жили прежде, чем туда пришли эллины. Филипп и Александр Македонский были албанцами и, возможно, также Аристотель – как видишь, невеждами они не были. Но не это меня восхищает. А их храбрость. Ты знаешь историю князя Скандербега?
Бонассо, который в те времена постоянно ходил с «Эстетикой» Кроче [234]234
КрочеБенедетто (1866—1952) – итальянский философ, историк, литературовед, политический деятель.
[Закрыть]под мышкой, сказал, что у него есть более важные книги для чтения.
– Князь Георгий Кастриот, по прозванию Скандербег, четверть века удерживал на границе турецкие войска в Балканских горах. Благодаря ему могла существовать республика Венеция и, возможно, весь Запад.
– Пусть так, старик, но это еще не причина, чтобы ты разыскивал французско-албанский учебник.
– Я не потому ищу эту книгу, а из-за матери. Меня всегда интересовала история албанцев и ненависть к ним моей матери. Я пытался ее переубедить, но тщетно. Это у нее из-за моего деда.
– А что было с дедом?
– Мать его ненавидела, он уморил свою жену, то есть мою бабушку, когда ей было тридцать лет. Женщины и вино – понятно?
– И при чем же тут Скандерберг?
– Не Скандерберг, а Скандербег. Дед мой был по происхождению албанец, а бабушка итальянка.
– Что значит – по происхождению? Был он албанцем или нет?
– Погоди. Когда князь Скандербег почувствовал, что скоро умрет, он, – зная, что феодальные князьки, которых только он был способен объединить, разделятся, и турки тогда все разгромят, – попросил у своего союзника, короля Неаполя, позволения разместить самых преданных своих офицеров и солдат на итальянской земле, в Сицилии и Калабрии. Таким образом, примерно в середине пятнадцатого века, они там поселились. Чтобы ты мог понять, какие это молодцы, скажу тебе, что они до сих пор сохраняют свой язык и никогда никому не покорялись. Конечно, итальянцы, как правило, их ненавидели, они были им как бельмо в глазу. Теперь послушай, какая драма разыгралась в доме родителей моей бабушки, – они были не простые итальянцы, но весьма знатное семейство. Когда моя прабабка – она была вдовой и настоящей тигрицей, – донна Джузеппина Кавальканти, узнала, что мою бабушку осаждает некий долговязый молодчик, она пришла в ярость. Но брат дедушки, влиятельный священник, дружил с маркизом де Санто Марино (был наставником его детей), и возрос о браке решился, хотя при самых зловещих пророчествах донны Джузеппины. В общем, этот албанец насадил виноградники, оливковые рощи, настроил усадьбы, где были женщины и вино. И мы превратились в эмигрантов. Теперь понимаешь?
– Что – понимаешь?
– Почему моя мать ненавидела албанцев и почему я ищу французско-албанский учебник.
– Логика у тебя железная. Ну, и каков этот язык?
– Однажды я подкараулил, как мать и один из дядей беседовали. Если ты в Антверпене видишь табличку с надписью «uitgang», ты догадываешься, что здесь что-то немецкое. В албанском же нет ни малейших примет – табличка может означать «Курить воспрещается» или «Выход», не поймешь. Кажется, он как-то связан с литовским языком. Но в его лексике много слов турецких и греческих.
– И все это ты ухватил, подслушивая под дверью?
– Семь падежей.
– Замечательно, позавидуешь. Будто тебе больше нечего делать. А если тебя застукает старик Усай?
– Представь, я от четырех падежей в немецком чуть не рехнулся. Но это еще не все.
– Как – не все?
– А фонетика. Приведу пример: «льетчка» – жареные пончики. Сперва тебе надо настроить рот так, чтобы прочности наше «элье», затем ты придвигаешь язык к зубам. Вот так. Потом сжимаешь челюсти, но не совсем, а так, чтобы звук проходил через щель, пока ты выпячиваешь губы. Вот так.
Бонассо смотрел на меня широко открытыми, серьезными глазами.
– Погоди минутку, – сказал я.
В ту пору мы все с увлечением читали «Les mamelles de Tiresias» [235]235
«Груди Тиресия» (фр.)– драматургический опыт французского поэта Гийома Аполлинера (1880—1918).
[Закрыть]. Я нашел роман «La femme assise» [236]236
«Сидящая женщина» (фр.)– роман Г. Аполлинера.
[Закрыть].
– Слушай, что пишет Аполлинер о Канури, своем друге албанце. Сверхчеловеческое жизнелюбие и склонность к самоубийству. Как будто несовместимо, правда? На мой взгляд, это национальная черта.
Бонассо тщательно прочитал этот фрагмент, словно изучая важную статью договора. Потом снова поглядел на меня так, будто я на грани тяжкой болезни.
– Пойду в «Дом» [237]237
«Дом» ( фр.Dôme – купол, собор) – парижское кафе.
[Закрыть], – сказал он наконец.
Я решил пойти с ним.
В «Доме» были Марсель Ферри с Тристаном Тцарой [238]238
Тристан Тцара(1896—1963) – французский поэт-сюрреалист.
[Закрыть]и Домингесом, они сочиняли изысканные «трупы»:
– Что такое банка сардин длиной сто метров?
Монгольский камуфляж.
– Что такое трагическая минута?
Любовь забытого цветка.
– Что такое минотавр на завтраке?
Пустота.
За соседним столиком Алехандро Сукс возмущался: надвигается война, а вы занимаетесь чепухой.
Домингес посмотрел на него ласковым взором дремлющего быка.
Сукс спросил меня насчет дел с ураном. Надо срочно организовать комитет. У него уже есть название: «Защита». Это была его слабость – организовывать комитеты и общества, конечно, на бумаге. Последней была «Лига против употребления алюминиевой посуды на кухне». Едва я заговорил об уране, он тут же придумал общество.
– Главное – хорошее название, чтобы легко запоминалось. Акционерное общество «Защита выдающихся физиков, электриков, натуралистов».
Чтобы нечто столь разрозненное организовалось в форме акционерного общества (комбинация безумия с коммерческим здравомыслием), показалось мне невероятно забавным.
Это его разозлило.
Но при чем тут электрики? Меня также позабавило расхожее мнение о тех, кто работает в атомной лаборатории. Вся суть в названии, черт возьми! Разве он не объяснил мне, что название должно быть ударным, должно быть запоминающимся?
Ну да, конечно, очень хорошо.
Они перестали сочинять «трупы». Домингес, будто исполняя печальный или скучный ритуал, с меланхолическим взором бычьих глаз и выпяченными губами принялся поносить людей французской наружности. В субботу и воскресенье (объяснял он) «Дом» заполняют французы, гнусные буржуа. В конце концов он, огромная шатающаяся туша, встал, чтобы пойти оскорбить старичка с седой бородкой и орденом Почетного Легиона. Старичок вместе со своей супругой спокойно попивал «рикар». Домингес согнулся в поклоне, вроде того, как делают в цирке дрессированные слоны, и на отвратительном французском сказал: «Мадам, месье», – а затем, схватив одну из перчаток дамы, стал ее кусать, будто хотел съесть. Старик, остолбенев от изумления, не решался пошевельнуться. И вдруг негодующе поднялся – его негодование было несоразмерно мелкой, хлипкой фигурке. Домингес прекратил свое занятие и поглядел на него с преувеличенной нежностью, излучавшейся из бычьих вытаращенных глазищ и акромегалической [239]239
От «акромегалия» – эндокринное заболевание, характеризующееся чрезмерным ростом отдельных частей тела.
[Закрыть]головы, слегка склоненной набок.
Сукс, следивший за неуклонным развитием инцидента, быстро расплатился и, схватив меня под руку, повел к выходу, напоминая, что было со всеми нами в тот раз, когд пришлось вмешаться перуанскому боксеру.
Не успели мы выйти, как позади раздался шум драки.
Сукс был возмущен.
– Остолопы! – воскликнул он, едва мы вошли в метро на станции «Ла Куполь». – Надвигается война, а они занимаются таким ребячеством.
Он достал какие-то бумажки и начал писать цифры.
– Каждый вступающий должен внести один доллар в год.
Я воспользовался появлением Вифредо Лама [240]240
Вилфред Лам(1905—1982) – кубинский художник.
[Закрыть], чтобы улизнуть. Никакого определенного замысла у меня не было, воскресенье предвиделось исключительно унылое. Я пошел наугад, но вскоре оказался на улице Гранд-Шомьер. Ноги сами несли меня к Молинелли. Я поднялся к нему, он как обычно, готовил кофе. Казалось, он слышал наш разговор с Суксом.
– Это предвещает конец, – сказал он.
– Конец? Что предвещает конец?
– Расщепление урана. Второе тысячелетие. И тебе выпала удача присутствовать при подобном событии.
В его карманах, как у моего брата Висенте, всегда была охапка кое-как сложенных, смятых бумажек разной степени истертости: карты, планы, счета. Он отыскал бумажку с каким-то чертежом и показал мне: вот здесь Рыбы, здесь Солнце. Когда Солнце вошло в созвездие Рыб, явился Христос, и произошло рассеяние евреев. Оно длится 2000 лет. Теперь, с приближением конца этого периода, они возвращаются на свою землю. Это предвещает нечто очень значительное, ибо судьба еврейского народа таинственна, сверхъестественна. Я подумал про Ситроненбаума, но ничего не сказал.
Коротеньким изгрызенным карандашиком он мне показал: вот знак Водолея. Теперь мы входим в знак Водолея, конец двухтысячелетия.
Затем, подняв глаза и тыча в меня карандашиком, прибавил:
Великие катастрофы.
Какие катастрофы? Прежде всего, ужасная война и великое испытание для евреев. Но всех евреев уничтожить не удастся, потому что им предстоит еще исполнить важную миссию. Своим карандашиком на обороте одного из листочков он написал печатными буквами и обвел рамочкой

затем уставился на меня со спокойным и очень серьезным видом.
Катастрофы будут связаны с атомной энергией. Великие ламы предвидели, что эти катастрофы будут прелюдией к Решающей Битве за мировое господство. Но – внимание: он говорит не о политике. Было бы наивным заблуждением думать, что речь идет просто о политике. Вовсе нет. Политические силы (Франция, Германия, Англия) – это форма, в которой «Битва» (он написал на бумажке это слово, тоже с заглавной буквы) проявится среди людей. Но за этими видимостями кроется нечто более серьезное: Гитлер – это Антихрист.
Человечество ныне находится в Пятом круге.
В Пятом круге?
Да, это момент, когда наука и разум достигнут своего величайшего могущества. Зловещего расцвета. Однако незримо уже готовятся основы для нового, духовного понимания мира. Опять тыча в меня, он изрек:
– Конец материалистической цивилизации.
Волнение мое все усиливалось, ведь этот наш разговор каким-то образом, казалось, был связан со встречей с Р. и тогдашней загадочной сценой.
Знаю ли я, чему соответствует Пятый круг в восточном пророчестве?
Нет, я не знал.
Он соответствует Пятому Ангелу Откровения святого Иоанна.
Сперва Уран, потом Плутон – это посланники Нового Времени. Они будут действовать как извергающиеся вулканы, проведут границу между двумя эрами, великий перекресток.
– Плутон, – говорил он, постукивая карандашиком по бумажкам, – будет управлять периодом обновления путем разрушения.
После паузы, когда он словно бы впивался в глубину моих глаз, он произнес следующие знаменательные слова:
– Я знаю, тебе что-то известно. Хотя еще не совсем ясно. Но по твоим глазам видно.
Я промолчал и, опустив голову, принялся мешать ложечкой остаток кофе.
– Плутон управляет внутренним миром человека, – услышал я его голос. – Он откроет важнейшие тайны души и бездны моря, таинственные и подземные миры, ему подвластные.
Я поднял глаза. На минуту воцарилась тишина. Потом, снова целясь в меня карандашиком, он сказал:
– В настоящее время мы пересекаем третий и последний деканат [241]241
Деканат– сектор зодиакального круга с дугой десять градусов.
[Закрыть]Рыб, при господстве Скорпиона, где возбуждается Уран. Секс, разрушение и смерть!
Эти последние слова он написал с заглавными буквами на другой грязной бумажке и опять поглядел на меня так, будто я имею отношение ко всему этому.
В комнате стало почти темно. Я сказал, что слишком утомился и пойду спать.
– Хорошо, – сказал он, кладя руку мне на плечо. – Хорошо.
Я лег, но не мог уснуть: в уме кружились слова Молинелли, происшествие на улице Монсури и – не знаю почему – лицо Ситроненбаума. Я вам уже говорил, что его лицо напоминало лицо, которое, вероятно, было у Троцкого в годы студенчества, но теперь я понял, что сравнение мое неудачно. Быть может, меня поразило внешнее физическое сходство и фанатичный блеск маленьких глаз, метавших электрические искры сквозь стекла пенсне. Нет, это было совсем не то. Или, по крайней мере, не все. Но что я подразумеваю сейчас под словом «все»? Его поношенный костюм, унаследованный от кого-то более рослого, тощие плечи, впалую грудь, костлявые, нервные руки? Нет, было что-то еще, и, хотя я это подозревал, мне не удавалось определить эту черту в гомункулусе, одержимом высшей истиной. Быть может, то была именно «высшая истина», некое откровение, находившееся по ту сторону чистой политики, нечто несшее в себе ужасную тайну.
Короче, я наконец встал и отправился в лабораторию. Спросил у Сесилии, выполнила ли она порученные ей замеры. Да, конечно. У нее был взгляд пытливый и полный укоризны, – с таким взглядом мать дает выстиранное и отглаженное белье сыну, ведущему распутный образ жизни.
– Чего это ты! – воскликнул я.
Она испугалась и пошла к своему электрометру.
Я нашел сосуд с актинием, достал его из свинцовой трубки. Но я был рассеян, все делал не так. Заложил актиний обратно в трубку и решил сходить выпить кофе.
В коридоре мне повстречался Бруно Понтекорво [242]242
Бруно Понтекорво(1913—1993) – итальянский физик-атомщик, с 1950 г. работал в Советском Союзе.
[Закрыть], как всегда любезный, но очень возбужденный. Он спросил меня про фон Хальбана. Я ответил, что не видел его. Они все были в истерическом состоянии, борясь за первенство в расщеплении атома.
Холодный воздух на улице помог мне прийти в себя.
Я чувствовал, что возвращаются прежние наваждения, мучившие меня в детстве. И теперь они еще сильнее терзали меня именно потому, что осаждали человека взрослого и окруженного людьми, верившими только в математические формулы и атомные частицы, в рациональные объяснения.
Мне вспомнился Фрэзер, душа, странствующая во время сна, и раздвоение. Мы, западные люди, настолько тупы! Возможно, люди вроде Гофмана, По и Мопассана просто были мифоманы? Не открывается ли в кошмарах истина в более глубоком смысле? А персонажи литературных произведений (я говорю о подлинных, тех, что возникают сами, как сновидения, а не о придуманных), не посещают ли они отдаленные регионы, как душа в кошмарных снах? А сомнамбулизм? Куда я направлялся, когда в детстве ночью вставал с постели? По каким континентам бродил в этих странствиях? Мое тело двигалось в гостиную, в комнату родителей. А моя душа? Тело движется в одном направлении или остается в постели, но душа блуждает где-то. Например, с кем произошел тот эпизод с глазами умершей женщины? Детское сохранилось во мне, я это знаю. А как объяснить эпизод на улице Монсури? (Souris – мыши! Только теперь я это заметил!)
С той поры я пытаюсь разгадать тайный заговор и, хотя иногда мне кажется, что его угадываю, я держусь выжидающе, ибо долгий опыт подсказал мне, что за одним заговором всегда скрывается другой, еще более хитрый, более коварный. В последнее время я, однако, вознамерился связать отдельные отрезки нити, ориентирующей меня в лабиринте. По времени мои попытки совпали с моментом, когда я начал отходить от науки, этого мира света. Впоследствии, примерно в 1947 году, я осознал, что у Сартра все было связано со зрением и что он тоже укрылся в чистой мысли, а чувство вины побуждало его к добрым делам. Вина = слепота? В конце концов, что такое «новый роман», школа вИдения, объективность? Или опять-таки наука, чистое вИдение объекта инженером Роб-Грийе. Не зря Натали Саррот [243]243
Натали Саррот(1900—1999) – французская писательница, представительница течения «неороманистов».
[Закрыть]смеется над «мнимыми безднами сознания». Смеется… Это так говорится. По сути все они страшатся, все без исключения избегают мира тьмы. Ибо силы мрака не прощают тех, кто пытается выведать их тайны. Потому они и меня ненавидят – по той же причине, по какой коллаборационисты ненавидят тех, кто с риском для жизни сражается с врагом-оккупантом.
Знаю, мысль моя не очень ясна, можете мне этого не говорить. И многим из вас она покажется фантазией бредящего. Пусть думают, что хотят, – меня интересует только истина. И я, хотя бы отрывочно, при свете вспышек, едва позволяющих в десятые доли секунды увидеть грандиозные, бездонные пропасти, стараюсь это описать в некоторых моих книгах.
Так я думаю теперь. Потому что в ту зиму 1938 года я еще ничего не понимал. Мое пребывание в лаборатории совпало с серединой нашей жизни, когда, по мнению некоторых оккультистов, происходит переворот в понимании смысла жизни. Так было с людьми знаменитыми, с Ньютоном и Сведенборгом, с Паскалем и Парацельсом. Почему бы это не могло произойти с людьми менее одаренными? Бессознательно я делал поворот от светлой части своего существования в темную.
В это время, в разгар глубокого духовного кризиса, я через Бонассо познакомился с Домингесом. До сих пор я никогда еще не рассказывал, что на самом деле произошло при этом и какой опасности я подвергался, – сам-то Домингес не захотел или не сумел избежать этой опасности и в конце концов покончил собой. (Ночью 31 декабря 1957 года он в своей мастерской вскрыл себе вены, залив кровью холст на мольберте.) Я знаю, что за силы были в этом замешаны. Они действовали уже намного раньше, чем он выколол глаз Виктору Браунеру, и этот эпизод был всего лишь одним из проявлений их козней.
Человек находит то, что он сознательно или бессознательно ищет. Я говорю о встречах судьбоносных, а не о пустячных. Если ты столкнулся с кем-то на улице, это столкновение почти никогда не имеет решающего значения в нашей жизни. Но оно имеет значение, если было не случайным, а вызванным невидимыми силами, действующими на нас. И с Домингесом я встретился не случайно, и также не случайно это произошло тогда, когда я должен был оставить науку. Наша встреча имела огромное значение, хотя в тот момент это не было видно. Время берет на себя задачу расставить впоследствии факты в должном порядке, и то, что сперва казалось совершенно обычным, предстает в дальнейшем во всей своей значительности. Таким образом, прошлое не есть нечто кристаллизованное, как полагает кое-кто, оно есть некая конфигурация, изменяющаяся по мере того, как наша жизнь продвигается вперед и обретает свой истинный смысл в миг нашей смерти, когда оно, прошлое, уже окаменеет навек. Если бы в этот миг мы могли обратить на него свой взгляд (и возможно, умирающий так и поступает), мы бы наконец увидели истинный пейзаж, на фоне которого складывалась наша судьба. И мельчайшие подробности, недооцененные нами при жизни, выявились бы как серьезные предупреждения или как меланхолические прощальные приветы. И даже то, что мы считали простыми шутками или мистификациями, может в перспективе, раскрываемой смертью, превратиться в зловещие пророчества.
Примерно то же самое происходило в это время с сюрреализмом.
Я ходил в мастерскую Д. работать (прошу понимать этот глагол в самом гротескном смысле) над той штуковиной, которую я окрестил «литохронизмом» и которой позже Бретон [244]244
БретонАндре (1896—1966) – французский поэт, автор «Манифеста сюрреализма» (1924).
[Закрыть]уделил внимание в последнем номере «Минотавра». Все это – и изобретенные нами «манфраги», от которых мы корчились со смеху, и письмо к Даладье [245]245
ДаладьеЭдуард (1884—1970) – французский политический деятель, премьер-министр в 1928—1940 гг.
[Закрыть]о Папе, и проделки в метро – казались простыми забавами, подобными тому, что делали другие, и побуждавшими многих невосприимчивых людей к мысли, что сюрреализм это просто жульничество. А на самом деле даже в то время, когда мы, актеры, полагали, что просто дурачимся (так было с Д. и со мною), мы, сами того не зная, подвергались смертельным опасностям – как ребенок, играющий на поле давнего сражения снарядами, которые он считает безобидными и которые вдруг взрываются, сея разрушение и смерть. Громогласные теоретические декларации заверяли, что сюрреализм ставит своей целью открыть врата сокровенного мира, запретной территории, и все это частенько опровергалось всяческими кульбитами и дурачествами. Но неожиданно вырвались демоны. Кто лучше, чем Д., может служить иллюстрацией к этому мрачному парадоксу?
Не знаю, известна ли вам история Браунера, румынского еврея, занимавшегося явлениями предчувствий и ясновидения. Он приехал в Париж в 1927 году и, кажется через Бранкузи [246]246
БранкузиКонстантин (1876—1957) – румынский скульптор, с 1904 г. работавший в Париже.
[Закрыть], также румына, познакомился с Джакометти [247]247
ДжакометтиАльберто (1901—1966) – швейцарский писатель и художник сюрреалист.
[Закрыть]и Танги [248]248
ТангиИв (1900—1955) – французский художник-сюрреалист.
[Закрыть]. Они потом представили его Бретону. Теперь слушайте внимательно, что я расскажу дальше. В течение десяти лет, то есть с 1927 до 1937 года, он писал картины, изображавшие мир бессознательного, наваждение, касавшееся глаз, некоторые картины были очень впечатляющими. Картины, где глаз заменен женским половым органом или превращен в бычий рог, картины, где люди лишены одного или обоих глаз. Но самое удивительное – это один из его автопортретов, написанный в 1931 году, где точно изображена трагедия, протагонистом которой стал Домингес в 1938 году. Браунер написал серию автопортретов, где изображал себя с проколотым глазом или с пустой глазницей. Но автопортрет 1931 года еще более ужасен – там правый глаз пронзен стрелой, на которой висит буква «Д». Есть и другой, почти невероятный факт: в том же 1931 году Браунер сфотографировал фасад дома, где потом произошла эта ужасная сцена, – мастерская Домингеса, дом номер 83 на бульваре Монпарнас. Он думал, что делает портрет одной ясновидящей, стоящей перед зданием, но в действительности сфотографировал дом, в котором предстояло совершиться принесению его в жертву. Браунер вернулся в Румынию. Однако в 1938 опять приехал в Париж, «чтобы его изувечили». Несколько лет спустя он написал: «Это увечье живо во мне, как в первый день. С течением времени оно становится главным событием моего существования».