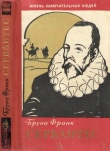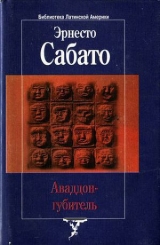
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
Сильвия засмеялась.
– Значит, ты из семьи неаполитанцев?
Не совсем. По материнской линии были испанцы.
– Что ж, замечательно. Итальянцы, испанцы, мавры, евреи. Это моя теория о новой Аргентине.
Какая теория?
– Что Аргентина – равнодействующая трех великих сил, трех великих народов: испанцев, итальянцев и евреев. Если ты чуточку подумаешь, то поймешь, что отсюда происходят наши достоинства и наши недостатки. Да, конечно, еще есть баски, французы, югославы, поляки, сирийцы, немцы. Однако основа идет оттуда. Три великих народа, но с такими недостатками – ой-ой-ой! Один израильтянин в Иерусалиме говорил мне: разве это не чудо? Посреди пустыни? В окружении миллионов арабов? Несмотря на войну? Да нет же, ответил я, именно благодаря ей. В тот день, когда наступит мир, да не попустит этого Иегова, он и минуты не продлится. Представляешь, Сильвия, два миллиона евреев без войны? Два миллиона президентов республики. Каждый с собственными идеями об образе жизни, армии, образовании, языке. Попробуй ими управлять. Продавец сандвичей заводит с тобой беседу о Хайдеггере. А испанский индивидуализм? А итальянский цинизм? Да, три великих народа. Вот так комбинация, Боже правый! Тут единственное, что могло бы нас спасти, – это хорошая, оздоравливающая национальная война, но не сейчас, а лет этак пятьдесят назад.
– Похоже, вы большой пессимист.
– Верно.
– Так почему же вы пытаетесь бороться? Почему остаетесь здесь?
– Почем я знаю.
Он озабоченно посмотрел на нее.
– Ты состоишь в какой-нибудь перонистской организации?
Она не отвечала.
– Я хочу сказать, в какой-нибудь марксистской организации перонистов.
– Да, то есть нет… Я колеблюсь, у меня есть друзья… еще посмотрю…
– Но ты марксистка?
– Да.
– Видишь ли, я продолжаю думать, как во времена – как бы это выразиться – во времена моего приобщения к вере, что Маркс один из философов, перевернувших современное мышление. Впоследствии, однако, я начал кое от чего отказываться… Ты помнишь удивление Маркса, его недоумение по поводу греческих трагиков?
– Нет.
– Он, так сказать, был озадачен, почему эти поэты и сейчас его волнуют несмотря на то, что социальные структуры их эпохи исчезли. Пришлось допустить существование «метаисторических» ценностей в искусстве, что наверняка его устыдило. Ты изучаешь философию?
– Нет, я на литературном факультете, – призналась она, словно в этом было что-то несуразное.
– А мне показалось, что тебя больше интересует философия.
– Наверно, так и есть. Я больше читаю книги по философии, чем художественную литературу. Но, кажется, прочла очень мало и очень поверхностно.
– Не огорчайся. Я тоже не так уж много изучал философию. Правда, я немного больше, чем писатель, потому что вот уже лет тридцать занимаюсь проблемой человека. Кризиса человека. Свои скудные философские познания приобретал отрывочно благодаря своим личным поискам – в науке, в сюрреализме, в революции. Это результат не библиотечных штудий, а моих терзаний. В философии у меня огромные пробелы, в общем, такие же, как в литературе, как во всем. Как бы это тебе объяснить?
Он задумался.
– Ну, словно бы я был исследователем, ищущим запрятанное в сельве сокровище, и, чтобы добраться до него, мне пришлось бы преодолеть опасные горы, бурные реки, пустыни. Много раз я сбивался с пути, не знал, куда идти дальше. Думаю, спасло меня не что иное, как инстинкт жизни. И что ж, эту дорогу я знаю, по крайней мере, прожил ее, а не вычитал из книг по географии. Но я не знаю бесчисленное множество вещей вне этой дороги. Больше того, они меня не интересуют. Я мог усвоить только то, что возбуждало во мне живой интерес, то, что было связано с тем сокровищем.
Сильвия казалось еще сильнее наклонила голову вперед, будто стремясь что-то разглядеть.
– Да, понимаю, – сказала она отрывисто.
С. ласково посмотрел на нее.
– Вот и хорошо, – сказал он. – Ты спасла себя от литературного факультета. Но на самом-то деле такой, как ты, этот факультет не может повредить.
Он поднялся.
– Пойдем, пройдемся еще чуть-чуть.
Пока они шли, он ей объяснял:
– Почти в то же время, когда я занимался физикой, я увлекся марксизмом. И таким образом мне удалось поучаствовать в двух потрясающих течениях нашей эпохи. В пятьдесят первом году я опубликовал то, что можно было бы назвать итогом этих двух течений: «Люди и механизмы». Меня едва не распяли.
Смех его прозвучал горестно.
– Представляешь? Я говорил там о другом отчуждении, о технологическом. И о преклонении перед техникой. Меня назвали реакционером за то, что я нападаю на науку. Наследие мыслей Просвещения. Получается, чтобы быть приверженцем социальной справедливости, надо стать на колени перед вольтовой дугой.
Он нагнулся, поднял камушек и бросил его в пруд. После недолгой паузы продолжил:
– Теперь это не так постыдно, после Маркузе и бунта молодых североамериканцев и парижских студентов. Но тогда – что и говорить – я был жалким южноамериканским писателем.
В тоне его сквозила горечь.
– Но технологическое отчуждение возникает из-за неправильного применения машины, – заметила Сильвия. – Машина не ведает морали, она по ту сторону этических ценностей. Она как ружье – ее можно использовать в том или ином направлении. В обществе, цель которого человек, технологическое отчуждение никогда не возникнет.
– Доныне такого общества нет, где проверили бы истинность твоего утверждения. В больших странах с коллективистским строем мы видим такую же роботизацию, как в Соединенных Штатах.
– Быть может, это преходяще. Кроме того, как разрешить проблему человека и экспоненциального роста населения, если не производить в массовом масштабе продукты и вещи? А для массового производства требуются наука и технология. Можно ли отвергать технику, когда три четверти человечества умирают от голода?
– Бедность, социальную несправедливость надо уничтожить. Я хочу сказать, что не следует из бедствия недоразвитости впадать в бедствие гиперразвитости. Из нищеты – в общество потребления. Посмотри на североамериканскую молодежь. Там рабство похуже рабства нищеты. Не знаю, может быть, голод все же предпочтительней наркотиков.
– Но что же вы в таком случае предлагаете?
– Не знаю. Знаю лишь то, что мы должны осознать эту страшную проблему. Поскольку мы пока среднеразвитые, остережемся того, чтобы не повторить катастрофу сверхразвития.
– Если бедные страны не развиваются, они тем самым поддерживают свое рабское состояние. Вести на боливийских рудниках разговор против материальных благ, разве не будет это утонченной издевкой?
– Ты знаешь, я никогда не оправдывал эксплуатацию. Я всегда говорил и продолжаю говорить – хотя теперь это нелегко и не вызывает симпатий, – что не стоит свершать кровавые революции ради того, чтобы дома заполнялись бесполезной дребеденью и детьми, доведенными телевидением до кретинизма. Если судить по результатам, найдутся беднейшие страны, более достойные, чем Соединенные Штаты. Например, Вьетнам. Чем они победили самую технически развитую страну мира? Верой, духом самопожертвования, любовью к своей земле. Духовными ценностями.
– Это так. Но вы мне не сказали, как обеспечите продуктами – уж не говорю о дребедени – население, умножающееся в экспоненциальной прогрессии.
– Не знаю. Возможно, надо было бы стабилизировать рост населения в мире. Но в любом случае я знаю, чего не хочу. Не хочу ни суперкапитализма, ни суперсоциализма. Не хочу суперстран с роботами. В Израиле мне с презрением рассказывали об одном кибуце: там производят обувь в три или в четыре раза более дорогую, чем производят в Тель-Авиве. Но кто сказал, что миссия кибуцов делать дешевую обувь? Их миссия – делать людей. У тебя есть часы?
Сильвия поднесла часы почти к самым глазам. Было десять минут восьмого. Они стояли на террасе старинной усадьбы. Облокотившись на перила, С. ей рассказывал, что когда-то река текла у подножия этой террасы, где теперь мчатся бешеные автомашины. «Печальный старый парк», – произнес С., как бы говоря с самим собой.
Что он сказал?
Ничего. Просто думал.
– Великий миф Прогресса, – сказал он наконец. – Индустриальная революция. С Библией в руках – всегда выгодно совершать подлости под благородными предлогами – уничтожали целые культуры, огнем и мечом разрушали древние африканские или полинезийские общины, не оставляя камня на камне. Ради чего? Ради того, чтобы осчастливить их изготовленной в Манчестере дешевкой, чтобы нещадно эксплуатировать; в Бельгийском Конго туземцам отрубали кисти рук за кражу любой мелочи – это они-то, ограбившие целую страну. Но негров не только обратили в рабство, у них отняли их древние мифы, их гармонию с космосом, их наивное счастье. Современное варварство, европейская спесь. Теперь мы расплачиваемся за этот страшный грех. Расплачиваются за него отравленные наркотиками, пропащие ребята в Лондоне и Нью-Йорке.
– Не впадаете ли вы в романтическую ностальгию по проказе, или по недоеданию, или по дизентерии?
С. посмотрел на нее с добродушной иронией.
– Оставим это, Сильвия. Давай лучше поговорим на другую тему, там, на собрании, она осталась необсужденной. Согласен, что марксизм метко критикует некоторые социальные и экономические стороны нашего общества. Но есть и другие явления, которые ему не поддаются.
Не поддаются? Сильвия обернулась к нему.
– Разумеется. Искусство, сны, миф, религиозный дух.
Сильвия робко (контраст между Сильвией на собрании, смелой, ироничной, блестящей, и Сильвией здесь, в парке, был удивительный) стала ему доказывать, что в марксистском атеизме больше политики, чем богословия. Целью марксизма, мол, была не смерть Бога, а уничтожение капитализма. Критиковали религию в той мере, в какой она являлась помехой для революции.
С. смотрел на нее с благодушным недоверием.
Как? Он не согласен?
– Что церковь поддерживала эксплуатацию, это известно. Я же тебе говорил о Библии в Африке. Но сейчас я имею в виду другое, я говорю не о политической позиции церкви, а о религиозном духе. Маркс действительно был атеистом, действительно верил, что религия – это мошенничество. В точности как наши псевдоученые.
И он засмеялся.
– Телевидение – опиум для народа, так должен звучать его афоризм. Но ты не сердись. Я Марксом восхищаюсь – он вместе с Кьеркегором положил начало восстановлению конкретного человека. Но сейчас я имею в виду его веру в науку, которая, как ты видишь, привела нас к другому роду отчуждения. Вот в этом пункте я отстраняюсь от его теории. Так же я отношусь к крупным неомарксистам вроде Косика [156]156
КосикКарел – чехословацкий философ 60-х гг.
[Закрыть]. Они по сути рационалисты.
– Но диалектический метод теперь не тот простой метод, что был прежде.
– Диалектический он или нет, он остается абстрактным. И они хотят все обосновать, все объяснить. Я, конечно, говорю не о тех, кто «объясняет» Шекспира первоначальным накоплением капитала. Это просто вздор.
Он сел и задумался. Потом после паузы прибавил:
– Смотри, что произошло с мифом. Энциклопедисты смеялись: сплошной обман, сплошная мистификация. И, кстати, здесь корень нынешней путаницы: демистификацию путают с демифологизацией. Ученые помирали со смеху. Ты не знакома с этими людьми так, как я, работавший рядом с нобелевскими лауреатами в крупных исследовательских центрах. Но вот случай, который мне кажется драматическим. Случай Леви-Брюля. Ты это знаешь?
– Нет, я только знаю Леви-Стросса. Они что, родственники?
– Нет. Тот, о ком я говорю, пишется с игреком, Levy. Он писал труд с намерением доказать развитиепервобытной ментальности к научному сознанию. И знаешь, что произошло с беднягой? Он состарился, стараясь это доказать. Но он был честен и кончил исповедью в своей неудаче, признав, что пресловутая «первобытная» ментальность не является показателем низшего состояния человека. И что в сегодняшнем человеке сосуществуют обе ментальности. Ужасно, не правда ли? Заметь, что пресловутая «первобытная» ментальность – эпитет меня смешит, но ничего не поделаешь, – внушила Западу идею, будто научная культура выше культуры, например, полинезийцев. Что ты на это скажешь? А наука, конечно же, выше искусства. Когда я оставил физику, профессор Усай перестал со мной раскланиваться. Ты об этом знала?
– Нет.
– Согласно мысли Просвещения, человек развивался в той мере, в какой он удалялся от мифо-поэтической стадии. В 1820 году это великолепно выразил некий кретин, Томас Лав Пикок [157]157
Томас Лав Пикок(1785—1866) – английский романист и поэт.
[Закрыть]: мол, поэт в наше время – это дикарь в цивилизованном мире. Как тебе это нравится?
Сильвия молчала, задумавшись.
– Исследование бедняги Леви-Брюля обнаружило, до какой степени эта идея ошибочна и вдобавок лжива и высокомерна. Случилось то, что должно было случиться: миф, вытесненный мыслью, нашел себе убежище в искусстве, которое таким образом стало профанацией мифа, но в то же время – его восстановлением. И это доказывает две вещи: во-первых, что миф непобедим, что он является глубокой потребностью человека. Во-вторых, что искусство спасет нас от тотального отчуждения, от грубого разделения магического мышления и логического мышления. В человеке все это совмещается. Поэтому роман, где одна нога там, другая здесь, это, пожалуй, наилучший способ выражения человека во всей его полноте.
Он наклонился и выложил камешками букву «Р».
Когда-то один немецкий критик спросил меня, почему это у нас, латиноамериканцев, есть великие романисты, но нет великих философов. Потому что мы дикари, ответил я, потому что мы, к счастью, спаслись от великого рационалистического раскола. Как спаслись русские, скандинавы, испанцы – люди периферии. Если хотите знать наше Weltanschauung [158]158
Мировоззрение (нем.).
[Закрыть], сказал я ему, ищите его в наших романах, а не в нашей научной мысли.
Он переложил камешки в виде квадрата.
– Я имею в виду, разумеется, романы всеобъемлющие, а не простые повествования. Да, из Европы нам указывают, что в романе не должно быть идей. Требуют полной объективности. Бог мой! Поскольку центром всякого художественного вымысла является человек, – нет ведь романов о столах или о брюхоногих моллюсках, – это утверждение абсурдно. Эзра Паунд сказал, что мы не можем позволить себе роскошь пренебрегать философскими и богословскими идеями Данте или пропускать те пассажи в его повести или в метафизической поэме, которые выражают эти идеи с наибольшей ясностью. И оправданны не только идеи воплощенные, но также чистейшие платоновские идеи. Разве не люди до них возвысились? Так почему нельзя создать роман с Платоном в роли главного героя, если только мы не упустим большую часть его духа? Современный роман, по крайней мере в своих самых амбициозных образцах, должен стремиться к полному охвату человека – от его бреда до его логики. Какой закон Моисеев это запрещает? Кто владеет абсолютным регламентом с предписаниями, каким должен быть роман? Tous les écarts lui appartiennent [159]159
Ему свойственны все отклонения (фр.).
[Закрыть], сказал Валери [160]160
ВалериПоль (1871—1945) – французский поэт и автор философско-художественной прозы.
[Закрыть]с осуждающим отвращением. Он думал, что уничтожает роман, а на деле только превозносил его. Противный рационалист! Я говорю «роман», потому что ничего более гибридного не существует. На самом деле следовало бы придумать такое искусство, где чистые идеи смешивались бы с танцем, вопли – с геометрией. Нечто осуществляемое в герметичном, священном пространстве, некий ритуал, где жесты сочетались бы с чистой мыслью, а философские рассуждения – с плясками зулусских воинов. Комбинацию Канта с Иеронимом Босхом, Пикассо с Эйнштейном, Рильке с Чингисханом. Пока мы не обретем способность столь полного выражения, будем хотя бы защищать право на создание романов-чудищ.
Он опять переложил камешки, и опять в виде буквы «Р».
– Только в искусстве раскрывается действительность, я хочу сказать всядействительность. А нам, видите ли, твердят, что такая мифологизация искусства реакционна, устарела, что отдает XVIII веком, романтиками. Несомненно, Вико [161]161
ВикоДжамбаттиста (1668—1744) – итальянский философ, теоретик литературы, поэт.
[Закрыть], этот проторомантический гений, уже ясно видел то, что много лет спустя другие мыслители не могли понять. Он начинает то, что потом будет делать Юнг и – парадоксальным образом, ибо к этому они придут, отталкиваясь от псевдоучености, – Леви-Брюль и Фрейд. Идеи немецкого романтизма подверглись забвению или пренебрежению со стороны нашей высокомерной культуры. Стало быть, надо их вытащить на свет, чтобы они снова заблистали. Шопенгауэр сказал, что бывают моменты, когда реакция выступает как прогресс, а прогресс – как реакция. Ныне прогресс состоит в том, чтобы восстановить эту старую идею. Философы немецкого романтизма были, после Вико, первыми, кто ясно понял суть дела. Они также предчувствовали идею структуры. Идею вернули, однако люди науки выбросили ее за борт. Взгляни.
Он указал ей на один из камешков.
– Научная ментальность действует так: вот этот камешек – полевой шпат, полевой шпат разлагается на молекулы, молекулы – на такие-то и такие-то атомы. От сложного к простому, от целого к частям. Анализ, разложение. Так мы двигались.
Сильвия посмотрела на него.
– Я не говорю о техническом прогрессе. Конечно, когда речь идет о камнях или атомах, такой метод годится. Я говорю о бедствии, причиненном предположением, будто этот же метод применим к человеку. Человек – не камень, его нельзя разложить на печень, глаза, поджелудочную железу, пясти. Он есть нечто цельное, структура, где каждая часть не имеет смысла без целого, где каждый орган влияет на все остальные и все остальные влияют на него. У тебя заболевает печень, и глаза желтеют. Разве могут быть специалисты только по глазам? А наука все разделила. И самое серьезное – она разделила тело и душу. В прежние времена, если у тебя не флегмона или ты не сломал ногу, ты не считался больным, ты был un malade imaginaire [162]162
Мнимый больной (фр.).
[Закрыть].
Он положил камешек на прежнее место. Поднялся и оперся на перила.
– Там, внизу, тот мир, который мы получили, продукт науки. Скоро нам придется жить в стеклянных клетках. Боже мой, неужели такое может быть чьим-то идеалом!
Сильвия размышляла. Он снова сел.
– Миф, подобный искусству, это особый язык. Он выражает определенный тип действительности тем единственным способом, каким эта действительность может быть выражена, и он несводим к другому языку. Приведу тебе простой пример: ты прослушала квартет Белы Бартока, выходишь из зала, и кто-то просит, чтобы ты ему этот квартет «объяснила». Конечно, такую глупость никто не сделает. А между тем мы так поступаем по отношению к мифу. Или к литературному произведению. То и дело кто-нибудь просит меня объяснить «Сообщение о Слепых». То же происходит со сновидениями. Люди хотят, чтобы им объясняли кошмары. Но ведь сон выражает действительность тем единственнымспособом, каким эта действительность может быть выражена.
Он задумался.
– Любопытно, – сказал он, помолчав, – что такой человек, как Косик, допускает подобную проясняющую роль искусства, но не мифа. Вот где у него сказываются следы мысли Просвещения. Но когда он рассуждает о мифе, то говорит, что благодаря диалектическому методу мы можем перейти от простого мнения к науке, от мифа к истине. Понимаешь? Миф для него – род лжи, мистификация. Переходя от магического мышления к рациональному мышлению, ты якобы прогрессируешь. То же происходило и с Фрейдом при всей его гениальности. Кстати, меня всегда удивлял дуализм Фрейда. Этакий двуличный гений: с одной стороны, интуиция в познании бессознательного, темного, делает его родственником романтиков; с другой, позитивистское воспитание превращает его в своего рода доктора Аррамбиде.
– Аррамбиде?
– Это я так, думал вслух…
Он опять задумался, и после паузы заговорил:
– Свет против тьмы. Бесполезно, слишком уж она глубока. Люди всегда были убеждены, что создания мифологии должны иметь понятный смысл. И что если его скрывают фантастическими образами и символами, надо их «демаскировать». Забавно, что происходит с Косиком… Когда будешь читать его книгу, увидишь, какой это незаурядный ум. И все же… С одной стороны, он говорит, что искусство демифологизирует, что оно революционно, ибо ведет от ложных идей к самой действительности. Но сути мифа он не понимает. Например, сновидение – это всегда чистая правда. Как оно может лгать? То же происходит и с искусством, когда оно подлинно глубокое. Любое правовое учение вполне может быть мистификацией, может быть орудием, которым пользуется привилегированный класс, чтобы законно себя увековечить. Но как может быть мистификацией «Дон Кихот»?
Впервые после долгого молчания, когда Сильвия, сосредоточившись в себе, казалось, размышляла, она решилась заметить:
– Я согласна. Но думаю, что в марксизме есть большая доля истины, когда он утверждает, что искусство возникает не на пустом месте, а на основе общества определенного типа. Как бы то ни было, какая-то связь между искусством и обществом существует, какой бы она ни была. Некая гомология, однородность.
– Разумеется. Между искусством и обществом какая-тосвязь существует, как существует какая-тосвязь между ночным кошмаром и дневной жизнью. Но это словцо «какая-то» следует изучать с лупой, так как от него происходят все ошибки. Тебе заявляют: посколькуПруст был ребенком из обеспеченной семьи, его произведения – это гнилое выражение несправедливого общества. Понятно? Связь есть, но она не обязана быть прямой. Она может быть обратной, антагонистической, бунтом. Не отражением, не этим пресловутым отражением. Она – творческий акт, которым человек обогащает действительность. Сам Маркс утверждал, что человека порождает человек. Что так же опровергает пресловутое отражение, как удар сапогом по зеркалу. И здесь, как во многих других положениях марксизма, следует снять шляпу перед Гегелем с его идеей самотворения человека. Человек, творящий самого себя, проявляет это во всем, в чем его субъективный дух может это сделать, – начиная с локомотива и кончая поэмой. Пойдем выпьем кофе.
Они отправились в кафе на углу улиц Брасиль и Дефенса.
– На этом дурацком собрании у меня не хватило ни спокойствия, ни терпения, ни желания все это объяснять. И вдобавок я не обязан сдавать экзамен перед начетчиками вроде Араухо, который за двадцать семь минут до того открыл для себя марксизм в каком-нибудь учебничке. Эти революционеры видят только замаскированные классовые интересы в каждом произведении искусства, созданном кем-то из привилегированного класса. От них много вреда, так как находятся люди, полагающие, что, отвергая эту карикатурную идею, они отвергают Маркса. Маркс восхищался монархистом Бальзаком и, напротив, посмеивался над коммунистом Валлесом [163]163
ВаллесЖюль (1832—1885) – французский писатель, общественный деятель. Был членом Парижской коммуны. В романе «Инсургент», вышедшем посмертно (1886), описал превращение интеллигента в борца, участника Коммуны.
[Закрыть], написавшим произведение, озаглавленное, кажется, «Инсургент». И он бы отнесся с презрением к той пролетарской литературе, которую в России насаждают огнем и мечом. Между этой стряпней и произведением сноба из Шестого округа, влюбленного в герцогинь, выбор ясен: в веках останется именно этот балованный ребенок.
Они снова оказались возле львов.
– Дело в том, что художественное творчество возникает у человека как целого. Слышишь? Как целого. Не только из его сознательной части, из идей, которые могут быть ошибочными и обычно такими и бывают, – даже Аристотель чудовищно заблуждался, – но также из его бессознательного, недоступного влиянию экономических отношений. Теперь тоже есть страдающие Эдиповым комплексом, как в эпоху Софокла. И они никак не связаны с греческими экономическими отношениями. Теперь те же проблемы жизни и смерти, бренности, страха и надежды. Границ человеческой природы, существующих с тех пор, как человек есть человек. Потому-то греческие трагедии волнуют нас и ныне, хотя социальные структуры, в которых они возникли, уже не существуют.
Когда они подошли к кафе, С. увидел, что уже больше восьми часов, и сказал, что должен уйти. Как-нибудь в другой раз они снова побеседуют.
Когда?
Он не знает.
Но она может ему написать?
Да.
Он ответит?
Да.
Род бессмертия души,
думал Бруно, а не настоящее бессмертие. Ибо та Алехандра, которая продолжает жить в Мартине и, объятая огнем, является и жжет сердце и память юноши, как угли под слоем пепла, будет жить, пока живет Мартин и пока существует он сам, Бруно, и, возможно, Маркос Молина и даже Борденаве и другие люди (великодушные или злобные, далекие или близкие), когда-то отразившиеся в ее душе, в какой-нибудь чудесной или отвратительной частице ее духа. Ну, а потом? С годами ее образ будет блекнуть, становиться все более смутным и неясным, превращаться с ходом времени в частицы все более туманные и далекие – как воспоминание о странах, которые мы посетили в юности и которые потом были опустошены бурями и катастрофами, войнами, смертями, разочарованиями; большая часть этих воспоминаний будет меркнуть из-за постепенного исчезновения тех, кто когда-либо встречался с Алехандрой, и ее душа будет все сильнее съеживаться, стареть вместе со старением живых, умирая вместе со смертью тех, кто так или иначе был причастен к этому общему им волшебству, – в любви или в желании, в трепетном чувстве или в постыдной продажности. И тогда мало-помалу придет окончательная смерть. Уже не того тела, которое однажды обнажилось перед дрожащим Мартином в старинном бельведере в районе Барракас, но духа, еще фрагментарно жившего в душе Мартина и в памяти самого Бруно. Стало быть, не подлинное бессмертие, но что-то вроде умирания, продленного и разделенного с людьми, отражавшими или преломлявшими дух Алехандры. А когда и они умрут (Мартин и Бруно, Маркос Молина, Борденаве и даже Молинари, от которого Мартина стошнило) и умрут также их наперсники, тогда навек исчезнет последнее воспоминание о воспоминании и даже отражения этих воспоминаний у других, далеких людей, исчезнут все следы чудес, падений, чистейшей любви и грязного секса.
– Что? Что ты сказал? – спросил тогда Бруно. Мартин ему ответил, что рано утром он почувствовал, будто его сильно трясут за плечи. И думая, что видит сон, он увидел над собой призрачное лицо Алехандры, когда уже и надеяться не мог на что-либо. И она угрюмым, прерывающимся голосом сказала:
– Просто хотела тебя повидать. Вернее, мне необходимо было тебя повидать. Оденься, я хочу выйти отсюда.
Пока Мартин одевался, она дрожащей рукой зажгла сигарету и принялась готовить кофе. Одеваясь, Мартин, завороженный, не мог отвести от нее глаз ни на мгновение: на ней была меховая шубка, казалось, она пришла с какого-то празднества, но была не накрашена, измождена, под глазами круги. К тому же и одета была крайне небрежно, словно человек, вынужденный поспешно откуда-то бежать, как при пожаре или землетрясении. Он подошел к ней и хотел было ее приласкать, но она крикнула, чтобы не трогал ее, и он застыл, окаменев. Свое предупреждение она выкрикнула с яростным сверканьем глаз, что было ему так хорошо знакомо, когда она бывала напряжена, как пружина, – вот-вот сломается. Но тут же она попросила прощения и уронила чашку.
– Вот видишь? – заметила она, словно извиняясь.
Руки ее все еще дрожали, как в сильной лихорадке. Мартин вышел умыться, но главное – привести в порядок свои мысли. Когда вернулся, кофе был готов, Алехандра сидела задумавшись. Мартин знал, что лучше ни о чем ее не спрашивать, и они выпили кофе молча. Потом она попросила аспирин и, по своей привычке, разжевала таблетку без воды, после чего выпила еще кофе. Немного спустя поднялась, словно к ней возвратилось прежнее беспокойство, и сказала, что можно идти.
– Пройдемся по берегу. Или лучше поднимемся на мост, – прибавила она.
Какой-то моряк оглянулся на них, и Мартин с болью подумал, что он примет ее за шлюху в этой меховой шубке, с таким лицом, в такой ранний час.
– Напрасно беспокоишься, – сухо заметила она, угадывая его мысли. – В любом случае он останется ни с чем.
Они поднялись на мост и, дойдя до середины реки, облокотились на перила, глядя в сторону устья, – как прежде, как во времена бесконечно более счастливые, времена, которые в этот миг (думал Бруно) казались Мартину принадлежащими какой-то прошлой жизни, в далекой инкарнации, о которой вспоминаешь смутно, как о сновидении. Ночь была одной из холодных, облачных августовских ночей, сбоку дул порывами юго-восточный ветер. Но Алехандра распахнула шубку, будто желая замерзнуть, и жадно глубоко дышала. Наконец, она застегнулась, сжала руку Мартина и, устремив взор на воду, сказала:
– Мне так хорошо: быть с тобой, смотреть на дома, на людей, которые работают и делают простые, полезные и точные вещи: винт, колесо. Мне хотелось бы стать мужчиной, стать одним из них, чтобы разделить их скромную участь.
Она задумалась и от окурка догоравшей сигареты прикурила другую.
– Мы занимались духовными упражнениями, размышлениями в одиночестве.
Мартин, не понимая, смотрел на нее. Она рассмеялась недобрым, отчасти демоническим смехом.
– Разве ты не слыхал о падре Лабуру? Он так описывал ад, что мы дрожали от страха. Вечная кара. Шар, вроде земного, падающая капля воды, которая его уничтожает. И когда этому шару приходит конец, появляется новый, такой же. А потом еще и еще, – слышите, девочки, миллионы шаров величиной с нашу планету. Бесконечное количество шаров. Представьте себе, девочки. И все это время тебя поджаривают на вертеле. Теперь мне это кажется таким наивным. Ад – здесь.
Она снова умолкла, жадно посасывая сигарету.
Вдали на реке прозвучала сирена парохода.
Как далеки теперь их мечты покинуть Буэнос-Айрес!
Мартину подумалось, что в тот момент Алехандра имела в виду не путешествие, а смерть.
– Мне бы хотелось умереть от рака, – сказала она, – чтобы побольше страдать. Болеть таким раком, который терзает целый год, и ты гниешь как положено.
Она опять рассмеялась жестким смехом, потом надолго замолчала и, наконец, сказала: «Пошли».
Они направились к Вуэльта-де-Роча, не разговаривая. Когда вышли на улицу Аустралия, она остановилась, с силой повернула его к себе и, уставившись ему в лицо глазами бредящего в жару больного, спросила, любит ли он ее.
– Твой вопрос – идиотский, – огорченно и уныло ответил Мартин.
– Ладно. Слушай хорошенько, что я сейчас скажу. Ты очень плохо делаешь, что меня любишь. И хуже того, я умоляю тебя об этом. Мне это необходимо. Понял? Необходимо. Даже если я тебя больше никогда не увижу. Мне необходимо знать, что в каком-то месте этого мерзкого города, в каком-то уголке этого ада есть ты и что ты меня любишь.
И словно из иссохших щелей в раскаленном камне могли бы появиться капли воды, в глазах ее блеснули скупые слезы и потекли по жесткому, изможденному лицу.
Между этой Алехандрой и той, которую он два года назад встретил в буэнос-айресском парке, пролегла бездна темных веков.
И вдруг она, не простившись, почти бегом пошла по улице Аустралия по направлению к своему дому.
Бруно заметил, что Мартин, как обычно, смотрит на него вопросительно, будто в нем, в Бруно, скрыт ключ к зашифрованному документу, каким были его отношения с Алехандрой. Но Бруно на его безмолвный вопрос не ответил – он размышлял о возвращении Мартина, после пятнадцати лет, в места, оживлявшие неотступное воспоминание. Когда Мартину едва исполнилось восемнадцать, он, гонимый одиночеством юного сердца, бродил по тем же тропинкам парка Лесама, по которым бродит теперь, в тридцать три года, будучи зрелым мужчиной, не сумевшим, однако, избавиться от этого бремени и выдававшим свое смущение и нежность тем, как он вертел в руках перочинный ножик с белой рукояткой, который он столько раз открывал и складывал перед Алехандрой и перед самим Бруно, глядя на него и его не видя, меж тем как в уме у него звучали слова любви и отчаяния. Старые скромные дорожки, немощенные и усыпанные щебнем, теперь покрылись твердым асфальтом, убрали статуи (за единственным чудесным исключением копии Цереры, перед которой началось то волшебство), убрали деревянные скамьи с глупейшим рвением аргентинцев не оставлять ни следа от неказистого, но именно поэтому трогательного прошлого, думал Бруно. Нет, теперь это уже не был парк Лесама времен его юности, и ему пришлось уныло сесть на чужую, холодную цементную скамью, чтобы смотреть издали на ту самую статую, которая в некие сумерки 1953 года присутствовала при безмолвном призыве Алехандры. Нет, Мартин ему так не сказал, конечно же, нет. Стыдливость мешала Мартину говорить о столь многозначительных вещах, как время и смерть. Но Бруно мог угадать его мысли, ибо этот юноша (этот мужчина) был как бы его собственным прошлым, и Бруно мог расшифровать самые тайные мысли Мартина, скрытые столь обычными словечками, как «черт возьми», «как жаль», «эти цементные скамьи», «эти асфальтовые дорожки», «не знаю», «я думаю», меж тем как юноша открывал и складывал свой ножик, как будто проверяя, хорошо ли он работает. И по этим банальным признакам Бруно реконструировал истинные чувства Мартина и представлял себе его в тот вечер – как он часами смотрит на статую Цереры, пока ночной мрак еще раз не опустится на одиноких, обдумывающих свою судьбу, а также на влюбленных, лелеющих страстные мечты или упивающихся тихим волшебством своей любви. И возможно (нет, наверняка), он теперь услышал снова глуховатый звук сирены далекого парохода, как в то немыслимое время первой встречи. И возможно (нет, наверняка), его затуманившиеся глаза нелепо и скорбно ищут ее среди теней.