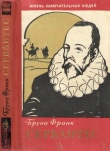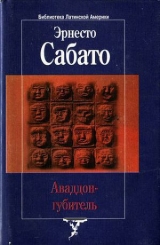
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц)
Маска лектора, выступающего перед дамами, он улыбается и демонстрирует кукол,
хорошо воспитанный
учтивый господин,
хорошо одетый и нормально питающийся господин.
Не бойтесь, дамы и господа,
этот хищник приручен, его зубы подпилены,
вырваны, сгнили, расшатались
от надлежащей пищи.
Он уже не тот зверь, что жрет сырое мясо,
что нападает в сельве и убивает.
Он утратил свою величавую дикость.
Заходите, дамы и господа.
Зрелище специально для семейного досуга,
приводите тетушку в День тети
и свою матушку в День матери.
Вот, глядите.
Полоборота направо,
гоп!
Приветствуй почтенную публику.
Вот так,
очень хорошо,
получай свой кусок сахару.
Гоп, гоп!
Дамы и господа,
специально для семейного досуга,
могучий лев: ты грезишь,
послушно исполняешь заученные
пируэты
с легкой, нежной и тайной иронией.
Жалкие люди, но в конце концов
есть дети, и они меня любят,
вот так, поворот, прыжок сквозь обруч, раз, два – гоп!
прекрасно
и мне снится сон о родной сельве
в ее древней мгле
пока я рассеянно исполняю трюки
точно и ловко прыгаю сквозь пылающий обруч
меня сажают на стул
я машинально рычу
вспоминая бледные лагуны
на лугах
куда я когда-нибудь вернусь
уже навсегда
(я знаю, верю, желаю)
сожрав укротителя
как некий символ
пристойного прощанья
в приступе бешенства
напишут в газетах
его голова неожиданно исчезла в пасти
кровь хлынула рекой какой ужас!
поднялась паника
а я на миг увидел во сне
свою родину жестокую но милую
гордое княжество
церемониал урагана и смерти
я беглец от позора
оживший от свинской грязи
для чистоты птиц и дождя
для возвышенного одиночества.
Заходите, дамы и господа,
этот хищник укрощен
зрелище специально для семейного досуга
вот, смотрите, гоп!
приветствуй почтенную публику
пока я думаю о сельве дикой но прекрасной
о ее лунных ночах
о моей матери.
Презентация книги Т. Б.
о смерти и одиночестве. На фотографиях в журнале он увидел сборище людей, пивших вино, евших сандвичи и хохотавших. Можно было различить все те же лица, включая смертельных врагов Т. Б., – они до коктейля, и после, и даже во время торжества потешались у него за спиной над его стихами.
Ницше, подумал он.
Очень захотелось поговорить с кем-то неграмотным, глотнуть свежего чистого воздуха, сделать что-нибудь руками: смастерить столик, починить трехколесный велосипед для девчушки вроде Эрики. Сделать что-нибудь скромное, но полезное. Чистое.
Он погасил свет.
Как в другие подобные часы отвращения, скорби о людях (о себе самом), возникло то воспоминание. О чем? Что было в его жизни самым главным? В сумерках он нес доктору Гринфельду записи о расчете бесконечно малых величин. Серебристые купола обсерватории спокойно и таинственно светлели в тихо надвигавшейся темноте, как безмолвные связующие звенья с космическим пространством. Он шел по дорожкам между загадочно притихших деревьев рощи в Ла-Плате. Гармония вселенной с ее светилами и орбитами. Точные теоремы небесной механики.
Ему захотелось вернуться в Ла-Плату,
в дом, ныне чужой, пробраться в него, как пришелец, как грабитель воспоминаний. И он снова вспомнил тот летний вечер, когда, приехав, тихо вошел в столовую и увидел ее сидящую за большим столом, – в полутьме опущенных жалюзи она глядела в никуда, верней, в свои воспоминания, лишь в обществе старых тикающих стенных часов.
В счастливое время, когда справляли ее день рождения
и я был счастлив, и никто еще не умер,
и все сидели вокруг огромного стола, и стояли у стены старинные большие серванты и сервировочные столы, и отец сидел во главе стола, а мать напротив него, на другом конце, и все смеялись, когда Пепе рассказывал свои байки, невинные выдумки семейного фольклора
и я пережил себя самого
как погасшая спичка
и стол накрыт на большее число персон
и краше узоры на посуде и куда больше бокалов
– Как поживаешь, мама? – спросил он.
– А я тут думала, – ответила она, и ему почудилось, что ее глаза затуманились.
Ну ясно.
– Недаром сказано, что жизнь есть сон, сын мой.
Он молча смотрел на нее. Чем он мог ее утешить? Она, наверно, видит там, в прошлом, девяносто призрачных лет.
Потом она порылась в шкафах, всегда запертых на многие секретные замки.
– Вот это кольцо, когда я умру… Я хранила его для тебя.
– Да, мама.
– Оно моей прабабушки, Марии Сан Марко.
Маленькое, золотое, с эмалевой печаткой, буквы «М» и «С».
Потом они сидели молча друг против друга. Время от времени она перечисляла: Фортуната, помнишь ее? Усадьба дона Гильермо Боера. Твой дядя Пабло, подагра.
Надо было уходить. Надо было уходить? Ее глаза опять затуманились. Но она была стоического нрава, из семьи воинов, хотя об этом не любила говорить, даже отрицала.
Он еще помнил ее стоящей в дверях, она легонько махала правой рукой, не слишком печально: не подумай чего… Уже издали он обернулся: опять она одна.
Остановись, мое сердце,
не думай.
На улице деревья начали загадывать свою безмолвную вечернюю загадку.
Он еще раз обернулся. Она робко повторила прощальный жест.
Новая встреча
Вошли две старушки, изнемогающие от жары и, возможно, от долгого ожидания на кладбище Реколета. Сели за столик, попросили чаю с булочками.
– Бедный Хулито, – сказала одна, еще немного разгоряченная. – Умереть в феврале, когда в Буэнос-Айресе ни души [74]74
Февраль самый жаркий месяц, и «весь свет» в это время находится на модных курортах. Реколета – аристократическое кладбище (Примеч. исп. издателя).
[Закрыть]. Непутевый был юноша, но все же под конец как-то приспособился к действительности, увлекся искусством. Да, конечно, страх терзал его. И тут он вообразил себя сильной личностью, вроде Р., существом мрачным и грозным. Но все же продолжал жить, как все, приходил в «Штангу», и даже имел успех (эти пакостные стихи всегда имеют большой успех, людям требуется разрядка), и если бы сам Р. стал писателем, он тоже, наверно, в конце концов ходил бы во французское посольство и читал там лекции. Главное, надо иметь терпение, господа. Что могут сделать эти юнцы? Плеваться, убивать себя, продаваться. Если Бога нет, все дозволено.
А он все думал о ней и уже терял надежду вновь ее встретить. Теперь эта потребность увидеть ее, поговорить с ней становилась нестерпимой. Он вышел и, поднявшись по отлогому откосу, сел на одну из скамеек вблизи памятника Фалькону [75]75
ФальконХуан Крисостомо (1820—1869) – генерал и политический деятель.
[Закрыть].
И тут он ее увидел, она шла, ступая неуверенно, словно по опасному месту, где можно провалиться.
Секунду поколебавшись, он решил подойти к ней. Все эти месяцы он думал, что она будет его искать, и в какой-то мере эта встреча такое предположение подтверждала – она не могла не знать, что он здесь часто бывает, бродит по парку, пьет кофе в «Штанге», сидит на какой-нибудь скамейке. Возможно, она из робости не решалась зайти в бар и предпочитала блуждать по парку, чтобы встреча была случайной или хотя бы казалась таковой.
Он приблизился, пошел рядом, но так как она шла, не глядя на него, взял ее под руку. Она молча взглянула, не удивляясь, чем подтвердила догадку, что она его искала.
– Ты здесь близко живешь? – спросил он.
– Нет, – ответила она. – Мы живем в районе Бельграно.
– А что ты тут делаешь возле Реколеты?
Вопрос этот вырвался как бы невольно, он тут же о нем пожалел – получалось, будто он ее вынуждает признаться в желании встретить его снова.
– Ходить здесь никому не запрещается, – ответила она.
Ему стало неловко. Оба остановились, глядя друг на друга, ситуация была довольно нелепая, девушка стояла потупившись.
– Простите меня, – вдруг сказала она. – Я вам нагрубила.
– Не имеет значения.
Девушка подняла глаза, пристально на него посмотрела и, покраснев, поджала губы.
– И не только нагрубила. Я еще и солгала.
– Знаю, но это не имеет значения.
– Как это – вы знаете?
Он не нашелся, что ответить, чтобы ее не задеть. Подвел ее под руку к скамье, оба сели. Долго молчали, девушка внимательно разглядывала газон и, наконец, решила объясниться.
– Выходит, вы знаете, что я хотела вас видеть. Что я уже несколько недель брожу здесь.
Он ничего не ответил, слова были не нужны. Оба знали, что встреча неизбежна. И что если бы это не произошло, все было бы куда хуже.
Агустина возвратилась уже затемно
Она пришла удрученная, отчужденная, совсем не та суровая Агустина, что прежде. Из каких страдальческих краев она явилась? Начо поднял правую руку ладонью к сестре, и отвернулся, как человек, не желающим видеть нечто очень печальное.
– Какая новая беда обрушилась на этот дом? Мне кажется, я вижу Электру в великой скорби.
Агустина упала на кровать.
– Сними эту пластинку, – сухо приказала она. – Мне осточертел твой Боб Дилан.
Брат опустил руку, секунду поглядел на сестру, потом, опустившись на колени, выключил проигрыватель, стоявший у них на полу, среди книг, старых газет и тарелок. И, стоя на коленях, с тревогой следил за сестрой.
– Я Орест, – нежно и робко пробормотал он. – Не ищи лучшего друга.
На коленях он подполз к ней, как ползут верующие на богомолье в Лухане [76]76
Лухан– город в провинции Буэнос-Айрес, в котором находится почитаемое изображение Богоматери.
[Закрыть].
– Вот видишь? Я дал обет. – И, сев на край кровати, он взял ее руки и поднес к своей груди. – Ты забываешь, Электра, что я был для тебя самым любимым мужчиной. Ты это сказала нашему отцу на могильном холме, над его гробом. Совершая обряд искупительных возлияний. Когда взывала к Гермесу Подземному, посланцу богов высших и низших. Когда демоны слышали твои молитвы, демоны, охраняющие отцовские могилы.
– Хватит, Начо. Я смертельно устала.
– О, Зевс! Воззри на это, ты видишь потомков орла, лишившихся отца и удушаемых в объятиях беспощадного змея! Воззри на нас, осиротевших и изгнанных из отчего дома!
– Говорю тебе, я смертельно устала.
Внезапно изменившимся, будничным и сердитым тоном Начо сказал:
– Вот шлюха мерзкая! Я видел ее в машине Переса Нассифа.
– Ну и что?
– Похоже, тебя это не трогает, – бросил Начо. И, вспылив, закричал, неужели ей не стыдно, что эта шлюха устроила ему работу в конторе этого мерзавца.
– Ну и пусть, будем жить на общественную благотворительность.
В исступлении Начо кричал, что говорит с ней серьезно.
– Не кричи! Довольно. – Лицо Агустины стало жестким. – Дурень, тебе все надо объяснять. Ты не понимаешь, что в любом случае, соглашаясь, выказал ей максимум презрения. И больше мне об этой женщине ни слова, – мрачно заключила она.
Брат саркастически напомнил ей, что эта женщина их мать, а мать у каждого только одна. Потом он встал, направился в свой угол и принес пакетик, обернутый в цветную бумагу и с красной тесемкой, – «подарок».
– Что еще за шутовская выходка? – устало спросила Агустина.
– Ты забыла про День матери?
Пакет был крошечный. Агустина посмотрела на брата.
– Знаешь, что я ей посылаю? – Он злорадно усмехнулся – Презерватив.
Он вернулся в свой угол, присел на кровать и, помолчав, сказал:
– Я хочу предложить тебе заключить пакт.
– Перестань мне надоедать своими пактами.
– Один-единственный. Малюсенький пакт.
Агустина не отвечала.
– Микропакт. Пакт-карлик.
– Для чего?
– Это – испытание.
– Что еще за испытание?
– Это мое дело, – загадочно ответил Начо.
– Хорошо. Говори скорей, а то я уже засыпаю.
– Начо принес пластинку с фотографией Джона Леннона и Йоко на конверте.
– Чтобы ты никогда не слушала эту пластинку, – сказал он, показывая ее сестре.
– Почему?
– Вот-вот! Это и есть испытание! Ты уже ничего не понимаешь! Ты окончательно отдалилась от меня! – закричал он, бросая фото в лицо сестре.
Агустина скучающе посмотрела на него.
– Не понимаешь? Эта дерьмовая японка во всем виновата!
Обессиленный, он сел на край кровати рядом с сестрой, бормоча словно про себя: «Эта бесстыжая, этот паршивый ублюдок». Потом снова стал приставать:
– Так ты согласна?
– Ладно. Дай мне поспать.
Начо швырнул пластинку на пол, принялся ее топтать и с бешеной яростью разломал на куски. Завершив дело, он посмотрел сестре в глаза, как бы ища какой-то знак. И в конце концов пошел к кровати, растянулся на ней и выключил ночник. Немного погодя, голосом, который будто двигался в темноте по тайным тропам, прежде им известным, а теперь заваленным препятствиями и секретными ловушками, расставленными коварным захватчиком, едва нашел в себе силы сказать:
– С нами что-то случилось, Агустина?
Она не ответила, лишь погасила также свой ночник. С изумлением, переходившим в отчаяние, Начо понял, что она погасила свет, чтобы раздеться. В мглистом свете, падавшем из окна, он видел, как она снимает одежду.
Тогда он тоже разделся и лег. Он смотрел в ее сторону бесконечно долго (в уме всплывало детство, собаки, укромные уголки в парке Патрисиос, карамельки, одинокие часы сьесты, ночи, заполненные плачем и объятиями), и все это время он чувствовал, что она тоже не спит и тревожно размышляет, – дыхание было не такое, как у спящей. Судорожно напрягшись, он спросил, спит ли она.
– Нет, не сплю.
– Я приду? – с трепетом спросил он.
Она не ответила.
Минуту поколебавшись, Начо поднялся и подошел к ее кровати. Он сел и, поглаживая лицо сестры, почувствовал на ее щеках слезы.
– Оставь меня, – сказала она мягко, но с интонацией, какой он прежде никогда не слышал. И прибавила: – Лучше ты меня не трогай.
Начо опешил, не зная, как себя повести рядом с нею, с этим телом, к которому едва прикасались его руки и которое было теперь таким чужим и далеким. Он медленно поднялся и, подойдя к своей кровати, рухнул на нее.
Твое тело и ловушка из нежного шелка
ведущая на плантации
берега
пот на твоих волосах обожженных тучами
в те незабвенные минуты
столько перемен в кочевьях и в подполье
столько почестей этой дикой красавице
которые требуют беспорядка
Все судороги переменчивой жизни
поспешность любовных ласк
магический фильтр анафемы
голодный свет невстречи в наших жилах
бьющих как плеть
и одинокое безумие пальмовых рощ
когда в разлуке
набухая в моей груди
из недр земли ко мне вдруг возвращаются
все наши ласки
яростный узел страсти
в черных кольцах времени
в грабительских меблирашках
сияние грудей в море
и его чайки и его музыка
над алтарем нашего разрыва
над огромными волшебными лунами
и вместо лугов твои глаза
страна неподкупная
страна дурманящая
с пьяным смехом в свисте ветра
и твоими волосами на моем лице.
Первое сообщение Хорхе Ледесмы
В мире все вверх ногами. Это еще один резон быть оптимистом, так как пока никто нас не опередил.
Я постоянно терплю неудачи, так что даже смешно. Родился простофилей, и теперь вдруг не знаю, что мне делать. К примеру, в последний раз я взобрался нагишом на фонарный столб на углу улиц Коррьентес и Суипача. Рассчитал: в субботу, в пять вечера. Продержали меня в кутузке несколько месяцев.
Хочу Вам признаться, Сабато: я не хотел приходить в этот мир, никак не хотел. Мне было так уютно, что когда настало время выходить на свет, я заартачился, повернулся задом. Но все равно меня вытащили, силой. Все делается силой, во имя чего-то лучшего. Тут-то я и понял, что этот мир не иначе как сплошное дерьмо. С Вами, наверно, тоже происходило нечто похожее. Да, знаю, мы в проигрыше. Но теперь надо держаться. Мы с Вами такие люди, что выложим все начистоту, мы двое несчастливых. У меня, правда, есть то преимущество перед Вами, что я невежда.
Пишу Вам, чтобы сообщить, что в предвидении своей смерти я назначаю Вас моим наследником. Не желаю, чтобы со мной случилось так, как с Маркони, – когда он умер, никто не мог понять его опытов. Моя семья уже извещена об этом.
Донн пишет: «Никто не спит в повозке, везущей его на виселицу». Вы об этом упомянули. Поразительно. Я уже давно исследую знаменитую Аристотелеву проблему: над! отыскать Первоначало, тогда все остальное приложится. Так вот, Сабато: я отыскал первоначало. Я знаю, кАк и для чего мы сотворены. Вы сознаете, что я сказал? Я хочу быть краток и ничего не приукрашивать. Теория должна быть безжалостна, и если ее создатель сам к себе не относится жестко, она обращается против своего создателя. Страх, что непредвиденный случай может отправить меня на кладбище Чакарита с моим грандиозным открытием, побудил меня написать Вам. Я должен все предвидеть и рассчитать, и тщеславие тут ни при чем. И особых иллюзий я не строю. Вольтер считал Руссо сумасшедшим, а Каррель [77]77
КаррельАлексис (1873—1944) – французский хирург и патофизиолог, нобелевский лауреат (1912).
[Закрыть]считал Фрейда вредоносным. Меня единственно интересует человек – безвестный, жалкий, кругом одинокий: чтобы не потерялся кончик клубка, который мне удалось обнаружить. И пусть истина, подобно пожару в сельве, озарит картину того, как лев и газель спасаются вместе.
Я знаю, почему и для чего поместили нас в этот бардак и причину нашего неизбежного уничтожения. Сами понимаете, это предполагает открытие эталонапо которому можно измерить все человеческие действия. Бог был необходимым этапом, но лет через сто школьники будут над ним потешаться, как мы теперь потешаемся над Птолемеем. Если Кант говорил, что этого не может быть, причина в том, что он не стремился, как стремимся мы, добраться до сути. Ослиный педантизм, с которым он в один и тот же час проходил по одним и тем же улицам, доказывает его почтение к установленному порядку. Ему было так удобно в нашем хаосе, что он объяснял его вместо того, чтобы устранить. Как можно примириться с тем, что тебя против твоей воли поместили на этой планете и в надлежащий час, отвратительно старого, с ужасными муками, вытолкнут вон без каких-либо объяснений или извинений? И мы должны бояться этого типа лишь потому, что он родился в Германии? Тем временем миллионы лет, не считаясь ни с Кантом, ни со всей наукой, ни с расщеплением атома, человек, подобно каким-нибудь мухам или черепахам, рождается, страдает и умирает, не зная почему. Нет, Сабато, со мной это не пройдет.
Я проделал дырочку и принялся шпионить. И приглашаю всех, кто не боится, подглядывать за леденящим душу зрелищем.
Если мое невежество вызывает у Вас усмешку, вспомните, что Фарадей постиг все науки из книг, которые переплетал. Я Вам пишу, потому что увидел Вас на вершине, замерзшего и безумного. Но если Вы когда-нибудь спуститесь вниз и начнете мыслить, как эти трусы здесь, внизу, Вы для меня превратитесь в некоего Сент-Бёва [78]78
Сент-БёвШарль Огюстен (1804—1869) – французский критик и поэт, считавший искусство важным общественным явлением, разрабатывал проблемы «художник и общество», «искусство и революционное движение».
[Закрыть]и станете мне противны.
Что я не лишен отваги, есть доказательство – я сумел забраться на фонарный столб нагишом, чтобы наказать себя за трусость и доказать себе, что я достаточно силен, чтобы смеяться над теми, кто вздумает смеяться надо мной. С той разницей, что я смеялся над ними сверху.
Пожалуйста, не умирайте до 1973 года – в этом году я пошлю Вам окончательную рукопись моего исследования. Мы на пороге новой эры. Нам придется претерпеть всевозможный произвол, преступления и несправедливость. Опять запылают костры. Но тщетно. Эра «моральной технологии» началась. Подобно тому как миллионы лет назад прозрели наши предки, у нас открываются новые глаза. Какое зрелище, Сабато! И как великолепно будет грядущее для тех, чья нервная система сумеет его вынести!
Если сила антимира меня уничтожит, завещаю Вам придать должную форму моей рукописи и опубликовать все то, что окажется в Ваших руках.
Он проснулся с криком
Он только что видел ее, она шла, окруженная пламенем, длинные черные волосы развевались и искрились от яростных вспышек на бельведере, она походила на безумный живой факел. Казалось, она бежит к нему, просит о помощи. И внезапно он ощутил огонь в собственной груди, ощутил, как кипит его горящая плоть и как под его кожей трепещет тело Алехандры. Острая боль и ужас пробудили его.
Пророчество сбывалось.
Но это была не та Алехандра, которую меланхолически воображают себе некоторые, и не та, которую Бруно с его безвольным, созерцательным умом пытается интуитивно угадать, но Алехандра снов и огня, жертва и палач своего отца. И Сабато снова спрашивал себя, почему явление Алехандры словно напоминает ему о его долге писать, даже вопреки всем противящимся этому силам. Словно необходимо еще раз заняться расшифровкой этих загадок, все больше теряющихся во мраке. Словно от этого сложного и подозрительного безумия зависит не только спасение души девушки, но также его собственное спасение.
«Но спасение от чего?» – чуть ли не закричал он в тишине своей комнаты.
Юный Муцио
хранил, как говорится, благоговейное молчание. Большие кожаные кресла, ожидание, значительность сеньора Рубена Переса Нассифа, боязливые шаги служащих внушали ему некую смесь страха, стыда и неприязни, на фоне которой всплывали клише и обрывки фраз, вроде:
Потребительское общество
Капитализм, Буржуи кровопийцы
Смена системы, и т. д.
А за ними, в щелях между ними он как бы видел неприятное, насмешливо требовательное лицо Начо Исагирре, этого мелкобуржуазного контрреволюционера, этого гнилого реакционера.
Он попытался отогнать неприятное видение, мысленно сокрушая его лапидарными фразами: надо изменить систему! Восставать против отдельных лиц, вроде Переса Нассифа, все равно, что подавать милостыню на улице! Или социальная революция или ничто!
Но после каждого выпада лицо Начо появлялось снова, всякий раз со все более саркастической усмешкой.
Тогда он попробовал отогнать видение, сосредоточась на «Советах тем, кто хочет разбогатеть» Бенджамина Франклина (вставленных в рамку).
Помни, что время – деньги.
Помни, что доверие – это деньги. Если кто-то оставляет в моих руках деньги, которые я ему должен, он тем самым оставляет мне проценты и все, что мог бы заработать на эти деньги за это время. Таким образом, человек, пользующийся доверием и умеющий правильно его употребить, может накопить значительную сумму.
Помни о том, что деньги плодовиты и продуктивны. Деньги могут производить деньги, их потомство опять-таки может производить деньги, и так далее. Выгодно вложенные пять шиллингов превращаются в шесть, эти в семь, и, прогрессивно умножаясь, сумма дойдет до 100 фунтов. Чем больше сумма денег, тем больше она производит, будучи выгодно вложена, и прибыль непрерывно увеличивается. Тот, кто режет свинью, уничтожает все ее потомство, тысячи свиней. Кто попусту тратит монету в 5 шиллингов, убивает все, что она могла бы породить: целые колонны фунтов стерлингов. Следует учитывать самые мелкие действия, способные повлиять на ваш кредит. Удары твоего трудового молота по наковальне, которые твой кредитор услышит и в 5 часов утра, и в 8 часов вечера, удовлетворят его на полгода.
Но стоит ему увидеть тебя за бильярдом или услышать твой голос в таверне в часы, когда ты должен работать, он на другой же день напомнит о твоем долге и потребует свои деньги прежде, чем ты сумеешь их заработать. Веди счет своим расходам и доходам. Если ты не поленишься обратить внимание на эти мелочи, то обнаружишь, как смехотворно крохотные траты превращаются в крупные суммы, и сколько бы ты мог сэкономить и еще сумеешь сэкономить в будущем. Кто попусту тратит ежедневно всего одно пенни, выбрасывает на ветер в год 6 фунтов, которые могли бы ему принести 100 фунтов. Тот, кто ежедневно тратит свое время на сумму в одно пенни, теряет возможность располагать к концу года сотней фунтов.
Интересные выдержки, интервью
Ваш возраст, сеньор Перес Нассиф?
42 года, женат.
Дети есть?
Трое – 15, 12 и 2 лет. Сына, он старший, зовут Рубен, как отца. Старшая дочь – Моника Патрисия. Младшая, Клаудия Фабиана, родилась, когда уже не ждали, когда супруга и сам сеньор Перес Нассиф были удовлетворены парой старших.
Как началась его карьера?
Всем известно, что начал он как младший служащий на предприятии «Санипер», и этим скромным началом гордится. Аргентина, слава Богу, отличается тем замечательным качеством, что здесь упорством и верой в свое блестящее будущее можно достигнуть самых высоких постов. В качестве существенной, если угодно, детали могу признаться, – но я хотел бы, чтобы это осталось off the record [79]79
Не записанным (англ.).
[Закрыть], – что сеньор Ламбрускини выбрал меня среди шести юношей, потому что заметил в моем лице нечто, предвещающее успешную карьеру. Это буквально его слова. Впоследствии он всегда напоминал всем, как сеньор Ламбрускини с первого взгляда поверил в его скромную особу.
Кто бы мог подумать, что однажды он займет положение, настолько более высокое, чем то, что занимал сеньор Ламбрускини!
Вот так-то, мой юный друг Муцио. Это закон жизни. Надо, однако, сказать, что сеньор Ламбрускини являл собой пример сочетания трудолюбия и честности, что признавалось всеми сотрудниками. Благодаря людям такого склада и достоинств фирма «Санипер» смогла стать тем, чем является теперь. И хотя ныне он не состоит в штате, поскольку перешел на заслуженную пенсию, его фигура символична и, можно сказать, окружена патриархальным почитанием в этом доме. Хотелось бы вспомнить сейчас и подчеркнуть его самоотверженность, безупречную честность, дух самопожертвования и любовь к большой семье, каковую представляет собой «Санипер». Вплоть до того, что он, Перес Нассиф, лично должен был приказать сеньору Ламбрускини впервые за тридцать лет непрерывном службы прогулять, чтобы пройти необходимый медицинский осмотр, когда здоровье его стало ухудшаться. Люди такого склада создают величие родины. Как раз на днях состоялись похороны сеньоры его матери и несмотря на печальные обстоятельства он, Перес Нассиф, порадовался, видя, что сеньор Ламбрускини держится так же прямо, как в лучшие времена.
Какие другие фирмы находятся в ведении сеньора Переса Нассифа?
Кроме, разумеется, «Санипера», он президент фирмы по продаже недвижимости «Перенас» и вице-президент рекламного агентства «Пропарт». Все это посты весьма ответственные, но они не мешают заниматься другими делами, посторонними основной фирме, но служащими на благо отечеству. Разве не так? Ладно, ладно, не надо преувеличивать мои заслуги, ибо эти занятия долг каждого и особенно тех, кому посчастливилось достичь высоких постов. Я имею в виду «Клуб львов» в Ломасе [80]80
Ломас-де-Самора – пригород Буэнос-Айреса.
[Закрыть], где состою с 1965 года.
Затем сеньора Переса Нассифа спрашивают, есть ли основание для слухов о большом расширении его фирмы в других областях производства. Конкретно речь идет о возможной интеграции в «Санипер» предприятия по выпуску изделий санитарии и гигиены.
Сеньор Перес Нассиф предполагает, что пока преждевременно говорить об этой перспективе, но он не может отрицать, что такой замысел входит в планы фирмы на ближайшее будущее. Нет, нет, не надо извиняться, вопрос совершенно закономерен, и он полагает, что, сообщая об этом, вряд ли выдает некую важную тайну. Вдобавок проблема эта отнюдь не простая, здесь требуется предварительный тщательный маркетинг ввиду трудностей, которые переживает национальная промышленность в целом и сектор санитарно-гигиенических изделий в частности.
Причины?
Их много и очень сложных. Сейчас не время углубляться в детали этого рода, но, когда настанет должный час, он охотно их приведет. Кое-что можно, правда, указать и сейчас: чрезмерная конкуренция и неуверенность в национальной политике по отношению к промышленности. Он принадлежит к числу тех, кто верит в будущее нации, однако нынешняя политическая ситуация заставляет немного выждать.
Входят ли, по мнению сеньора Переса Нассифа, в эту нерадостную картину политические мотивы? То, что можно было бы определить как неуверенность в обеспечении сбыта?
Без всякого сомнения. Нам необходимо иметь быстрый сбыт внутри страны, согласно с теми направлениями, которые традиционно нам присущи. Незачем лишний раз повторять, что наше умонастроение не приемлет какие-либо иностранные влияния, какие-либо попытки вовлечь наш народ в идеологические течения, не соответствующие нашему характеру и традициям. Базу, на которой мы должны строить Аргентину будущего, должно составлять то, что принято называть западными христианскими идеалами. На эту тему я как раз делал доклад в филиале нашего «Клуба львов», недавно открытом на улице Булонь.
И так далее.
Дорогой незнакомый юноша,
ты просишь советов, но я не могу тебе их дать ни в обычном письме, ни даже в моих эссе, идеи которых отражают не столько то, чем я являюсь на самом деле, сколько то, чем я хотел бы быть, не будь я воплощен в этой гнилой или загнивающей падали, каковой является мое тело. Я не смогу тебе помочь одними этими идеями, скачущими в сумятице моих видений, словно буйки, укрепленные на якоре и сотрясаемые яростной бурей. Скорее я бы мог тебе помочь (и, возможно, уже это сделал) смесью моих идей с кричащими или молчаливыми призраками, исшедшими из меня в мои романы, – там ненавидят и любят, сдерживают или уничтожают друг друга, поддерживая и уничтожая меня самого.
Я не отказываюсь протянуть тебе руку, о чем ты просишь меня из своего далека. Но то, что я могу тебе сказать в письме, немногого стоит, порой даже меньше, чем мог бы ободрить тебя один взгляд за чашкой кофе, который мы бы пили вместе, или на прогулке по лабиринтам Буэнос-Айреса.
Ты впадаешь в уныние, потому что кто-то сказал тебе что-то. Но этот друг, или знакомый (какое обманчивое слово!), находится слишком близко, чтобы судить тебя, он склонен думать, что раз ты ешь, как он, значит, он тебе равен, или, поскольку он тебя осуждает, значит, в каком-то смысле он выше тебя. Это понятный соблазн: когда сидишь за одним столом с человеком, поднявшимся на Гималаи, то, наблюдая, как он держит нож, поддаешься соблазну считать себя равным ему или даже стоящим выше, забывая (стараясь забыть), что тут критерием суждения должны быть Гималаи, а не обед.
Тебе еще придется несчетное число раз прощать подобную наглость.
Истинно справедливый суд ты услышишь лишь от людей незаурядных, наделенных скромностью и чувствительностью, ясностью ума и великодушным пониманием. Когда брюзга Сент-Бёв утверждал, что этот шут Стендаль никогда не создаст шедевра, Бальзак говорил противоположное. Но это же естественно: Бальзак написал «Человеческую комедию», а тот господин – всего лишь романчик, название которого я не помню. Вот и над Брамсом потешались люди, подобные Сент-Бёву: неужто этот толстяк создаст что-либо значительное? На премьере Четвертой симфонии Хуго Вольф [81]81
ХугоВольф (1860—1903) – австрийский композитор и музыкальный критик.
[Закрыть]вынес приговор: «Никогда раньше ни в одном произведении тривиальность, пустота и ложная напыщенность не ощущались так явно. Искусство сочинять без идей и без вдохновения нашло в Брамсе своего достойного представителя». Между тем Шуман, удивительный Шуман, злосчастнейший Шуман, утверждал, что появился музыкант века. Дело в том, что, хотя это звучит парадоксально, восхищаться способен лишь человек, наделенный величием духа. Поэтому творец столь редко получает признание современников, почти всегда эту миссию выполняет потомство или, по крайней мере, то современное потомство, коим являются иностранцы. Люди, находящиеся далеко. Люди, не видящие, как ты пьешь кофе и во что одет. Если такое происходило со Стендалем и с Брамсом, как можешь ты падать духом из-за того, что сказал обычный знакомый, живущий по соседству? Когда появилась первая книга Пруста (после того как Андре Жид выбросил рукопись в корзину), некто Анри Геон написал, что этот автор «с ожесточением взялся создавать нечто, совершенно противоположное произведениям искусства: перечень своих ощущений, обзор своих знаний в механической последовательности – никакой целостности, никакого единства, никакого движения в пейзажах и в душах». То есть этот спесивый тупица критикует как раз то, что является сутью прустовского таланта. На какой скамье Вселенского Суда заплатят Брамсу за все страдания, которые он испытал, не мог не испытать в тот вечер, когда сам исполнял партию фортепьяно своего Первого концерта для фортепьяно с оркестром? Когда его освистывали и забрасывали грязью! Да что говорить о Брамсе, за простой скромной песней Диссеполо [82]82
ДиссеполоЭнрике (1901—1951) – аргентинский драматург и автор популярных песен.
[Закрыть]сколько таится страданий, сколько грусти, сколько отчаяния.