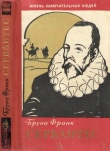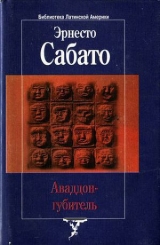
Текст книги "Аваддон-Губитель"
Автор книги: Эрнесто Сабато
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Вблизи площади Гранд-Бург он сделал передышку. Прилег на газон, поглядел на дом генерала Сан-Мартина и вспомнил школьную гравюру: генерал во Франции, седой, старый, сидит, задумавшись, над его головой дымка, а в ней Андский перевал, сражение.
За Автомобильным клубом и над ним темнело. День близился к своей гибели – в воздухе словно бы витало ожидание конца света, но не катастрофического, а мирного. Зато всеобъемлющего, планетарного. Сонм неизбежных трупов, жаждущие спасения люди в клинике знаменитого онколога застыли в молчании, без особых надежд, но еще живые, пусть дыхание жизни едва заметно.
Потом он возобновил свой трудный путь. Придя домой, поднялся в лифте и вошел в свою комнату с черного хода. Сел на кровать, прислушался к голосам собравшихся гостей. Сколько исполнилось его матери? Внезапно, сам не зная почему, подумал о ней с нежностью, о ее кроссвордах, о ее головушке, заполненной реками Малой Азии, кишечнополостными из четырех букв и любовью к своим детям, пусть неразумной и рассеянной: она ласкает Бебу, принимая ее за Сильвину, а Сильвину, принимая за Мабель. И путаница имен, фамилий, профессий…
Почему он подумал о матери, а не об отце?
В комнате почти совсем стемнело. На стене были едва видны фотографии Мигеля Эрнандеса [62]62
ЭрнандесМигель (1910—1942) – испанский поэт.
[Закрыть]анфас, маска Рильке, Тракль [63]63
ТракльГеорг (1887—1914) – австрийский поэт.
[Закрыть]в военной форме, портрет Мачадо [64]64
Мачадо-и-Руис Антонио (1875—1939) – испанский поэт.
[Закрыть], полуголый Гевара с откинутой назад головой, созерцающий человечество открытыми глазами, «Пьета» Микеланджело с телом Христа на коленях Матери, и у него голова откинута назад.
Взгляд Марсело остановился на маске Рильке, этого реакционера, презрительно говорил Араухо. Верно ли это? Рильке всегда был в смятении. По крайней мере за это его упрекал Араухо. Можно ли восхищаться и Мигелем Эрнандесом, и Рильке?
Рассеянным взором окинул он свою детскую библиотеку: Жюль Верн, «Путешествие к центру Земли», «Двадцать тысяч лье под водой». Внезапная боль пронзила грудь, пришлось лечь.
Коктейль
Доктор Карранса все смотрел на дверь, с тревогой и грустью ждал Марсело. Беба тем временем увлеченно говорила о брильянте «Надежда».
– Два миллиона!
– И как звали эту женщину?
– Мак-Лин, Эвелин Мак-Лин. Вы что, глухие?
– Значит, ее нашли в ванной, уже разложившейся?
– Да, соседи. Встревожились, что она не выезжает на машине.
– Вполне по-североамерикански – умереть в ванной.
– И ни единого следа насилия, ни таблетки снотворного, ни мартини. Жила размеренной, спокойной жизнью, пока не заимела брильянт. А приехав в Соединенные Штаты, устроила так, что его благословили.
– Кого благословили, Беба? – с обычным априорным скептицизмом спросил доктор Аррамбиде, накладывая себе тройную порцию ветчины с салатом.
– Да брильянт, говорю.
– Благословили брильянт? Они там все сумасшедшие, что ли?
– Почему – сумасшедшие? Вы разве не знаете, что брильянт этот прославился тем, что приносит несчастье?
– Зачем же тогда эта малоумная его купила?
– Кто может знать? Техасская причуда.
– Техасская? Разве она не была из высшего общества Вашингтона?
– Ну и что? Жительница Вашингтона может иметь ранчо в Техасе. Да или нет? Или тебе надо все повторять дважды, как в программах ТВ?
– Ладно, пусть так, благословили брильянт. А священники-то хороши!
– Ах, я забыла – она купила его потому, что, по словам самой Мак-Лин, вещи, которые другим приносят нечастое, ей приносят удачу. Как тем людям, которые нарочно селятся на тринадцатом этаже.
– Но в таком случае, – заметил неумолимый Аррамбите, не переставая уплетать сандвичи, – зачем трудиться благословлять его?
Вот дотошный!
Заговорили о благословениях и проклятиях, об изгнании злых духов.
– Допустим, что так, – гнул свое доктор Аррамбиде с застывшим на лице выражением удивления, будто ему на каждом шагу встречаются диковинные явления. – Но что же такого особенного произошло с этой североамериканской истеричкой?
– Как? Тебе мало? Такая смерть!
– Подумаешь! Все мы умрем и без проклятых брильянтов.
– Да нет же, вот непонятливый. Она умерла загадочнойсмертью.
– Загадочной? – удивился доктор Аррамбиде, беря еще один сандвич.
– Разве я не сказала, что ее нашли голой, в ванной? И без следов отравления.
– По-твоему, люди должны умирать одетые и отравленные?
– Да перестань в конце концов острить, история эта нашумевшая и очень странная. Разве не странно здесь все?
– Все? Что значит «все»?
– Не было ни яда, ни следов алкоголя, ни снотворных таблеток, ни следов насилия. Тебе этого мало? Вдобавок, после покупки брильянта ее сын погиб в автомобильной аварии.
– Через какое время? – холодно осведомился доктор.
– Какое? Через восемь лет.
– Черт возьми, проклятие, похоже, действовало не слишком проворно. И зачем же приписывать аварию брильянту? Здесь, в Буэнос-Айресе, каждый год погибают в авариях тысячи людей, не владевших брильянтом «Надежда». Уж не говоря о бедняках, у которых и машины-то нет. О тех, кто смиренно погибает под колесами чужих автомобилей.
Глаза Бебы метали молнии ярости. Это еще не все!
– Что еще там случилось?
– Ее мужа поместили в санаторий для душевнобольных.
– Видишь ли, Беба, если бы моя жена потратила два миллиона долларов на брильянт, да еще проклятый, я бы тоже угодил в психушку. К тому же, если тебе когда-нибудь доведется побывать в лечебнице в Виейтесе, ты там увидишь семь тысяч бедняг, у которых никогда не было брильянта «Надежда». Кстати, довольно занятное название для камня, причинявшего только аварии да приступы шизофрении.
– Нет, ты слушай дальше. Дочь ее отравилась снотворными таблетками.
– Так ведь такая смерть в Соединенных Штатах – почти естественная смерть. Столь же распространенная, как бейсбол.
Беба вся прямо искрилась, как лейденская банка, заряженная сверх нормы. Она перечисляла бедствия, еще прежде причиненные брильянтом: князь Канитовицкий был убит, султан Абдул Хамид потерял трон и фаворитку.
– Абдул который? – спросил Аррамбиде, словно недослышав порядкового номера, – одна из его хохм.
– Хамид, Абдул Хамид.
– Потерял что?
– Трон и фаворитку.
– Полно тебе перечислять беды, они ничего не доказывают.
Достаточно того, что он потерял трон.
Потому его и бросила турчанка.
Но Беба продолжала список: Зубаяба была убита, Симон Монтаридес с женой и сыном погибли, когда понесли лошади…
– Где ты все это вычитала? И почему так уверена, что это правда?
– Свидетели – очень известные люди. Да еще он принес беду Тавернье [65]65
ТаверньеЖан-Батист (1605—1689) – известный авантюрист, погиб в России, направляясь в Азию по Волге.
[Закрыть].
– Тавернье? Кто этот господин?
– Господи, все о нем знают. Этот человек в 1672 году вытащил брильянт из глаза индийского идола. Всему миру известно. Да или нет?
Он, Аррамбиде, был частью этих «всех», но понятия об этом не имел. Вот так создаются легенды. О Тавернье он слыхом не слыхал. Почему она так уверена в существовании этого господина?
– Он был французский авантюрист, даже кухарки о нем знают. Просто кое-кто читает только книги по гастроэнтерологии. А что потом приключилось с Тавернье! Ужас!
– Что же?
– Его сожрала стая голодных собак в русских степях.
Доктор Аррамбиде так и застыл с куском сандвича в руке и открытым ртом – как на моментальных снимках в еженедельных журналах. Нет, это уж чересчур – голодные собаки, русские степи, индийские идолы…
Марсело, умоляюще сказала Сильвина
Да, да, конечно.
Он вошел в гостиную, споткнувшись. Вечно он на что-будь натыкался, такой неловкий. Поцеловал мать, потом тихо сел в углу, подальше от шумного сборища, чуждый всему, глядя в пол. Немного спустя, стараясь не привлекать внимания, ушел.
Доктору Каррансе хотелось пойти вслед за ним, догнать сына. Но не решился, только молча смотрел на него, чувствуя ком в горле. И ему вспомнилось время, когда он вставал спозаранок, чтобы позаниматься с Марсело к экзаменам для поступления в университет.
Потом доктор Карранса тоже ушел и заперся в своей спальне.
Просто по слабости, думал С.,
заранее раздосадованный и угнетенный, чувствуя себя еще раз виноватым – сделает ли он то, что говорят, или не сделает. Ну ясно, скажет Беба, тебе нравится корчить из себя оригинала, не ходить в гости, создавать себе славу недоступного человека. Так что время от времени надо куда-то ходить. К тому же, жалко бедняжку Маруху.
Он смотрел на гостей, созванных Марухой по наивности: уж это ее идеальное и постоянное благодушие; она приглашает людей, которые один другого терпеть не могут.
– Ты просто его не знаешь, – убеждала она.
Бесполезно ей объяснять, что этого типа он терпеть не может именно потому, что его знает. Она, однако, была уверена, что войны бывают от непонимания, и бесполезно ей толковать о непревзойденной жестокости гражданских войн, о распрях свекрови с невесткой, о вражде братьев Карамазовых. И С. попивал виски в углу гостиной, пока доктор Аррамбиде смотрел на сборище с неизменный удивлением на лице (широко раскрытые глаза, приподнятые брови, лоб в крупных поперечных складках), словно в этот момент ему сообщили о присуждении Нобелевской премии какому-то ничтожеству. И вдруг, сам не заметив как, С. оказался в центре спора, потому что кто-то сказал, что жизнь замечательная штука, а Маргот, с вечно удрученным лицом и скорбно сведенными бровями, напомнила о раке и нападениях грабителей, о наркотиках, лейкемии и о смерти Пароди.
– Но наука движется вперед, – возразил Аррамбиде. – Раньше сотни тысяч людей погибали от эпидемий желтой лихорадки.
С. дожидался удобного момента, чтобы уйти, не обижая Маруху, но тут никак не мог себя сдержать и совершил то, что поклялся никогда не делать: вступил в спор с Аррамбиде. Конечно, сказал он, все это в прошлом, и теперь вместо холеры мы имеем азиатский грипп, рак и инфаркты. На что доктор Аррамбиде, иронически усмехаясь, готовился возразить, как вдруг кто-то начал перечислять мучения и пытки в концентрационных лагерях. Стали приводить примеры.
Одна гостья вспомнила, что в «Туннеле» говорится о случае с пианистом, которого заставили съесть живую крысу.
– Какая мерзость! – воскликнула другая.
– Может, и мерзость, но это единственное стоящее место в романе, – сказала упомянувшая о нем, предполагая, что автор где-то далеко. Или что он рядом.
Тогда-то в спор вмешался тот человек. С. казалось, что его представили как профессора чего-то на философском факультете.
– Читали вы статью Виктора Голланца [66]66
Виктор Голланц(1893—1967) – английский писатель, издатель и политический деятель левых взглядов.
[Закрыть]в «Сур»? [67]67
« Сур» («Юг») – литературный журнал, который издавала в Буэнос-Айресе писательница Виктория Окампо (1890—1979).
[Закрыть]
– Не говорите мне о Виктории, – сказала особа, похвалившая единственное удачное место романа.
– А я говорю не о Виктории, – возразил профессор. – Я говорю о статье Виктора Голланца.
– Ну и что там, в этой статье?
– Он рассказывает, что происходило в Корее, когда применили бомбы с напалмом.
– Бомбы с чем?
– С напалмом.
– Бомбы с напалмом, – уточнил доктор Аррамбиде, – применяли не только в Корее. Их применяют везде.
– Пусть так, ну и что с того? – спросила особа, упомянувшая о крысе. Тон ее голоса был отнюдь не ободряющим, она явно не ожидала чего-либо интересного от статьи, не имеющей отношения к Виктории.
– Он рассказывает, что они видели странное зрелище – человек стоял, раздвинув ноги, слегка наклонясь вперед и раскинув руки в стороны, чтобы не прикасаться ими к телу. Вроде классической позы шведской гимнастки. Глаз нет. Тело едва прикрыто обгоревшими лохмотьями. Обнаженные места, а их было много, чернели от толстого слоя коросты, испещренной желтыми пятнами. То был гной.
– Какой ужас! Какая гадость! – воскликнула особа, упомянувшая крысу.
– А почему он так стоял, раскинув руки и не двигаясь? – спросила сеньора, не питавшая симпатии к Виктории Окампо.
– Потому что он не мог дотронуться до своего тела. От малейшего прикосновения могло лопнуть.
– Что могло лопнуть? – спросила недоверчивая дам!
– Кожа. Не понимаете? Образуется жесткая, но очень непрочная корка. Жертва не может ни лечь, ни сесть. Приходится все время стоять, раскинув руки.
– Чудовищно! – комментировала сеньора, все время ужасавшаяся.
Но ненавистница Виктории Окампо все хотела уточнить:
– Ни лечь, ни сесть? А можно узнать, что они делают, когда устают?
– Голубушка, – ответил профессор, – мне кажется, в этом случае усталость не самое худшее. – И продолжил: – Бомба начинена сгущенной нефтью. При взрыве нефть так сильно прилипает к телу, к коже, что человек и нефть горят как единый факел. Но слушайте, Голланц приводит другой случай: как-то ночью он увидел двух огромных безобразных ящериц, они медленно ползли, издавая рычание и стоны, а за ними целая череда таких же ящериц. На несколько секунд Голланца парализовал страх и отвращение. Откуда могли взяться эти мерзкие рептилии? Когда немного рассвело, загадка разъяснилась: то были люди, обожженные огнем и лишившиеся кожи, любой твердый предмет, на который они натыкались, причинял им страшную боль. Еще через несколько мгновений он увидел, что по дороге вдоль реки движется вереница существ, похожих на жареных индеек. Кто-то едва слышным, хриплым голосом просил воды. Они тоже были обожженные. С костей рук, как вывернутые перчатки, свисала, держась на кончиках пальцев, облезшая кожа. В полумраке двора он еще разглядел множество детей в таком же состоянии.
Послышались возгласы ужаса. Несколько женщин отошли в сторону, явно недовольные таким проявлением дурного вкуса, а профессор, казалось, был даже удовлетворен произведенным впечатлением.
Его удовлетворение было не очень заметным, но несомненным. С. внимательно его рассматривал – чем-то он был неприятен, этот профессор. Шепотом С. спросил у кого-то по соседству фамилию этого господина.
– Кажется, это инженер Гатти, или Пратти, или что-то в этом роде.
– Неужели? Разве это не профессор философского факультета?
– Нет, нет, полагаю, он инженер, итальянец.
Разговор вернулся к теме немецких концлагерей.
– Тут следует различать истину и то, что является пропагандой союзников, – заметил Л., известный своими националистическими убеждениями.
– Лучше бы им честно признать, – ответствовала особа, упомянувшая крысу. – По крайней мере, тогда они были бы последовательны в своем учении.
– То, о чем рассказывал этот сеньор, – возразил Л., кивком головы указывая на инженера, или профессора, – происходило не в немецких концлагерях, эти ужасы причинили демократические североамериканские бомбы. А что вы скажете, сеньора, о пытках, которые применяли французские парашютисты в Алжире?
Разговор становился беспорядочным и возбужденным.
– Да, варварство, – сказал наконец кто-то. – Варварство существовало всегда, сколько существует человечество. Вспомните Мухаммеда II, Баязида, ассирийцев, римлян. Мухаммед II приказывал распиливать пленников пополам. В длину. А тысячи распятых на Аппиевой дороге после разгрома восстания Спартака? А пирамиды из голов, которые сооружали ассирийцы? А целые стены, обитые кожей, заживо содранной с узников?
Стали перечислять пытки. Например, классическая китайская пытка: голого человека сажают на железный котел, в котле огромная голодная крыса, потом разжигают под котлом огонь – крыса, спасаясь, прогрызает себе путь через тело жертвы.
Опять послышались возгласы ужаса, и некоторые стали говорить, что довольно, все это очень неприятно, однако никто не двинулся с места, – видимо, ждали новых примеров. Инженер, или профессор, перечислил самые известные пытки – гвозди, вбиваемые под ногти, сажание на кол, дыбу. Обращаясь к доктору Аррамбиде, приверженцу науки и прогресса, С. присовокупил электрическую пикану [68]68
Пикана– орудие пытки током.
[Закрыть], столь популярную в аргентинских полицейских комиссариатах. Разумеется, не говоря о громкоговорителях, благодаря которым можно устраивать танцы на улицах Большого Буэнос-Айреса и осуществлять единение умов.
Подошедшая к этой группе Лулу, услышав некоторые из перечисленных ужасов, возмутилась не на шутку.
– Не понимаю, почему надо зацикливаться только на мрачных явлениях. В жизни ведь есть и огромные радости: дети, друзья, совместная работа верящих в идеал, минуты нежности, веселья и счастья…
– В этом и кроется величайшее коварство бытия, – заметил инженер, или профессор. – Возможно, если бы мы постоянно жили среди ужасов, жестокостей, страхов, мы в конце концов привыкли бы к ним.
– Вы хотите сказать, что минуты счастья существуют лишь для того, чтобы обострять ужас войн, пыток, эпидемий, катастроф?
Инженер усмехнулся, приподняв брови, как бы говоря «бесспорно».
– Но тогда жизнь стала бы настоящим адом! – воскликнула Лулу.
– А вы сомневаетесь, что так оно и есть? – спросил инженер.
– Да, пресловутая юдоль слез.
– Именно так, – подтвердил инженер, но тут же прибавил, словно его неправильно поняли: – Нет, не совсем то.
– А что же?
– Здесь нечто другое, – с загадочной миной возгласил инженер, поднимая руку.
– Что – другое? – опять спросила женщина, умиравшая от любопытства.
На ее вопрос поспешила ответить Лулу, которая победоносно заявила:
– Возможно, этот сеньор прав, однако, по-моему, в жизни есть много замечательного.
– Но ведь никто не отрицает, что в жизни есть много замечательного, – усмехнулся инженер.
– О да, о да, очень много. Но даже будь эта жизнь столь ужасна – а это все же не так, – всегда есть утешение, что тех, кто сумел перенести земное бытие, выказывая милосердие, веру, надежду, ждет рай.
В маленьких глазах инженера, или профессора, сверкнул иронический огонек.
– Вы, кажется, в этом сомневаетесь, – с горечью сказала Лулу.
– Есть еще иной вариант, сеньора, – мягко ответил инженер.
– Какой иной вариант?
– Что мы уже мертвы и осуждены. Что эта жизнь и есть ад, к которому мы приговорены на веки вечные.
– Но ведь мы живы, – удивился кто-то, до сих пор не проронивший ни слова.
– Это вы так полагаете. Все так полагают. Я хочу сказать, все так полагают в том случае, если моя гипотеза верна. Вам понятно?
– Нет, мы ничего не понимаем. По крайней мере, я.
– Что мы живы – это иллюзия. Также и наша надежда на смерть. Хотя слова «надежда на смерть» могут показаться шуткой. Эта иллюзия и эта надежда, возможно, элементы инфернального фарса.
– Довольно экстравагантная идея воображать, что мы не живы, – заметил доктор Аррамбиде. – А как тогда быть с покойниками? С похоронными конторами?
На лице инженера, который своим оригинальничаньем уже начал внушать всем антипатию, изобразилось легкое презрение.
– Ваш аргумент остроумен, но все же слабоват, – возразил он. – Ведь и в снах мы видим людей, которые умирают, и видим похороны. И похоронные конторы.
Все молчали. А инженер продолжил:
– Подумайте о том, что кому-то всемогущему не стоит труда состряпать комедию такого рода, чтобы мы поверили в возможность смерти и потому – в вечный покой. Что ему стоит создать видимость смертей и похорон? Что ему стоит создать видимость смерти мертвого? Так сказать, вынести труп через одну дверь и внести через другую, в другой отдел ада, чтобы снова начать комедию с новорожденным трупом? Только вместо гроба будет колыбель. Еще индусы, – а они были чуть менее тупоголовыми, чем мы, – что-то заподозрили и утверждали, что в каждом существовании происходит очищение от грехов предыдущего существования. Что-то в таком роде. Пусть не совсем точно. Но эти бедняги подошли довольно близко к истине.
– Прекрасно, – не сдавалась сеньора, не любившая Викторию Окампо. – Но даже в этом случае, какая разница, реальна наша жизнь или это иллюзия? В конце концов, если мы этого не сознаем, если мы своего предыдущего существования не помним, получается, что мы как бы взаправду рождаемся и умираем. Надежду могло бы убить только ясное сознание этой инфернальной комедии. А так мы словно бы видим приятный сон и никогда не пробуждаемся.
Окружающие вздохнули с облегчением – люди легко примиряются с тем, что в философии именуется наивным реализмом. На итальянского инженера, или профессора, приверженцы этой заслуживающей доверия философии взглянули со злорадным удовлетворением.
Инженер понял, что общество настроено по отношению к нему откровенно враждебно. Он кашлянул, взглянул на свои часы и собрался уходить. Однако, прощаясь, еще добавил с пренебрежительной усмешкой:
– Очень точно, сеньора, очень точно. Но ведь возможно, что тот, кто устраивает всю эту зловещую фантасмагорию, время от времени посылает кого-то, чтобы пробудить людей и заставить их понять, что все им только снится. Разве это невозможно?
Марсело всю ночь бродил по городу,
заходил в разные кафе, выходил снова на равнодушные улицы, усаживался на скамьи в притихших скверах. Возвратился домой и лег спать, когда уже рассвело. Проснувшись после полудня, он вспомнил про Амансио. А когда шел к нему, подумал, что его двоюродный дед может слишком встревожиться, станет задавать вопросы, а он не сумеет на них ответить, не сможет сказать правду, огорчить деда. Можно, пожалуй, привести другие доводы – он, мол, хочет вести более спокойную жизнь, больше думать о себе, о близких.
С такими противоречивыми мыслями Марсело поднялся по старой лестнице, в который раз удивляясь, как это бедный старик примирился с жизнью взаперти в этой передней части двухэтажного особняка, какие строили в конце прошлого века, а теперь разделенного на жалкие квартирки. Старик был весь укутан в шарфы, свитера, пальто. Даже его потертый сюртук с зеленоватым бархатным воротником был на нем.
– Если ветер прекратится, Марселито, – сказал он, указывая в окно, – этой ночью будет мороз. Фруктовые деревья померзнут.
Марсело посмотрел в окно, словно там, на улице, росли фруктовые деревья. Вежливость его была сильнее логики.
– Памперо [69]69
Памперо– в Аргентине сильный ветер, дующий из пампы.
[Закрыть]есть памперо, – загадочно изрек гость дона Амансио, дон Эдельмиро Лагос.
В черном костюме с высоким твердым воротником он, казалось, был готов поставить подпись на документе в своей конторе (как в 1915 году). Держа левую руку на серебряном набалдашнике палки и полуприкрыв глаза, он походил на дремлющего индейского идола. Землистое лицо представляло собой обширную географическую карту с волосатыми бугорками и родинками среди геологических извилин. Его пресловутое молчание порой прерывалось афоризмами, которые, по мнению дона Амансио, делали его «мужем совета».
«Никаких крайностей, держись золотой середины».
«Время все изгладит».
«Нельзя терять веру в нацию».
Сентенции эти изрекались не неожиданно – их предваряли почти незаметные признаки, не укрывавшиеся, однако, от того, кто наблюдал за стариком вблизи. Казалось, словно бы этот потемневший идол начинал вдруг проявлять признаки жизни, выражавшиеся в еле заметном дрожании огромных рук и крупного носа. Вслед за афоризмом снова наступало торжественное молчание. Тем временем дон Амансио стал приподниматься, но Марсело удержал его. Надо приготовить мате, пояснил старик.
– Колено что-то не разгибается, – прибавил он, усаживаясь снова. Потом, экономно заваривая мате, сокрушался: – Вот так-то, Эдельмиро. Еще никогда я не бывал в таком положении.
После небольшой паузы он выразил удивление ценой, которую заплатили за участок земли в Пунта-дель-Индио. Кажется, какой-то Фишер. Ему сказал об этом турок Госен.
Дон Эдельмиро приподнял веки, вроде бы заинтересовался.
– Турок, что держит лавку в Магдалене.
Но это же голое ущелье. Хотят там насадить бог весть какие деревья, из-за границы привезенные. Славное дело, слышал он. Славное, что и говорить.
Глядя на улицу, дон Эдельмиро покачал головой.
Так прошли в молчании десять—пятнадцать минут, слышался только стук серебряных трубочек да посасывание мате.
– А помнишь, Эдельмиро, того молодчика – Хасинто Инсаурральде? – спросил, наконец, дон Амансио.
Дон Эдельмиро снова приоткрыл глаза.
– Ну да, как же! – настаивал дон Амансио. – Такой, помнишь, был франт.
Его друг закрыл глаза, возможно, рылся в своей памяти.
– Умирает от рака. Рак печени, хуже нет.
Дон Эдельмиро Лагос приоткрыл глаза, да так и застыл, то ли уже вспомнив Инсаурральде, то ли удивляясь. Однако по неподвижному пейзажу его лица определить это было невозможно. И все же, после минутного молчания, он изрек:
– Рак – это бич цивилизации.
Потом достал из кармана висевшие на золотой цепочке часы «лонжин» с тремя крышками, внимательно поглядел на циферблат, будто изучая сложный документ, изготовленный в его конторе, закрыл часы, осторожно сунул их обратно в карман и поднялся, собираясь уходить.
Смеркалось.
– Дедушка Амансио, – сказал внезапно Марсело, будто кто-то его подтолкнул.
– Да, мой мальчик.
Марсело почувствовал, как волна крови прихлынула к его лицу, и понял, что никогда не сумеет поговорить с дедом о пустующей комнатке в глубине квартиры.
Дон Амансио ждал, что он скажет, внимательно и удивленно – как если бы в засушливой местности выпало несколько капель дождя.
– Нет… то есть… если будет заморозок, как вы говорите…
Старик с любопытством смотрел на него, машинально повторяя: «Да я же говорил, если стихнет памперо», – и думая: «Что это с Марселито».
А Марселито думал: «Славный дедушка Амансио – потертый сюртук, достойная, опрятная бедность, благородство обедневшего идальго, тактичность».
Из деликатности дон Амансио переменил тему и, указывая пальцем на газету «Ла Пренса» [70]70
Консервативная газета, вроде лондонской «Таймс». (Примеч. исп. издателя.)
[Закрыть], спросил, читал ли Марсело передовицу об атомной бомбе. Нет, не читал. «Вот наивный», – подумал с нежностью юноша. Все равно как если бы спросил, читал ли Марсело вчера речь Белисарио Рольдана [71]71
Белисарио Рольдан(1873—1922) – аргентинский драматург и известный парламентский оратор.
[Закрыть]. Старик сокрушенно покачал головой.
– Дело в том, как посмотреть… я хочу сказать, дедушка Амансио…
Старик с любопытством поглядел на него.
– То есть… возможно, когда-нибудь ее можно будет употребить на что-то полезное… – сделав усилие, объяснил Марсело.
– Полезное?
– Не знаю… то есть… например, в пустыне…
– В пустыне?
– Ну, то есть… чтобы изменить климат…
– И это будет хорошо, Марселито?
Юношу одолевал стыд, он терпеть не мог поучать, объяснять, производить впечатление знающего больше других. Это ему казалось нетактичным, особенно в отношении людей, вроде дона Амансио, такого беззащитного. Но не ответить нельзя.
– Я думаю… возможно… в странах, страдающих от голода… в тех местах, где не бывает дождей… на границе Эфиопии, кажется…
Дон Амансио посмотрел на газету, как будто в ней был скрыт ключ к этой важной проблеме.
– Конечно, я старый невежда, – признался он.
– Да нет, дедушка, вовсе нет! – устыдясь, поспешил исправиться Марсело. – Я хотел сказать, что…
Дон Амансио посмотрел на него, но Марсело уже не знал, что говорить. Еще несколько минут прошло, оба успокоились, и старик снова уставился в окно.
– Да, Фишер, теперь-то я точно вспомнил, – внезапно произнес он.
– О ком вы, дедушка?
– Да о том, кто купил участок. Немец или что-то вроде того. Из тех, что понаехали сюда после конца последней войны… Люди трудолюбивые, с идеями… – Задумчиво глядя на деревья, росшие внизу, на улице, он сказал: – Да, эти люди знают, что делают. Прогрессивные люди, спору нет. – И, минуту помолчав, прибавил: – Все равно прежние времена были лучше… Меньше было науки, зато больше доброты… Никто не торопился… Мы проводили время, попивая на веранде мате и глядя на закат… Меньше было развлечений, чем теперь, – ни тебе кино, ни телевидения. Но у нас были другие приятные дела: крестины, клеймение скота, праздники разных святых… – Помолчав, он продолжал: – Люди были не такие образованные. Зато менее корыстные. Деревни были бедные, особенно наши места, по берегам Магдалены. Но народ был щедрый, благородный. Даже город был другой. Люди вежливые, спокойные.
Чем больше темнело, тем длинней становились паузы. Марсело смотрел на силуэт старика на фоне окна. О чем он думает в долгие одинокие ночи?
– Миром завладела ложь, сынок. Никто никому не верит. Когда мы с отцом отправились на Восточный Берег [72]72
Так называли территорию нынешнего Уругвая.
[Закрыть]на похороны дяди Сатурнино, для поездки даже билетов не требовалось. – Он снова умолк, а потом, легонько похлопывая по газете, прибавил: – А теперь… одни эти бомбежки… вьетнамские дети… А ты, Марсело, что об этом думаешь?
– Я… может быть, когда-нибудь… все переменится….
Старик с грустью глядел на него. Потом, словно беседуя с самим собой, сказал:
– Все может быть, Марселито… Только мне сдается, что деревня уже не станет такой, как прежде. Пруды, розовые утки, терутеру… [73]73
Терутеру– голенастая птица со шпорами на крыльях.
[Закрыть]
Стало совсем темно.
Шут
Подражая Кике, он говорил о некрологах, сыпал остротами, вспоминал смешные истории тех лет, когда преподавал математику. Окружающие находили, что он выглядит лучше, чем когда-либо, что он полон сил и энергии.
И внезапно он почувствовал, что опять начнется это, начнется неотвратимо, – раз начавшись, процесс развивается неудержимо. Ничего ужасающего, никаких чудовищных видений. И однако он испытывал страх, какой бывает лишь в кошмарах. Постепенно его одолевало ощущение, что все становятся ему чужими, – вроде того, что мы чувствуем, глядя с улицы в окно на чью-то пирушку: мы видим, как люди смеются, разговаривают, танцуют, но звуков не слышим, а они не знают, что на них кто-то смотрит. Но и это сравнение не совсем точное: эти люди как будто еще и отделены от тебя не просто оконным стеклом и не просто расстоянием, которое можно преодолеть, войдя или открыв дверь, а каким-то непреодолимым другим измерением. Ты вроде призрака, что, находясь среди живых людей, может их видеть и слышать, а его не видят и не слышат. Но и это не точно. Ибо не только он их слышал, но и они слышали его, говорили с ним, не испытывая никакого удивления, не зная, что тот, кто с ними говорит, вовсе не С., а своего рода заместитель, своеобразный шут-узурпатор. Между тем как он, настоящий, постепенно и боязливо все больше отдаляется. И хотя обмирал от страха, – как человек, видящий последнее судно, которое могло бы его спасти, неспособен подать даже малейший знак отчаяния, – он не мог сообщить о своем все возрастающем отчуждении и одиночестве. И пока судно удалялось от острова, он начал рассказывать забавную историю из своих студенческих лет, когда они, студенты, выдумали венгерского поэта, которому якобы покровительствует также не существующая княгиня. Они и тогда были по горло сыты Рильке и его снобизмом. Выдуманный образ обретал живые краски, сами они писали все уверенней, опубликовали два стихотворения на французском в «Тесео», несколько фрагментов из мемуаров и под конец сообщили, что этот поэт прокаженный. Замысел их заключался в том, чтобы Гильермо де Торре опубликовал в «Ла Насьон» заметку.
Все вокруг надрывались от хохота, и шут также, между тем как тот, другой, смотрел, как судно, удаляясь, становится все меньше и меньше.
Явление брата и сестры
В метании между ложью и вспышками страсти, между экстазом и тошнотой жизнь становилась для него все более непонятной, все более пугал этот «большой коктейль». Куда исчезли истинные ценности? Внутри у него теснились бунтари, они хотели действовать, произносить решительные слова, сражаться, умирать или убивать, но только не быть включенными в этот карнавал. Нахальные Начо, суровые Агустины. А Алехандра? Жила ли она на самом деле и где, – в этом ли доме, или в другом, или в том бельведере? Люди справлялись в архивах газет, хотели узнать, какую страсть к абсолюту питают участники этого карнавала, какую неутолимую жажду. Правдиво ли это сообщение? Словно то, что копится в архивах, не заведомые апокрифы. Но это никого не смущает: сыплются вопросы о том, жили персонажи взаправду или нет, как жили и где. И ведь люди не понимают, что персонажи эти не умерли, что из своих подземных убежищ они снова его терзают, ищут и оскорбляют. Или, быть может, наоборот – он нуждается в них, чтобы выжить. И поэтому он ждет Агустину, страстно ждет, чтобы он появилась.