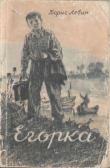Текст книги "Друг другу вслед"
Автор книги: Эрик Шабаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Глава третья
1
На дворе еще держалась темень, когда жена Прова Захаровича зашла в пристройку, где ночевали работники.
– Эй, Кузьма, вставай, коней поить надо, – сказала она с одышкой.
– Пусть Егорка, он помоложе… – пробормотал работник и повернулся к стене.
– Да проснись же, антихрист! – она с силой толкнула его под ребро.
– Ох! – Кузьма сел, стал чесаться: скреб черными ногтями затылок, потом живот, потом спину меж лопатками.
– Ну, кончил ай нет? – вышла из себя хозяйка. Работник нашарил в полутьме портянки, принялся медленно, с раздирающей челюсти зевотой обуваться. И внезапно вытянул сонного Егорку ичигом по спине. Тот вскочил как ужаленный.
– Все-таки разбудил, окаянная твоя душа! – хозяйка всплеснула руками, в испуге покосилась на дверь. – Провушка опять сердиться будет… Ну, ладно, ладно. Скотина изошлась криком, да и сено до сих пор в возах, надо б сметать в зарод. С богом!
– Досыпай за нас! – бросил вдогонку ей Кузьма.
Над зубчатой линией тайги всплыло солнце, заискрилось на рыхлом, взявшемся за ночь ледком снегу. С крыш зазвенела робкая капель.
Возы убывали туго. С Егоркой творилось что-то странное: вилы, всегда покорные ему, вывертывались из рук, глаза все сильнее заволакивало горячей пеленой. Кузьма надсадил голос, подгоняя его, орал, в нетерпении сучил кулаками, но вот умотался и он.
– Слезай, отдохнем. Ну их к бесу!
Во дворе ненадолго появился Пров Захарович, суховато покашливая, на мгновенье остановился у калитки, побрел в дом.
– Был человек, и нету человека, – молвил Кузьма, сидя на бревне.
– Зачем так-то? – прерывисто сказал Егорка.
– Цыц! Мал еще рот затыкать. Слушай, мотай на ус… Да-а-а. Богатство тоже не сахар, если вдуматься. Тем паче с такой пилой под боком… Ты ее раньше не видел, хозяйку-то. У-у-у! Простой люд не замечала, за версту нос драла. Как же, купецкого роду-племени, да и лицом бог не обидел. Выйдет из церкви, бывало, что твоя королевна заморская! – Кузьма закурил, всласть затянулся едким табачным дымом. – Ну, а сам вроде нас начинал, с батрачества. Потом с ней слюбился. Дальше – больше, ейные мать и отец на кладбище переехали, в тенек. Молодые вдвоем стали хозяйствовать. Дом – полная чаша, чего-чего нет: и кони, и коровы, и деньга в кубышке. А ей все мало, из материных обносков не вылазила, батраков держала впроголодь, одним словом. Да-а-а. Пронька совестливый жуть, – на дыбы. Ее обломать хватило сил, а сам засох. Как обо что-то ударился! Когда, боле полугода назад, единственный сын сгинул на Карпатах, он и вовсе…
В глазах Кузьмы вдруг вспыхнул суетливый огонек. Он поднялся с бревна, крадущейся походкой заторопился навстречу молодой снохе Прова Захаровича, которая сходила с высокого крыльца. Кузьма заступил ей дорогу, маленький, кривоногий, с редкой бороденкой, рассыпал угодливый смешок. Она равнодушной тенью скользнула мимо. Кузьма сбычась проводил ее взглядом.
– Стерьва! – сказал он, когда вернулся к зароду. – Плывет, не подступись, а про себя, поди, только об одном и думает… И еще о наследстве!
«Черт поймет-разберет Кузьму этого. То умница, то гмырь самый распоследний… – мелькнуло у Егорки. – Чем она ему не угодила, в конце-то концов?» Он привстал, качнулся, боком сел на сугроб.
– Ты и впрямь заболел, – донесся издалека обеспокоенный голос Кузьмы. – Говорил тебе вчерась – не скидавай зипун, с весной шутки плохи. Дуй в избу, как-нибудь управлюсь один.
2
Егорка лежал на полатях, укрытый овчинным тулупом, дрожал от озноба. Подошел Пров Захарович, худой, с бледно-серым лицом.
– Потерпи малость. Бабы готовят земляничный отвар. Выпьешь раз-другой, и никакой хвори… Ну, а с первым теплом – на заимку. Там, брат, вольготно, как нигде.
– Простите, дядя Пров…
– За что, дурачок? – дрогнувшим голосом справился Пров Захарович.
– Зарод не сметан…
– Почти готов, Гришка соседский помогает… Я бы и сам вилами подвигал, да вот беда – сердце не отпускает второй год… – И громко, через силу: – Эй, бабы, вы скоро?
– Сича-а-ас!
На Егорку накатывало зыбкое, огненными волнами, забытье… Откуда-то вплотную набегала на резиновых колесах островерхая башня, и с «галдареи», что прилепилась к ней, повелительно звал Мишка Зарековский… Нет, звал, но кого-то другого, светловолосый кузнец Игнат, а Васька Малецков сидел на веслах, и над бортом лодки вспухал кулак тетки Настасьи. «Вот тебе, каторжный!» – угадывалось по ее губам. Но удара почему-то не было, а было тихое, ласковое прикосновенье к щеке… Он вздрогнул, открыл тяжелые веки. У печи стояла сноха Прова Захаровича. Приподнимаясь на носках, она подала чашку с отваром, легонький ситцевый капот на ней распахнулся, и совсем близко от Егоркиных глаз затрепетала белая, девически округлая грудь.
Он прижался к дымоходу, замер, и лицо молодой женщины тронула слабая, с горчинкой улыбка.
На третий день стало заметно легче, особенно после бани, и ужинать Егорка спустился к общему столу. Хозяйка – по знаку мужа – подкладывала ему то кусок мяса, то студень, то шаньгу.
– Пропустим-ка для сугрева, сынок! – Пров Захарович весело пощелкал ногтем по графину с лимонной настойкой.
– Не надо бы приваживать к питью. Больно мал, – заметила хозяйка, подобрав тонкие губы.
– Разговоры! – коротко осадил ее муж.
– Этому мальцу шестнадцать лет. Продлись война еще немного, и пойдет в солдаты на те же самые Карпаты… Пей, Егор Терентьевич! – громко сказала сноха и сама с каким-то ожесточеньем опрокинула настойку в рот.
3
До чего ж околдовывает, ведет за собой покос в тайге! Вот, кажется, вся трава уложена валками до последнего лепестка, и дальше одна непролазная чащоба, где не то что человек – мышь не проскочит; но не поленись, шагни вперед, раздвинь березовые гривы, и перед тобой зазеленеют новые плеса, новые потайные уголки… Знай, коси!
Дойдя до опушки, Егор достал из кармана брусок, несколько раз черканул по лезвию косы, оглянулся. Ого, напластовал с утра, поди, на целую копну. То-то ахнет Кузьма, когда вернется из деревни… А когда вернется – бог знает. Уезжал на день-два, чтобы показаться фельдшеру, но, по всему, разболелся вконец.
По краю неба плыли тонкие, насквозь высветленные солнцем облака, шли неведомой дорогой, и хоть бы какое из них забрело в сторону… Егор с досадой чертыхнулся. Один, совсем один! До соседней заимки верст шесть, и то напрямую, а по проселку – со спусками в лога, с объездом болот и гарей – все восемь. А тут хлеб на исходе, осталась черствая краюха, и к ней ничего, если не считать нескольких луковиц… Да нет, одному все-таки лучше. Никто не теребит, не ноет под руку, не стоит над душой, вроде хозяйки: то не так сметал, то не туда прибил, то криво повесил… И Кузьма порой вздергивает нос: как-никак старший работник. Пойми его! Напропалую бранит и Прова, и весь белый свет, а сделай самую малую оплошку – напускается цепным кобелем…
Снова падала и падала трава, в нос бил медовый запах цветов, на ичиги летели брызги росы. Припекало солнце, вышедшее из-за ближних елей. Сняв рубаху, Егорка сделал замах и насторожился. Показалось или на самом деле был крик? Вслушался, помотал головой: «Доплясался, скоро бредить начну!»
И все ж на заимку кто-то приехал. Над деревьями пронесся ветерок, и с ним – теперь отчетливо – долетел зов.
Вскинув косу на плечо, Егор заторопился к заимке, стараясь наперед угадать, кто там: «Кузьма? Вряд ли… Скорее, дядя Пров. Слава богу, вспомнили, а то брюхо приросло к спине!»
Он миновал осиновый перелесок, обмелевший, в каменной россыпи, ручей… На пороге избы стояла молодая хозяйка, задумчиво следила за дымком, разведенным от комаров. Она увидела Егорку, окинула пристальным взглядом, сказала с колкой усмешкой:
– Ну, чего язык проглотил? Здороваться медведь будет? Ладно, иди за стол.
Пока он за обе щеки уплетал шаньги с топленым молоком, она сидела напротив, подперев рукой голову, не сводила с него зеленовато-серых глаз.
– Не боялся в одиночку? Свекор чуть с ума не сошел. «Что он да что с ним!» Вот и… послал.
Но Егору почудилось, что сказала она совсем не то, о чем думала.
– Грабли в порядке? – спросила она, помолчав. – Засветло смечем копешку-другую, а утром за косьбу.
Незаметно подкрался вечер, смазал полукружья пестрого осинника, придвинул темную стену елей чуть ли не вплотную к заимке. Густел туман, перемешанный с легким запахом дыма.
Егорка стреножил коней, навесил им ботала, пустил на луг, пошел в избу. «Свет погашен, поди, легла…» – подумал он.
Среди ночи его разбудил тихий голос: «Егор!» Над ним неясной белой тенью склонилась молодая хозяйка, осторожно гладила спутанные волосы. Он пугливо привстал, ощутил рукой ее колено, рванулся в сторону, но она силой удержала его, притянула к себе, задавила страх долгим, неистовым поцелуем.
Потом она лежала на кошме, рядом с ним, навзрыд плакала.
– Прости, мой миленький. Прости, ради бога…
– За… что?
– Стыд потеряла… Но не осуждай, Гошенька. Трудно одной, ох, как трудно, если бы ты знал! Мне ведь нет и девятнадцати, не жила вовсе…
Молчаливая, спокойная женщина вдруг обернулась нежной, слабой девчонкой, совершенно беззащитной перед бедами, которые так рано пали на ее голову. Он трепетно подался к ней, нашел в темноте ее губы, соленые от слез.
– Не плачь, ну, не плачь… – шептал Егорка, пронизанный острой жалостью.
4
Прошло короткое лето, за ним прокатила осень, грянули морозы, побелив дома, цепочки изгородей и тайгу, а Степана все не было. Заявился он перед масленицей, по пути со Старо-Николаевокого завода.
– Ну, как мой брательник живет-может? По Красному Яру не соскучился? – весело спросил он, отряхивая у порога снег. Посмотрел на молчаливого Егорку, стесненно крякнул. – Нечего там делать пока. Сам с весны первый раз еду, отпросился на два дня. Деньги отвезу и тем же часом обратно… Потерпи…
Из дальней горенки вышел на голоса Пров Захарович в наброшенной на плечи романовской шубе.
– Эй, старуха, угости парня чарочкой, да щец горячих побольше, – велел он. – Продрог, поди?
– Есть маленько, – отозвался Степан и, проворно сняв продымленную верхнюю справу, сел за стол. Он одним духом выпил полстакана зубровки. Хлебая щи, изредка поднимал глаза на брата, подмигивая ему. – А ты, Егорка, вымахал за год. Мать родная не узнает, ей-ей!
– Мы на него не в обиде. Поспевает во всем: одна нога здесь, другая там… – с похвалой сказал Пров Захарович. – Ты порожняком? Вот и ладно. Поешь, иди с Кузьмой в сусек, отсыпь три мешка муки. Впрочем, добавь еще один, от меня. И кланяйся отцу-матери. Хорошие они у вас!
– Дак… – начала было старая хозяйка, но муж сурово оборвал ее: – Замолчь! – и с силой ударил сухоньким кулаком по столу, поморщился от боли.
Покончив с едой, Степан присел у порога, закурил и вдруг хлопнул себя по лбу:
– А новость знаете, дядя Пров?
– Где нам: живем в лесу, молимся колесу… Ну-ка, что за новость?
– Революция, если коротко!
– Господь с тобой, парень… Чего плетешь? – хозяйка в испуге перекрестилась.
– Ей-ей, не вру. Свобода всем и каждому, на веки веков. Царь отрекся от престола, Дума сколачивает народное правленье, а над ней – Советы!
– А о войне что говорят? – еле слышно спросил Пров Захарович и, не дождавшись ответа, с непокрытой седой головой, в шубе нараспах, скрылся за дверью. Белый морозный пар клубами повалил в комнаты. Степан подмигнул молодице, запел: «Как у нас собралась дума, в думе много было шума. Ах ты дума, дума, дума, государ…» – и смолк на полуслове. Хозяйка силилась что-то вымолвить.
– Выйди, посмотри, – скорее угадал, чем услышал Егор.
Пров Захарович неподвижно стоял у высокой, в сплошную доску, изгороди. Обернулся на скрип.
– Баба послала? Ну-ну… – Голос хозяина дрогнул, сорвался на шепот: – Ему б только солнцем любоваться, детей ростить, а его в серое сукно, под пули за тридевять земель…
5
Егорка вышел из коровника, прислонил к стене вилы, утер пот. Ну, с одним делом управился. Теперь бы перетаскать навоз, раскидать кучами по огороду, а потом – за починку сбруи. Конечно, есть новая, но и та еще неплоха, запросто послужит и год, и второй…
На улице заиграла гармонь. Мимо вразвалочку прошагала ватага парней, кто-то крикнул на ходу:
– Эй, надорвешься раньше времени. Плюнь! Им, чертям захватистым, все мало! Небось распивают чаи?
Егорка не ответил, покосился на окна хозяйского дома. А вдруг слышали? Старой ведьме так и надо, но перед Провом Захаровичем неудобно. Или он сам не вкалывал, когда был молодым? А что богатство привалило в руки – на то воля божья…
В полдень у ворот кто-то остановился, требовательно постучал кнутом. Егор вынул слегу, и во двор въехала знакомая кошевка Зарековского.
– Дядя Павел… Сколько лет, сколько зим! – обрадованно крикнул Егорка.
Староста пробурчал что-то неразборчивое, навесил мохнатые брови, пошел в дом, загребая снег полами длинной волчьей дохи.
Провел он у хозяев часа два. Егорка толкнулся было в горенку, расспросить об отце с матерью, но Пров Захарович кивком отослал его назад: повремени малость, некогда.
Было сумрачно, по небу гнало серые облака, сыпал снег, иногда в редкие разрывы слепяще брызгало солнце. У волостного правления – через дорогу – собралась толпа. Кудрявый молодец потешался над старухами:
– А вот в городе, бабка Прасковья, так и молиться машиной стали! Привезли в церькву, на болты – и давай. Только винт крутани: она и поет, и свечки ставит, и ладанный дух подает!
– Тьфу, нехристи! Чтоб вам ни дна и ни покрышки! – грозила костлявым кулаком бабка.
– А слыхала, что в Заярске-то сотворили? У-у-у-у-у! Привезли в храм жернова мельничные. Ты вот поклоны отбиваешь боженьке, жива и здорова, а там таких, кому за семьдесят, пустили на размол!..
К волостному правлению, стоя в кошевке, подъехал Зарековский. Толпа повернулась к нему, вразнобой поснимала шапки: старосту знали по всему Приангарью.
– Пал Ларионыч, ты газеты читаешь, да и у начальства на виду… Объясни, ради бога, что дальше-то?
Зарековский помолчал, обдумывая ответ.
– Съедят нас, мужики, с потрохами, потому как за Уралом треть пашни осталась незасеянной. В городах, в Питере аль а Москве, очереди за хлебом с утра до вечера…. А заводской, он ждать не будет… Сам придет, если не дашь подобру… Через то и смута…
– Ну, а власть, временная куда смотрит?
– То-то и плохо, что временная. Заварит, а мы расхлебывай… – Зарековский поправил волчью доху, взялся за вожжи.
По толпе прошел рокоток:
– Хлебец-то ховать надо, кум, пока не выгребли.
– Чтоб гнил?
– Зато чужакам не достанется.
– Сперва разберись, кто свой, а кто чужой.
– Эх, коли что, заберу скот и – в тайгу!
– Пуглив же ты стал, братец… Угости-ка табачком!
Глава четвертая
1
Ранней зимой Егорка, впервые за два года, выехал с братом в Красный Яр. Конь ходко рысил по отточенной до блеска дороге, следом бежало солнце, верста за верстой оставались позади. Уткнув нос в воротник полушубка, Степан гудел:
– В Питере-то, слыхал? Временного будто и не было…. А вот в Иркутске… Понимаешь, втерлись в Совет очкарики с толстосумами – и ни в какую… – Степан добавил: – Ничего-о-о, теперь наше время!
– Зарековский… жив-здоров?
– Жив, паук. Братская управа за него горой. Одна шайка-лейка. Ну, да подберем ключи и к нему, а за компанию и к тетке Настасье. Вконец, понимаешь, загрызла маманьку. Где ни встретит – срамит. Воры да воры… Иногда зло такое возьмет – порвал бы на месте!.. – И озабоченно справился: – Не замерз?
Егорка молчал, занятый совсем другими думами. Перед ним мерцали зеленовато-серые глаза снохи Прова Захаровича, возникала вся она – ладная, с тугой грудью, неистово-нежная по ночам, замкнутая, суровая днем, на людях. Вот и прощаясь не обронила ни единой слезинки, ни словом не выдала своей печали, только всматривалась пристально, как бы запоминая каждую черточку его лица… Он даже застонал, до того вдруг тоскливо и горько стало ему на пустынной, в бесконечных извивах, дороге, под равнодушными елями.
Брат потормошил его за плечо.
– Эй, очнись. Дурное привиделось, что ли?
– О Кузьме подумал… Поправится ли, не знаю.
– Тьфу, было бы о ком! Тут буча на весь мир, а ты о колченогом старикашке, о его грыже… Забудь! Вот побываешь у Федота, иное запоешь, ей-ей. – Степан с укором скосил глаза. – Чудной ты все-таки у нас, бредешь незнамо куда, слепым кутенком… То поперву домой рвался, а то силой от Прова не вытянешь.
– Отчего ж сам третью зиму летаешь на завод? – сказал Егорка, жгуче покраснев.
– Я? – Степан помедлил немного. – Со мной себя не равняй. Я, Гоха, за такое, чтоб оно звездой горело круглые года!
– Нашел?.. Нашел, да едва ушел… Из подсобных никак не выпрыгнешь, – пробормотал Егор и с опаской подался вбок: старшой крутоват, брыклив, того и гляди… Нет, стерпел, не взвился, как бывало, только засопел угрюмо.
– Гоняли с места на место, попробуй наловчись… Но я вовсе не про то. Цепи с ног-рук сброшены к черту, вот главное!
– Знавал я и других, – сказал Егорка, – не чета кой-кому.
– То есть? – настороженно спросил Степан.
В памяти Егорки почему-то возник маленький замухрыга, встреченный на бирже труда, и его приятель как в воду опущенный… Но были еще люди-человеки, с кем пересеклись пути. Тот же вихрастый парень, тот же Игнат. Искрило в них что-то особенное, помимо доброты, а что – враз не ухватишь…
– Что молчишь? – настаивал брат.
– За дело держались, – выпалил Егорка, – о себе не трезвонили!
Степан в сердцах отвернулся.
Лошадь замедленной рысцой одолела взлобок, и дорога наконец вырвалась из тайги на обдутый недавними вьюгами простор. Справа заголубели, переливаясь в солнечных лучах, дымы Братска, впереди – за торосистой лентой реки – прорезалась под белым, в соснах, косогором тоненькая цепь красноярских изб.
– Сердце-то не щемит? – справился Степан, позабыв обиду.
– Чуть-чуть.
– Но-о-о, сивый!
2
У Малецковых по вечерам не переводились гости. То один забегал на огонек, то другой, и каждый с неизменным «что» да «почему». Когда не умещались в тесной горенке, топали гурьбой в школу, благо не препятствовала молоденькая учительница. Сидели кто где, густо дымили махрой, говорили обо всем враз.
– Раньше ты украдкой мог в люди прошмыгнуть, нынче – все для тебя, – басил Федот Малецков, рослый, ясноглазый, в шинели нараспах, с подвязанной левой рукой. – Жизнь берет за шиворот и велит – будь человеком, будь со всеми, перебарывай в себе темноту, свой медвежий нрав!
Он вдруг почему-то смолк, сдвинул темные, вразлет, брови. «Что с ним?» Егорка, сидя сбоку, проследил за его взглядом, увидел у двери Стешу и рядом с ней сонного, с раскудлаченной бороденкой Фоку.
– По-твоему, жизнь за все в ответе? – с иронией спросил Степан. – Сама выведет, куда надо? У-у-у, тогда нам и горюшка нет. Сиди с открытым ртом, жди!
– Ловок, ерш!
И оба – Степан и Федот – громко захохотали, принялись поталкивать друг друга плечом. Со скамьи привстал Силантий.
– Веселого мало, коли разобраться… Темноты много в нас, Федот прав. Но не выбьешь ли вместе с ней и любовь к землице? Вон Евлашка, погодок мой, по весне, бывало, замрет над бороздой, гадает, когда начинать пахоту, а на щеках слезы… Половчей бы надо как-то, не рывком-швырком. Воля, вот она. Всем улыбается, к самому распоследнему горемыке повернулась передом. Бери, пользуйся…
– А к-к-коммуну, значит, побоку? Не нужна в-в-во-все? – спросил Петрован, быстро-быстро помаргивая из-под повязки, обручем охватившей бритую голову.
– Ты, солдат, погоди. Коммуния, коммуния… А что она дает мне, твоя коммуния? Прибыль от нее какая? – Силантий покивал на окно, выходящее к Ангаре. – Не-е-ет, в Братске люди говорят иное. Тоже люцинеры! Их слово простое: всяк будь при своем, донельзя свободный. Тебе – землица, ему – ремесло аль торговля, мне – извоз – по старой памяти.
– Что еще поют?
– Не поют, Федотка, в корень смотрят. Мастеровщине бы только горло драть, смуту сеять. Всему голова – крестьянство, мы с вами. Кто хлебушку-то дает? Мы, и власть – нам, само собой. Чем плохо?
– А удержишь?
– Ого!
– Допустим, уезд – в твоей пятерне. Сколотил мужицкий Совет, за стол уселся. Что дальше? А дальше сломя голову к благодетелям: выручайте, ум за разум идет, буква на букву наезжает… Вот и лопнуло твое «народовластье», не успев опериться. Расчет «соглашателей» тонкий: борода темна, дремуча, сколь ни ерепенится – наша будет, под нами, лишь бы отколоть ее от рабочих! – Федот усмехнулся. – Да и были они у власти, твои господа революционеры, и еще есть кое-где. У нас, например. К чему привели – видел сам. Если кто и попользовался их «свободами», так Зарековские, кроме никто!
Силантий кисловато шевелил губами.
– Шут с ей, с властью. Был бы покой.
– Хорошо! – напирал Федот. – Обзаведемся мы крестовыми домами, доброй скотиной. И что же, на том ставь точку? Тпру, приехали?
– А тебе, с твоей нуждой беспросветной, мало?
– Умница ты, кум Силантий, а… не совсем… Прости.. Животине, которая тебя кормит, этого, может, и хватило бы. А ты… ты-то сам далеко от нее ушел?
– Верно! – закричал Степан и стукнул себя кулаком в грудь. – Верно, Федот! По мне, что она, деревня, есть, что ее нету. Заводище – да, с ним не пропадешь!
– На Красном Яру, выходит, крест поставил? – искоса поглядел на него Силантий.
– И не простой, дяденька, а березовый!
– Чем же он тебе не угодил? – отчужденно-глухо спросил Федот Малецков.
– Да всем! Гриб червивый ни сразу съесть, ни потом поднесть. Одинаково!
Федот сладил пальцами здоровый руки самокрутку, отошел к окну, подернутому густой синевой. Пробасил, не оборачиваясь:
– Ну, а если мы кое-кого к ногтю?
– Новые выползут. Клоп, он живуч! – Степан убежденно помотал гривой медных волос. – Нет, братцы, вы как хотите, а я от завода ни на шаг.
– П-п-постой… Н-н-на заводе их нет, ч-ч-что ли? – подал голос Петрован.
– Кого их?
– Клопов тех с-с-самых?
Степан смешался на минуту.
– Может, вы и правы в чем-то, но если что-то крепкое где и образуется, то не здесь, а там. Это знаю твердо!
Теперь на него наседали разом и Федот, и Петрован, и Силантий. Степан отбивался, как только мог.
«Сколь голов, столь и умов, – думал Егорка, вслушиваясь в спор. – Все вверх дном… А тут некусай вот-вот нагрянет, муки осталось полмешка. Одной маманьке разве управиться?..»
У печи топтались парни, пришедшие с Иннокентием Зарековским, братом старосты.
– Стешка-то чего приперлась?
– По чью-то душу, не иначе.
– Эх, притиснуть бы ее в темном уголке. Баба невыезженная, сдобная, хватит на всех!
– У ней другие штаны на уме, – глумился Иннокентий Зарековский. – Эка на солдата уставилась!
– Выпить, что ли, братва? В глотке ссохлось.
– Де-е-е-ело! И Фоку прихватим за компанию, а то носом всю дорогу клюет… Эй, Фока, на два слова!
– Куда? – крикнула Стеша, но парни подхватили Фоку под руки, с гоготом вытеснились прочь…
Кончился керосин в лампе, и по школе потянуло гарью, а разговор не утихал. Запалив невесть какую по счету «козью ногу», Федот сказал задумчиво:
– Дел-дел! А тут о книгах, о газетах забывать не следует. По ночам, урывками, а читай. Спасибо Елене Финогенне, кое-что достает и на нашу долю. Ну, а ты, Степанида, наших баб впрягай в воз, нечего им в запечье сохнуть… – Он впервые за весь вечер открыто поглядел на Стешу, и та залилась радостным румянцем. Федот помедлил, собираясь с мыслями. – Открытого боя с Зарековскими и их шатией-братией не миновать. Кто знает, на что они могут пойти. Чтоб винтовки и дробовики были наготове, всем ясно? Да и Братск с господами под боком. Полиция только сменила вывеску, а мордачи в ней те же самые. И о том помнить надо.
– А че? – вдруг ни с того ни с сего встрял Егорка. – Полиция бывает разная. Нам с батей вон…
– Заткнись, – посоветовал с досадой Васька Малецков. Степан лишь мельком покосился на брата, безнадежно махнул рукой: дескать, что с него возьмешь?
– А че? – подпрыгнул на месте Егорка. – По-твоему, Васька, если тебе сотворили добро, все одно – плюй в рыло?
– Больно много ты его видел, добра-то. Счастливый человек! – сказал Федот незлобивым голосом.
По дороге домой Степан молчал, отдуваясь, наконец не вытерпел:
– Вредный ты для нашего дела тип, Егорка. Что из тебя дальше будет, ума не приложу.
– Не напрягайся, пожалей котелок.
– На огрыз ты силен, а до простого не допер!
– Куда! У него с Мишкой Зарековским дружба… – мрачно поддел Васька Малецков.
Егорка остановился, сжал кулаки, давясь обидой, крикнул:
– Что вы прицепились ко мне? Чего? Завтра ж умотаю с глаз долой!
– Беги, пока цел. Скоро тут будет знойко, можно лапки пообжечь!
Степан с Васькой, не оглядываясь, ушли вперед, растворились в темноте. Егорка медленно брел с сугроба на сугроб. «Брат родной называется… Друг закадычный! Стервенеют, бьют издевками, а за что? За какие грехи? Или я кулацкой породы? Или мурцовки хлебнул меньше, чем они?»
Ему вспомнилась утренняя встреча с Мишкой Зарековским. Встал на пути пьяный, колючий, сипел в сторону, кривя губы: «Степка с Федотом еще не унялись? Ну-ну, авось доиграются. Недолго ждать!» – пустил он замысловатый матерок и отошел…
«До чего ж дойдет, господи правый?» – размышлял Егорка. У него было чувство, словно он попал в какой-то круговорот, из которого вовек не выбраться. Попал против воли, понесся в неведомое, цепляясь руками за береговые уступы, а опереди и вдогонку с бешеной силой налетают вспененные валы и – р-раз, р-раз, р-раз – о ноздреватый камень, и не просто, а башкой!
«Нет, надо к Прову Захаровичу. И себе спокойней, и маманьке легче…» – подумалось Егорке, и перед ним лучисто засияли зеленовато-серые глаза.
3
Наплывали сумерки, а у крайней избы не смолкали голоса, перезвон топоров: устанавливались первые на брагинской усадьбе ворота. Клубился дым пожогов, над кострищами колдовал Егорка, в стороне Степан с Федотом и Васькой Малецковым ладили столбы.
Подошел Зарековский-старший в неизменной волчьей дохе, подшитых пимах-чесанках.
– Бог в помощь, молодцы!
– Здорово, – угрюмо отозвался Степан.
– Дело надумали, дело. Давно бы так, чем надрывать горло. Пора ему и покой дать.
– Рано пташечка запела… – не глядя, оказал Федот.
– А-а, наше вам, Федот Елисеевич! – вроде бы только теперь заметил его Зарековский. – Что ж, вот и службе колец, и дома сызнова.
– Поболе двух зим, как дома.
– Беседуем-то с тобой первый раз. А ведь соседи, кажется. Пересек улицу, и гость!
– Да-а-а, живем – окно в окно.
– Лоб в лоб, хотел сказать?
– А ты догадливый, господин староста.
– Сегодня я в старостах, завтра ты, если будет указ… Так ведь? А искоса взбуривать негоже, делить нам вроде бы нечего.
– Думаешь? – Федот резко повернулся к Зарековскому.
Староста не вынес его взгляда, потупился. Кашлянул сумрачно, заговорил снова:
– Что ты злобствуешь, Федот Елисеевич? На кого? Тебе свободы хотелось? Вот она пришла. В Москве и в Питере – большаки, в Иркутске тоже за волю. Пляши, мать твою черт, радуйся!
Федот усмехнулся:
– Немного повременю…
– Вашей толстосумии не вечно сидеть на губернских белых булках, доберемся и до нее! – выпалил Степан.
Староста долго смотрел на него вприщур.
– Не цените вы доброе. А ведь я мог подсидеть кой-кого из вас, и крепко. Стоило заикнуться о винтарях с тесаками. А я промолчал. В наше время и за такое надо благодарить… – Зарековский помедлил. – Мой тебе совет, Елисеевич. Не мутил бы ты воду и парней не сбивал. Смири гордыню, будь как все. Женись, в конце концов, не век бобылем шастать. Выбери деваху, осядь честь по чести… – Но не утерпел, сорвался: – Однако, сказывают, в голове у тебя другое. Стешка – баба вкусная, с изюмом, и ты собой молодец, да только муж есть у ней, на беду!
Федот Малецков побледнел, отступил на шаг, сжимая в здоровой руке топор.
– Если б не твоя седина, волк… – пробормотал он сквозь зубы. – Сгинь с глаз!
От ужина, собранного Аграфеной Петровной, Федот отказался, вместе с племянником ушел домой, в ночь они выезжали за сеном.
В темноте забрел на огонек пьяненький Фока. Потоптался у двери, спросил, заплетаясь языком:
– А… Стешки не было у вас? Печь, понимаешь, остыла, и коровенка непоеная… Тьфу!
– В школе твоя баба, сам видел.
– Пропади ее грамота пропадом…
– Эх, Фока, Фока… Пропьешь ты долю свою в один прекрасный день!
– А где она, доля-то? Нет ее, – упавшим голосом поведал Фока, и Степан поежился: вроде бы лежачего ударил…
4
Рано утром вышла жена Силантия по воду и в переулке, ведущем к Ангаре, наткнулась на труп. Обомлела, не успев разобрать, кто перед ней, взвыла дурным голосам. Вокруг в одно мгновенье собрались красноярцы. Приблизились поближе к телу, присыпанному снегом.
– Бог мой, Ф-ф-фока! – удивленно заморгал Петрован.
– Надо б старосту позвать, Силантий.
– Мальчонка мой побег.
– Кто ж его?
– Темное дело… А вот и Стешка!
По улице торопилась чуть ли не бегом Стеша, в кое-как наброшенной кацавейке. Все разом повернулись к ней, смотрели выжидающе, а она, белая как мел, подошла, упав на колени, замерла…
– Какой-никакой, а муж… – сочувственно заметил кто-то в толпе.
– В том и закавыка! – вполголоса молвил другой. – Живи она с ним по закону, по-божески, тогда б и беды не стряслось.
– Ты думаешь, Федот?..
– Ничего я, кум, не думаю. Пускай староста мозгой шевелит ай кто поглавнее… Кажись, маячит и он.
Из своего ладного, под тесовой крышей, дома степенно вышел в окружении сыновей и братьев Зарековский-старший. Красноярцы расступились, пропуская его в круг. Он, строго сведя брови, постоял над телом Фоки, снял кунью шапку, перекрестился.
– Царство ему небесное… – сказал негромко, со вздохом. – Что ж, мужики, надо посылать за милицией. Кто поедет?
– Евлашка, ты? С богом, да поживее назад ворочайся.
Толпа еще теснее сдвинулась вокруг мертвеца, загудела: каждый твердил свое, почти не слушая других. Особенно гулко стрекотала, поворачиваясь на одной ноге, тетка Настя.
– Я давно чуяла – не миновать греха. Стешка-то чаще на стороне обреталась, чем у себя в дому. Куда солдатье с табачищем, туда и она. Вот и допрыгалась…
– Федотка порешил, боле некому! – вторил ей братец, румяный старик с сивой бородой. – Сам видал, как он у заплота с ней лясы точил. Она – ха-ха-ха! Поди, знала, стерва, что он злое измыслил… – И сорвался на истошный крик: – Мужики, обчество! Ежели мы убивца покроем, то каждому варнаку будет простор!
Вперед суетливо протолкался Иннокентий Зарековский и запойно просипел:
– Пока шель да шевель… надо Стешку, а приедет с сеном Федотка, то и его… в холодную запереть… и раздельно, чтоб дотолковаться не могли…
– Разумеешь, чего мелешь? – подступил к нему с кулаками Степан, багровый от ярости.
– Будь уверен, каторжный. И то знаю, что одного вы осиного гнезда, всех бы вас надо в кутузку.
– Ах ты, га-а-а-ад!
– Тихо, гражданы! – Зарековский взмахнул суковатой палкой. – Поскольку у нас теперь свобода, никого в холодную сажать не станем. Наедут власти, следователь, разберут сполна, что и как… Иди к себе, Стешка, позовем, если понадобится.