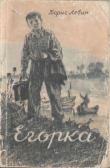Текст книги "Друг другу вслед"
Автор книги: Эрик Шабаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 22 страниц)
– Съел, е-мое?!
Игнат окликнул распаленного Кольшу, заторопился к богоявленцам. Наутро ждал новый бой.
Часть третья
Глава десятая
1
Егор Брагин сидел на подоконнике в дальнем конце казармы, тягуче зевал, прикрываясь ладонью. Во дворе бывшей мужской гимназии, где с лета обосновалась унтер-офицерская школа, вовсю разлегся снег, над полосатой караульной будкой стояло низкое октябрьское светило, кидая вокруг слабый отблеск. И неожиданно вспомнилось, как он впервые увидел закат и, вцепившись в юбку матери, закричал: «Мам, солнышко помирает!» – и долго не мог понять, почему оно, погасшее к ночи, утром выплывает из-за гор как ни в чем не бывало… Брагин скосил глаза на Амурскую улицу. Поодаль собралась толпа, – видно, опять упал кто-то. Не мостовая, а каток. «То ли дело у нас, в Красном Яру. Шагай себе с сугроба на сугроб, устал – посиди!»
Пройдясь по казарме, Егор остановился у своей койки. Учебные роты на плацу не теряют времени даром. «Вы потопайте, а я отдохну!» – мелькнуло в затуманенной голове. Каждый день одно и то же. Ровно в шесть подъем, гимнастика, завтрак, нудная, выворачивающая нутро долбежка, стрельбы или «ать-два, левой!». Нет, все-таки недурно побыть в одиночестве: никто тебе не мешает, не лезет в душу, не норовит заехать в рыло, на кисловский манер.
Брагин потер скулу, по которой тогда залепил прапорщик. Но что ни говори, служить можно, другого такого места не сыскать: на всем готовом, как у Христа за пазухой. Напрасно маманька волновалась…
Он посмотрел на дверь. Где же Мишка Зарековский? Опять запропал на кухне, утроба ненасытная… Уйдет, а ты за него отдувайся.
Мишка знай чапал своей дорогой, везло черту сиплому. Правда, не всегда… В последнее воскресенье, возвращаясь переулком из увольнительной, Егорка с Серегой набрели на драку.
– Пьяные… Ну их к бесу, – молвил Серега. – Ввяжись, и тебя ж первого – в участок!
Но Егорка вгляделся повнимательнее, не своим голосом крикнул:
– Наших бьют!
Налетели с гиканьем, раскидали, расшвыряли. Юнкера, их было четверо, брызнули в темноту. С земли поднялся Мишка Зарековский, отплевываясь кровью, плача от злости, погрозил кулаком туда, где высилась громада юнкерского училища: «Не все вам сверху, гады. Выйдем в офицерье, поговорим!»
В казарму он еле дотащился, с избитым лицом. И ведь выпутался! Сказал, дескать, оступился, чуть не угодил под копыта, и был освобожден фельдшером на три дня от занятий. Ну, да фельдшер тоже разбирается, что к чему, особенно если в твоем кармане деньга похрустывает. С ней, деньгой, не пропадешь…
Егорка свел брови. Странный все-таки человек Зарековский: неровен, весь в недоскоках и перепадах. Не дает спуску юнкерам, всячески увиливает от шагистики, одни торговые дела на уме. И ни с того ни с сего взвивается на дыбы, под стать иному служаке… Вот и с погонами случай. Смеялся, шутил с ребятами, получив на руки две плотные суконные полоски, долго обнюхивал их со всех сторон и вдруг окрысился на Брагина, едва тот робко вставил: «Погоны понавесили, честь спрашивают. К чему? Зачем старое-то ворошить?» Зарековский остервенел: «Тебе новенькое по нраву, звезда с пятью концами? Знаю, откуда ветер, м-мать… Степка, поди, спал и видел комиссарство красное!»
На лестнице послышались шаги. Слава богу, возвращается чертов больной, вспомнил-таки о казарме. Напугать его, что ли? Мол, фельдфебель Мамаев дважды справлялся о нем, называл скотиной и велел немедленно бечь в писарскую, на предмет экзекуции, иными словами – порки… С трудом сдерживая смех, Егор покосился на дверь и обомлел. В нее входил, опираясь на плечо Лешки, отец, Терентий Иванович Брагин, одетый в неизменный заплатанный зипун и треух. На боку привычно висела темная холщовая сума.
– Ох! – только и сказал Егор, бросаясь к нему, а он глядел незряче перед собой, шевелил седыми бровями.
– Ты где, солдат? Подойди поближе, не съем… – и быстро ощупал сыновнее лицо ладонями, поцеловал. – Здорово. Решили навестить, понимаешь, да еле отыскали.
Егорка усадил отца на табурет.
– Из дому давно?
– Недели три, – голос Терентия Ивановича малость дрогнул. – Разминулись мы с тобой в августе-то. Я из Тулуна, тебя в губернию…
– Чего ж мало в деревне побыли?
– Погостили, и хватит, не вечно же на материном горбу сидеть… Побродим с Лешкой по городу, покормимся своими силами. У него, брат, резные петухи стали здорово получаться. Много нам не надо: кус хлеба, полселедки, глоток чаю. Тем и живы будем… Ну, а ты каково здесь? В служивых, говорят, и не простых? – Он дотронулся до Егоркиного плеча. – У-у, при погонах!
– С сентября, после присяги…
– Омскому временному? – спросил Терентий Иванович. – Так, так… – Он помолчал, опустив кудлатую голову, кивнул в сторону больших окон. – Ваши вытанцовывают?
– Они. А я дневалю сегодня. Служба легкая, только… на посты гонять принялись. Через день, да каждый день. – Егорка внезапно прыснул. – Потеха! Тут – я, тут – юнкер, а за ним – япошка в тонких обмотках и при усиках!
– Дожили до потехи, – вполголоса обронил отец. – Кто ж вы такие будете? Охрана, конвой или…
– Нет, батя, мы на унтеров учимся. Пройдем сполна науку, и чины с крестами добывать.
– А супротив кого?
Егорка вскочил, замахал руками, заговорил, не замечая, что слово в слово повторяет Мишкины доводы:
– Ругать легко, но вдумаешься… ей, власти-то новой, тоже солдаты нужны. Какая власть без воинской опоры? Ну, а опора – в тайгу… Да и вниманье ценить надо. Что ни месяц – две красненьких. Бери и не греши. Раньше вон твой зипун был на всех, теперь я и сам одет-обут, и для дома скопил кое-что! – Егорка достал из кармана кошелек, раскрыл, с хрустом, послюнявив пальцы, отсчитал несколько рублевых бумажек. – Вот, вам с Лехой на пропитанье. Остальные в Красный Яр.
Но Терентий Иванович деньги не принял, отстранил темной, в синих венах рукой.
– Мать как хочет, ее дело, а я перебьюсь и без ваших денег.
– Но ведь…
– Ша! Кончен разговор!
Лешка подался вперед, сказал сдавленным голосом:
– Батя, хоть на ичиги… Твои совсем прохудились!
– Цыц!
Егорка, помедлив, спрятал кошелек в нагрудный карман френча, сел бок о бок с отцом. «Помрет – не возьмет! А почему? Я никого не ограбил, кажется. Все честь по чести, без никаких!» Невпопад поинтересовался:
– Острога-то цела?
– Железо есть железо. Люди скорей вперегиб… – Терентий Иванович осекся на полуслове, помолчал и вдруг всхлипнул.
– Ты чего, батя?
– Ледокол «Байкал»… ваши… пустили на дно. А я этими руками каждую рейку, всякий винтик… – Терентий Иванович затрясся в беззвучном плаче. Егорка обнял его, успокаивал шепотом, как некогда в Москве, у глазной больницы.
– Что ж теперь волноваться, если беда стряслась?
Отец резко поднял голову.
– Чересчур много бед… в том и загвоздка. Был при большаках дом инвалидный – кошки съели. Степан убег от солдатчины – матерь твою выпороли. Я все… все вижу, сын, даром что слепой!
– Ради бога, тише!
Отворилась дверь, вошел Зарековский, напевая под нос, ковыряя спичкой в зубах. Увидел гостя, молодцевато выкатил грудь, словно тот мог оценить его выправку.
– Здравия желаю!
– Кто там? – Брагин-старший повернулся на табурете. – Голос больно знакомый… Михайло, что ль? Здравствуй, здравствуй. Вместе с моим, стало быть, лямку тянешь?
Зарековский весело оскалился.
– Мы с ним неразлучные. И койками рядом, и в строю, и гуляем за компанию… – он подмигнул смущенному Егорке. – Из Красного Яра, дедок? Родители мои живы-здоровы?
– Что с ними поделается. Батя в старостах сызнова и, по слухам, в уездное начальство метит.
– А Степка все в бегах?
– В бегах, милок, неведомо где.
– И… ничего? – продолжал веселые расспросы Мишка.
Терентий Иванович неопределенно повел руками.
– Рубцы на моей Аграфене зажили. Дом целехонек пока. Не то что у Малецковых, у Васькиной родни.
– А что?
– Двор ихний начисто выжгли, – встрел Лешка. – Подпалили с четырех углов и с водой никого не подпустили.
– Кто жег, дед Терентий?
Егорке становилось невмоготу от разговора, он чувствовал: вот-вот что-то будет. Угораздило их завести о пожаре, будто не о чем потолковать на радостях. Подал знак Мишке, тот вроде б не заметил.
– Известно, власти… – уклончиво сказал Брагин-старший.
– Приезжие, из Братска?
– Были и из Братска, и из Иркутска.
– Указали-то свои! – ляпнул Лешка.
– Говори прямо, дед, без уверток!
Терентий Иванович бесцельно поправил холщовую суму.
– Стоит ли, Миша? И тебе станет зябко, и мне пепел ворошить горько… К тому ж дети за отцов не ответчики.
– Та-а-ак. Спасибо за откровенность… – Зарековский поскрипел зубами. – Спасибо… Значит, папаня мой вам не угодил?
– Нам с тобой делить нечего, солдат. Напрасно всплыл на дыбы.
Но Мишку забрало основательно. Он задыхался от злости, теребил ворот френча:
– Н-нет, погоди… Значит, новая власть не понравилась? А когда нищета-босота наседала, чужое добро напяливала, совала в глотку луженую, это, по-твоему, было справедливо?
– Хоть я тоже из нищеты буду, но ты на меня не кричи, пес твоей матери!
Егор кидался от одного к другому, умоляюще дергал за рукав. От него отмахивались как от назойливой мухи.
– Отойди, не встревай, – хрипел Зарековский. – Ты в Вихоревке, у Прова Захаровича, был, не знаешь, что они в Братске и по деревням вытворяли, комиссарики! Явились, и давай делить что плохо или на виду лежало. Комбед сотворили, Степка ваш тоже с ними горло драл… У нас двух коров свели, Каурку облюбовали под председателево седло, бочонок масла взяли, уйму хлеба, пимы новые… Потом еще и еще… Хватит, погуляли, попили кровушки!
– Чьей? – вырвалось у Егорки.
– Ясно, не вашей, голодраной!
– Перестал бы ты, честное слово… – с тоской в голосе сказал Егорка. Но куда там! Еще злее становилась перепалка, теперь и отец не уступал, отбросив прочь недомолвки.
– Зачем ему переставать? Он знает, вражина, что говорит!
– Знаю! – ревел в ответ Зарековский и ладонью рубил себя по багровому загривку. – Вот они где у меня, Советы и комбеды!
– Дождался опять своей власти, ну и целуй ее в зад! Но комбеды не тронь, сучье семя! – резал Терентий Иванович, выпрямившись в полный рост. – При них было у народа право, а теперь? За всех поет нагайка!
– А что, цацкаться с вами? Вы будете чужое хапать, а мы – терпи? Не выйдет!
– И у вас не выгорит ни черта. Лопнете вместе с властью омской!
Егорка обессиленно сел на стул, перекатывая ошалелые глаза, – рехнулись, ей-богу! – и снова забегал по казарме, вдоль длинного ряда аккуратно застланных коек.
– Батька… Мишка… одурели? А ну, влезет кто-ни-будь, греха не оберешься… Одумайтесь! Господин полковник сказал: никакой политики, одна учеба. А вы…
До Мишки наконец дошло, что не вовремя затеян спор. Злые слова застряли у него в глотке. Озираясь на дверь, он подошел к своей тумбочке, начал копаться в ней. И только сквозь зубы: «Сатана… Ну, сатана!»
– Лопнете, дай срок!
– Поори, поори, дед, авось допрыгаешься до петли, – пробубнил Зарековский, не оборачиваясь. – У нас не церемонятся, особенно с красными!
– А ты возьми и выдай!
– Мараться не хочу. Сам…
– Ну-ну, договаривай.
– Скажи спасибо, Гоха не убег…
– У него все впереди. – Последнее слово осталось-таки за Терентием Ивановичем. Долго молчал, поди, весь путь до губернского города, и вот прорвало…
– Ох, военных понаехало! Раз… два… три… Гоха, кто этот, с котячьими усами? – спросил от окна Лешка.
– Его превосходительство генерал Сычев, начальник гарнизона.
– А рядом, высокий?
– Новый окружной, его превосходительство генерал Артемьев!
– Его высокопревосходительство, – угрюмо поправил Мишка.
– А голенастый, с хлыстом?
– Тот, что сбоку строя? Английский инструктор, «дядька» по-нашенски. Они ведь нас и одели с иголочки, и на довольствие зачислили, и обучают. Кажная пуля, что выпущена, – английская. Все – от них!
Мишка с треском закрыл тумбочку.
– Да уж, добрые, добрые… Вчера вон у понтонного моста разыгрались. Баб хватали, толкались почем зря. Милиция стоит в сторонке и вроде бы не видит. Один прапор подошел к ним, а они его сгребли – и в воду. Чуть не утоп!
– Дура! – возразил Егорка. – Буянили-то мериканцы…
– А-а, хрен редьки не слаще, – Мишка махнул рукой, с усилием выдавил из себя: – Не серчай, Терентий Иванович…
– За что, солдат?
– Ну, лаялись-то…
– Да нет, спор был начистоту, об чем думалось.
– Ладно, дед, – со вздохом сказал Мишка. – Понимаешь, туго… И раньше не было власти доброй, и эта, омская, не клад. Щи без капусты не еда. Нужно что-то твердое. Такое, чтоб… – и помотал крепким кулаком. – Словом, временных много, а шкура у человека одна.
– Смотря у кого! – колко бросил Терентий Иванович.
– Не будем. И так… – Зарековский чутко вслушался, прикусил язык. В казарму входили командир первого взвода Гущинский и фельдфебель Мамаев. Егорка вытянулся в струнку.
– Господин подпоручик…
Гущинский коротко взмахнул перчаткой: отставить! Увидев нищего с поводырем, недоуменно-строго вскинул бровь. Но, судя по всему, догадался, кто перед ним, помягчел.
– Отец Георгия Брагина, если не ошибаюсь? К сыну, старик?
Приподнимаясь, Терентий Иванович пробормотал что-то невнятное. Гущинский легким прикосновеньем удержал его на месте.
– Сиди, сиди. Потом зайдешь на кухню. Скажешь, я послал.
Терентий Иванович совсем растерялся. Ждал, что будет гром с молнией, и на тебе… Дрожащей рукой вцепился в бороду, быстро-быстро моргал веками, по землисто-серой щеке скользнула слеза.
– Не извольте беспокоиться, – выговорил с трудом. – Сума полнехонька. Мне б вот солдата повидать, боле ничего…
– Слушай, что господин подпоручик советует! – вмешался Мамаев.
– Спасибо на добром слове…
Отойдя к окну, Гущинский кивком подозвал Егорку:
– В час дня проводишь господина фельдфебеля на вокзал, к черемховскому поезду. Остальное время свободен. Зарековский, подмени.
Всю душу вложил Егор в слова: «Будет исполнено!» И пока он делился радостью с отцом, командир взвода и фельдфебель вели свой разговор.
– Подорожная, деньги при себе?
– Все в порядке, Станислав Алексеевич.
– Долго там не задерживайся, без тебя как без рук. Посмотри, что и как в местной команде, подкрути унтеров, и назад.
Взводный легким шагом направился к выходу. Мамаев немного повременил, уловив быстрый взгляд Зарековского.
– Ты что-то хотел сказать?
– Никак нет, господин фельдфебель.
– Видно, померещилось. Но ты не стесняйся, сыпь напрямик.
– Так точно, господин фельдфебель.
Мамаев исчез вслед за командиром взвода. Терентий Иванович послушал, как замирают шаги на лестнице, безошибочно повернулся в ту сторону, где стоял Егорка.
– Душа-человек, взводный ваш.
– Гущинский-то? Не обижаемся, верно, Михаил? Он да штабс-капитан Терентьев. О солдате пекутся день и ночь.
Мишка Зарековский пристально смотрел на дверь:
– Да и фельдфебель не отстал от взводного. Шьет и порет, и на месте не сидит.
– Ого! – весело отозвался Егорка.
– А у других, что ли, глаз нету?
– Как, поди, нету… – Егор озадаченно поскреб в затылке.
– Я не про то. Можно и шары иметь, и ничего не видеть перед носом… – Зарековский усмехнулся. – В Черемхово едет фельдфебель-то? В местную команду, по учебным делам? Черемхово неплохой городишко, бывал, знаю. Одно скверно, чумазых лиц много, рук ухватистых, ртов зубастых!
– Зубы у всех нас будь здоров!
– Ни хрена ты не понимаешь, телок мокрогубый… Фельдфебель-то из мастеровых, смекай, и с кем в дружбе тесной? Тоже с ними. Слесарек седоусый тебе ведом? Тот самый, что свет ладит каждую неделю… Друзья-приятели!
– Ты и я, например, с пеленок вместе. Что ж плохого?
– О Степке забыл…
Егорка отмахнулся досадливо, прекратил разговор. Вечно он так: роет, и самому невдомек, зачем и для чего… А может, что-то прознал? Слишком цепко влез в свои поганые догадки, не было бы какой беды. От Зарековских жди любой пакости… Но припомнилось крепкое, бронзовое, словно топором тесанное лицо фельдфебеля, и Егор поостыл, успокоился. С ним лучше не тягайся, пупок сорвешь. Вся рота, сто двадцать гавриков, у него в пятерне!
2
Степан Брагин с Васькой Малецковым и Петрованом уходили из деревни последним августовским вечером. С утра лил дождь, не густой, но дьявольски холодный, на Ангаре вздымались иссиня-черные валы, низовка яростно смахивала с них пену. Пока шли тайгой, ельником, было терпимо, но вот выбрались на взгорье, и с удесятеренной силой налетел ветер: пронизывал насквозь, едва не сбивал с ног, отбрасывал назад.
– И ветрило заодно с теми!.. – пробормотал Васька, кивая на реку, по которой приплыла вчера в Братск мобилизационная команда.
– П-п-подует и с нашей с-с-стороны, – отозвался Петрован. Брагин молчал, спаяв губы. Невпроворот смешались в нем злость, боль, тоска свинцовая, вина перед маманькой.
Далеко за еланью, за медвежьим логом, верстах в двадцати от Красного Яра, прилепилась на опушке охотничья изба-укотье. Редко раздавались около нее человеческие голоса, одна-единственная тропа, делая частые петли, огибая топи и гари, вела к ней. Жили в избе наездами, не дольше двух-трех недель, пока не протечет по первопутку струя выходной белки. В этом году прокатила осень с ливнями и снегом, на диво короткая, ударили морозы, но люди не тронулись с места, тощали на глазах, обрастали дремучими бородами.
Сидя у окна и медленно протаскивая шомпол в стволе берданки, Степан вспоминал о первых днях в тайге. Теперь хоть зайчатина есть, а осенью кроме брусники со смородиной – ничего. Воду кипятили в пороховой коробке, под рукой ни чайника, ни чугуна. После обзавелись тем и другим, Васька в одну из вылазок припер на себе. И даже стекольце в окне появилось, вшитое в парусину…
Заскрипела дверь, в укотье сперва просунулся драный малахай, вздернутый нос под ним, а потом и весь Петрован с охапкой поленьев. Он проворно шагнул через порог, бросил дрова и долго стоял над железной печкой. Попутно заглянул в большой чугун, утопил в бурлящем вареве заячью ногу.
– Н-н-начин зимы, но впору хоть вой! – прохваченным стужей тенорком сказал Петрован.
Кузьма, лежащий на нарах в стойкой полутьме, казалось, только и ждал тех слов, чтобы завести старую песню. Подобрав ноги, сел, зябко поежился.
– Ага, житье. С энтого боку припекает, с того леденит… – Голос его упал до шепота. – Видать, одно и осталось, а, Степан…
– Говори, слушаю.
– Выйти и повиниться перед адмиральскими властями. Ну, почешут спину, и что же? Или ее никогда не чесали? Не лютей же они, «кокарды» омские, двуглавого орла… – На мгновенье смолк, увидев повернувшееся к нему лицо Степана, заговорил опять: – Куда ни двинь, везде клин. И за Уралом не сладко – напирают белые. С севера – Гайда и Пепеляев, с юга – Дутов и Ханжин… Сомнут! А тогда и нашему гнездовью крышка… Нет, надо сматываться подобру-поздорову!
У Степана невольно сжались кулаки. Надоело: ноет, ноет, ноет… А кто виноват, спрашивается! Сам притопал как миленький, никто не звал, не волок сюда на аркане. Ясно, приходится туго: и холод, и некусай, и ночевки с постоянной тревогой на сердце. Но почему другие не стонут, хотя бы Васька Малецков, годами вдвое моложе его? «Черт, заведет Кузьма свою шарманку еще раз – пристрелю как собаку!» А вслух бесстрастно сказал:
– Дуй на все, на четыре… Но учти, спиной да задницей не отделаешься, башка запросто полетит с плеч.
И тут удивил терпеливый, скупой на слово Петрован. Он сорвал малахай с головы, кинул на пол, закричал:
– А если я б-б-без бабы не могу? Если я с-с-сижу сиднем, а ее там… ухари, в-в-вроде братца твоего! Г-г-гошка небось не побежал… В унтерах блаженствует!
Взвейся плюгавенький Кузьма, выпали подобное, он бы тут же, не сходя с нар, лег замертво от крепкого Степанова удара. Но Петрован был иной закваски, старым товарищем Федота, и Степан только оторопел от его крика, замер у окна… Таким и застал его Васька Малецков, с вечера посланный в деревню за едой. Он опустил ношу у стола, расправил заиндевелые усы.
– Мир честной компании. Чего надулись?
– А у н-н-нас д-д-д… – заговорил Петрован.
– После докончишь! – в нетерпении перебил его Кузьма, босиком устремляясь к Ваське. – Ну-ка, показывай, чего раздобыл… Да живее, не мытарь! – и раздернул мешок, вывалил на стол содержимое: три каравая хлеба, круги мороженого молока, табак, малость соли, нитки, чашку, штаны с рубахой. Кузьма увял, отошел к нарам. – Не густо!
Васька пошарил в кармане, извлек несколько луковиц.
– Твоя маманька дала, Степан.
Тот, оглядывая Васькину добычу, тихо, словно нехотя, спросил:
– Ну, что – маманька?
Малецков грустно усмехнулся:
– И моя родимая хлебнула горького, но твоей, Степка, повезло в особенности. Молодкой на Зарековских день и ночь вкалывала, ослеп Терентий Иванович, пришлось ей быть и за отца, и за бога. Под старость – новая беда. Среднего сына в солдаты забрили, старший тягу в лес. И опять на матери отозвалось, поркой!
– Не трави душу… – попросил Степан. – У своих был?
Васька потупился. Но долго унывать он не умел: отхватил кус хлеба, присыпал сольцой, захрустел.
– А о Силантии знаете новость?
– Никак Серка возвернули?
– Последнюю, сивую, в армейский обоз!
– Дождался правды! – Степан покружил по избе, думая о чем-то. – Хлеба мало… – Решительно мотнул чубом. – Завтра пойдем. Не хотелось часто под пули соваться, место открывать, но что поделаешь.
Васькины глаза вспыхнули радостью.
– Сходим, долбанемся! – и тут же стукнул себя в лоб. – Чуть не забыл… К нам еще двое прилабунились. Ждут за увалом, в пади. Звать?
– Погоди, погоди, – ухватил его за руку Степан. – Что за народ?
– По всему, свои!
Лицо Брагина построжало, у губ снова отвердели желваки. До чего легковерный парень… Свои! У них что, на лбу написано? Однако делать нечего: увал в полуверсте. Не отсылать же назад, в лапы «кокард», под топор. К тому ж дознаются о нашем укотье, придут по свежим следам, сыпанут горячим.
– Зови, коль привел!
Васька опрометью выскочил за дверь.
– Ой, не ндравится мне ваша затея, – пробубнил Кузьма, забыв, что и сам недавно был вроде тех: брел неведомо куда и зачем, ослабев от голода, в разбитых опорках.
3
Малецков распахнул дверь, посторонился, пропуская новеньких, сказал солидным баском:
– Пожалуйте к атаману! – и неприметно подмигнул своим.
На одном из незнакомцев, худом, высоком, глубоко припадающем на правый бок, свободно болталась ватная стеганка, на другом потрепанное полупальто с каракулевым воротником, под фетровой шляпой для тепла повязан бабий платок, на ногах чесанки с галошами. Ребята покосились: одет как буржуй!
Высокий поздоровался вполголоса. Сказал и задохнулся, долго кашлял, сотрясаясь всем телом, в груди что-то выпевало тонкой струной. Ребята переглянулись понимающе: да-а-а, круто обошлась с человеком злодейка-судьба!
– Здорово, – ответил Степан, рассматривая высокого: серые глаза, волосы сплошь седые, лицо в морщинках, – и повторил: – Здорово, комиссар. Огнивцев, если не ошибаюсь? Можешь не говорить, кто таков, откуда, по каким признакам розыск ведется. Без того все на ладони. Скажи, Александровский централ на том же месте?
Человек с усмешкой разлепил бескровные губы:
– По бумаге немудрено угадывать, атаман. И к вам попала?
– Спасибо почтарю, снабдил. На раскурку жестковата, но при нашей бедности сойдет… Садись, комиссар, к огню. Эй, Кузьма, подвинься… А вот на сытную кормежку не рассчитывай. Петрован, что с зайцем?
– К-к-кажись, еще не упрел.
– Ах, черт! – с досадой выругался Степан и неожиданно повернулся ко второму. – Говори-рассказывай.
– О чем?
– О чем угодно!
– «Красная Пенза эвакуируется в Вязьму». «Состояние нации близко к глубокому обмороку»!
– Тьфу, дьявол! – Кузьма раскрыл рот, испуганно заморгал.
Ласково глядя на обитателей укотья, низенький все тем же доверительным голосом сообщил:
– «По слухам, император Вильгельм вступил в социал-демократическую партию, а Карл Либкнехт провозглашен наследником престола».
Малецков повертел пальцем у виска:
– Эй, дяденька, ты – не того, пока брел?..
– «Сегодня в двенадцать часов в продсовлавочке производится выдача брюнеток по желтым талонам и блондинок – по красным. Запись в очередь там же».
– Ч-ч-чудеса! – развел руками Петрован.
– Говори-ка о себе! – Брагин разом прервал поток странных речей.
– Видите ли, я с ним. Или этого мало?
– Кто такой, спрашиваю! – рявкнул Степан, приподнимаясь на локте. – Коммерсант, шпион, писарь, подрядчик, черт, сатана?
– Просто странник.
– А проще?
– Путешествую по Ангаре. Созерцаю, думаю.
– Кем был до того, как начал… думать? – подкинул вопрос Малецков.
– Был, по необходимости, комиссионером. Приценивался, покупал, обменивал, продавал, знаете ли…
Васька – в тон ему:
– Драл три шкуры с честного люда.
– Случалось и такое, юноша, – согласился низенький.
– Ну, а потом? – спросил Степан.
– Последнее время служил в уездном почтамте. За отказ вскрывать частные письма оказался не у дел.
– То-то газетами до сих пор несет, хоть нос зажимай! – Степан вдруг улыбнулся. – Об чем еще катают, кроме Вильгельма?
– О многом, только не по эту, а по ту сторону.
– О порках, значит, ни слова? – глухо спросил Степан. – О спаленных избах, о налогах, о рекрутах…
– Как же, как же… «Мобилизация по Сибири протекает великолепно, без каких-либо осложнений. Новобранцы в полных списках являются на призывные пункты».
Васька прыснул:
– Точь-в-точь про нас, а, Степан? – Он по-свойски хлопнул низенького по плечу, шутливо откозырял. – Будем знакомы. Дезертир сибирской армии Василий, сын Поликарпов. Это – Степан Терентьевич Брагин, атаман. Рядом – Кузьма, такой же приблудной, как и вы, с того берега. Кашеваром – Петрован, мой зятек.
– Полиевт Оганесович Тер-Загниборода, – ответил низенький, кланяясь. Грянул общий хохот. Васька присел у порога, заливисто хохотал Степан, ухватясь за бока, ему вторил козлобородый Кузьма.
– Ой, уморил! Ой, смерть моя! – стонали ребята. – Ха-ха-ха! О-хо-хо-хо-хо!
Первым опомнился Степан. Утер веселые слезы, оказал сквозь смех:
– Как же тебя понимать? Хохол ты или армяшка? Или то и другое вместе?
На лице Тер-Загнибороды мелькнула грустная улыбка человека, привыкшего к таким оборотам.
– Видите ли, моя родительница… Вернее, мой достопочтенный дед…
– Хватит! – остановил его Степан. – Пристраивайся к котлу, Тер-Борода. Петрован, что-то стужей потянуло.
– Огонь п-п-погас, пока мы тут з-з-зкакомились, – отозвался тот и, встав перед печкой на колени, принялся раздувать угли.
Васька хлопнул низенького по плечу.
– Садись по-братски. Харч имеется?
– Есть немного.
– Вытаскивай: братство так братство! – и поднял голову. – Никак был свист?
– А ну, Кузьма, проверь, кто там еще, – велел Степан, – да окликни сперва. Бердану возьми.
Улыбки точно ветром сдуло с губ. Ребята сидели, напряженно вслушиваясь и с минуты на минуту ожидая пальбы за стеной. Высокий оглядел всех по очереди.
– Да-а-а, – сказал он с иронией. – Плохи ваши дела, молодцы Братского уезда.
Степан ответил не сразу.
– Жизнь хреновая, комиссар. За час вперед не уверен, во как. Всякий миг жди гостей: или местная милиция нагрянет облавой, или особые из города, что с капитаном Белоголовым села жгут. А жрать надо? Хлеб, одначе, на суках не растет, идешь на дымок, а там – «кокарды». На той седмице вон еле ноги унесли с Петрованом!
– Ага, – подтвердил тот. – Ч-ч-чуть не вз-з-злетели на осину! – Он заметил испуг Тер-Загнибороды, легонько толкнул его в бок. – Ты жми на едово, с-с-странник. Пугаться б-б-будем потом!
– Родичи в красных есть? – спросил Огнивцев.
– А мы какие, по-твоему? – задиристо молвил Васька и тут же сник. – Да и в белых навалом. Через дом, не реже.
– Переплетец. То-то вас не слышно, не видно.
Все загалдели разом.
– Но-но, комиссар, не очень. Дюзгаем понемногу!
– В смысле – грабите?
– Нет, зачем? Берем открыто и другим даем, голи тут ого-го. Беднота-то сама отдает последнее… – прогудел Степан. – Зуб на власть имеем крепкий! Петрован, скажем, до смотрителя на Лучихинской домне добирается. За сестренку поруганную… У Васьки с Кузьмой – иной разговор. У меня – тоже, особенный.
– Все-таки… скудно живете. Без гнева, без света!
У Степана задергало щеку. Ребятам его вспыльчивость была не в диковинку, чуть что, замолкали, но гость о ней не знал, потому и разговаривал так настырно. Подзадоривал, что ли? Вроде б нет расчета. Ну, пойдут они шастать по деревням, а ему один путь – пока на нары, а по весне в гроб…
– Мы браво не ходим, высоко не парим. Поучи нас, мил человек! – сказал Степан с затаенной усмешкой, но потом не сдержался: – Слушай, сидел бы ты дома, чего всколготился? Еле душа в теле, ей-пра!
– И то, собрался было на полати, да не получилось – волки набежали! – Огнивцев в карман за словами не лез, были они всегда при нем, наготове.
– Что ж нам делать, по-твоему?
– Мозгой шевелить надо, вот что. В низовья, к Илиму, гонца посылайте. Там не дремлют.
– А если мы сами по себе… – задиристо начал Васька, но Степан перебил его:
– Пусть они к нам идут. Здесь и до губернии поближе, и до «чугунки» подать рукой. А кто у них главным? – неожиданно поинтересовался Степан.
– О Бурлове слыхивал?
– Так, мельком.
– Ничего, услышишь. Глыба-парень!
Вбежал запыханный Кузьма, затоптался вокруг печки, косясь на ополовиненный чугун.
– Степша, лучихинский малец прибегал! Говорит, сход у них был утром, отказались царскую недоимку платить. Земский с угрозой: мол давайте подобру, Омск шутить не любит. Вы, мол, и осенью не внесли ни гроша, все ждали твердой власти. Она, мол, вот она – верховный правитель, адмирал Колчак… А мужичье с мастеровыми в один голос: не знаем о таковском, не слышали… Земский как заорет: может, вам Ленин о комиссарами надобен?..
– Что же сход? – спросил Огнивцев.
– Ясно, в рев. Ты, дескать, нас на крючок не лови, мы ученые! На том и разошлись. А земский наряд милиции вызвал…
– Эх, черт! – Степан яростно стукнул кулаком по столу. Ребята в замешательстве смотрели на него, но что он мог ответить? Ввязываться в открытый бой с «кокардами»? У них при каждом новенький японский карабин, а у нас? Берданка, скрепленная для верности медной проволокой, и тройка дробовиков…
– По какой дороге поедут? – спросил Огнивцев.
– «Кокарды»? По обычной. От укотья по прямой четыре версты.
– Наряды крупные? – Огнивцев набросил на плечи снятую было стеганку, слабой рукой потянулся за валенками.
– Раньше по двое шастали, теперь боятся. Впятером гуляют, а то и ввосьмером, на двух-трех подводах.
Огнивцев встал на нетвердые ноги, вынул из кармана револьвер, пересчитал патроны.
– Раз, два, три… Обойдусь!
Степан исподлобья следил за ним.
– Ты чего всколготился? Остынь, подумай. Против силы ведь не попрешь, она покуда на их стороне. Так?
– Сказал бы я тебе, да… Эх, бабья ваша кровь… Леший с вами, один пойду!