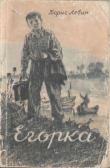Текст книги "Друг другу вслед"
Автор книги: Эрик Шабаев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)
Под вечер отошли к реке. Белые, получив крепкий урок, поотстали, над урманом распростерлась тишина. От берега к берегу засновали юркие челноки, перевозя раненых, батарейцы канатами перетягивали по дну орудия, свои и трофейные, пехота столпилась у костров, разведенных в укромных уголках, грызла черные, каменно-твердые сухари, запивала водой. Отыскались-таки обозы: по выходе из села Воробьи едва-едва не угодили под казачьи пики и сабли, чудом увернулись, благодаря находчивости Ксенофонта Медведко.
Ребята повеселели.
– Что ж, лиха беда – начало, а там и штаб вскоре объявится! – радовался Кольша Демидов. Он теперь командовал ротой.
Игнат с командой пеших разведчиков до утра удерживал переправу через Тобол.
Под огнем переплыли реку, оснулые, на шатких ногах ввалились в старые окопы, казалось покинутые навсегда, и первое слово Игната было о Петре Петровиче. Никто ничего не знал, даже молодой оператор, который вел головную группу штабных и, заплутав среди бесчисленных озерявин, выбрался к переправам соседней дивизии. По его словам, переданным ребятами, вторая группа с начштаба тоже готовилась в путь. Не знал и Санька Волков, хотя его связисты оставили Воробьи чуть ли не последними.
Он сидел в окопе рядом с комиссаром, рассказывал:
– Пока провод сматывали, пока грузили аппараты на телеги, смотрим – пусто. Потом конный выскочил из темноты, заорал благим голосом: «Обалдели, мать-перемать? Кругом – казара!» Мы, понятно, с места в карьер… – Санька вгляделся в грустное, пепельно-серое лицо товарища, сказал горячо: – Да не мог он пропасть, не такой человек. В жизни отыскал дорогу, и здесь выпутается, ей-ей!
Предчувствие беды точно тисками схватило сердце Игната. Ни слова не обронил в ответ, повернулся, пошел к дому, где разместился штаб.
Там вовсю кипела работа, молодой оператор, правая рука Петра Петровича, не спал. То и дело звонили из полков: на реке усилены караулы, роты приводятся в порядок, впервые за четверо суток подвезена горячая пища… Готовилось донесение в штадив, писаря уточняли списки убитых и раненых, у крыльца переминалась с ноги на ногу орава «Иисусовых воинов», пойманных уральцами.
К Игнату шли комиссары, политруки, председатели партийных бюро, каждый со своими заботами, он вникал, советовал, кое с кого снимал стружку, а в голове острием торчала мысль: что с Петром Петровичем? Ему казалось: вот-вот откроется дверь, порог стремительно перешагнет сухонький, подтянутый начштаба, и потечет его быстрый, рокочущий говорок…
3
За Тоболом стояли недели три. Белые сгоряча сунулись было к воде, но, встреченные плотным огнем, отпрянули. Да и силы у них были далеко не прежние. Наступило затишье, – правда, относительное, зыбкое. Через реку нет-нет и вспыхивала перестрелка между постами. Свинец летел вперехлест – с правого на левый, с левого на правый берега.
– Эй, остановись, побалакаем! – кричали красные.
– А зачем вы пуляете? – орали в ответ колчаковцы.
Пальба умолкала, и завязывались «дипломатические переговоры». Тут и ругань, и угрозы, и агитация. Сыпались остроты в адрес адмирала с заморской нечистью, в адрес «комиссародержавия»… Изредка подавали голос орудия. Пробовали на крепость оборонительные узлы, нащупывали слабину здесь и там, просто нагоняли страх.
Всякую ночь на тот берег отправлялись охотники за «языком». Особенно везло Кольше. Чуть задремлет белый «секрет», его цап-царап, и в лодку.
Отшумел последний листопад, поредело чернолесье, и только урманы стыли в знобкой темной зелени… Десятого октября на заре красные вторично форсировали Тобол.
…Снова обступали темными избами Воробьи, вокруг ни песен, как в первый приход, ни звонких ребячьих голосов, только на востоке, в пяти-шести верстах от села, погромыхивали пушки.
У братских могил тесно бились работники штаба, ординарцы, выборные от полков и батальонов.
Хоронили Петра Петровича, настигнутого в ночи казарой, хоронили бойцов, погибших при новой атаке села, и вместе с ними, как солдата, хоронили молоденькую учительницу. Видно, кулачье прознало о ее разговоре с военкомом, расправилось по-своему: когда передовые части бригады вошли в Воробьи, висела учительница посреди площади, тоненькая, исколотая штыками, с вырезанной грудью.
Игнат неотрывно смотрел на гроб с останками начштаба. Сколько было пройдено вместе, сколько испытано, доброго и подчас нестерпимо горького, обидного… Сколько было споров, задушевных бесед о том, что ждет впереди, и вот не дошел, упал на безымянном взгорке, с раскроенным наискось плечом…
Густо резанул залп.
4
Осень поперву была как осень. Круглилось нежаркое солнце, пламенела листва, устилая дороги, над головой с криком проносились журавлиные стаи. Потом небо потускнело, налилось мутью, посыпала морось, на трое суток подряд расхлестался проливной дождь. Потихоньку-полегоньку подуло с севера, багрово-синий отсвет лег по черте окоема. Ударил морозец. Мокрядь словно схватило на лету: перелески и склоны оделись густым инеем, под ногами зазвенел тонкий гололед. В одну каленую ночь пала пороша, начисто сгладила рытвины и ухабы, и потекли ровные студеные дни. Сизо голубели полосы неба промеж свинцовых туч, вдалеке белели хомутины продолговатых озер, скованных льдом, ветер вполголоса напевал в оголенных ветвях.
Омск, столица Колчака, был взят штурмом Двадцать седьмой дивизией. Тридцатая миновала его стороной и в районе Колывани, после недолгого боя, настигла огромный обоз беженцев. На многие версты растянулся он по тракту. Плотно, в четыре-пять рядов, катились кожаные возки, скрипели полозьями простые деревенские сани, следом поспевали разномастные фаэтоны, брички, линейки, медленно плыли орудия, зарядные ящики, солдатские кухни без дымов. По обочинам, испестренным пожогами, валялись палые лошади, сломанные кибитки, мебель, штуки атласа, бархата, шелка, искристых сукон.
Игнат, настороженный до предела, видел, как правофланговый Мокей Кузьмич не утерпел, наклонился, поднял кус тонкого зеленого сукна, почмокав губами, пронес немного, бросил. У Игната отлегло на сердце: «Ф-фу, напугал, бородач!» Но, оказалось, тот облюбовал небесно-голубой атлас. Сгреб на ходу пятерней, сделал несколько шагов, швырнул атлас прочь, соблазненный бархатом. И пока он то нагибался, то вновь распрямлялся, Игната кидало из жара в холод, из холода в жар. Наконец Мокей подобрал балалайку, брошенную солдатами, заткнув рукавицы за пояс, весело затренькал, запел сипло:
Ой ты, сукин сын, камаринский мужик,
Ты зачем нашу калашницу женил?
Обоз накатывал густыми валками, сбивался, пугливо уступал колонне дорогу. В повозках сидели господа. Один, в мехах, с испанской бородкой, заметил своекорыстные потуги правофлангового, суетливо соскочил с саней, протянул золотые карманные часы.
– Э-э, возьмите…
– Брысь! – И господина будто ветром отнесло в сторону.
Команда связистов Саньки Волкова грузила на подводы трофейное имущество: новенький коммутатор, телефоны, мотки английского кабеля, гибкого, двойного, покрытого серебристой эмалью.
Мимо, в клочьях седого тумана, ехал бригадный летучий санотряд. Над передней повозкой склонился с седла Кольша Демидов, что-то говорил Палаге. Она, обратив к нему круглое, разрумяненное стужей лицо, заливалась грудным смехом.
«Ксенофонту, стало быть, от ворот поворот? – удивленно подумал Нестеров. – Что ж, давно пора. Девка она с перекрутинкой, но ведь молодая совсем, оттого и шалая. Дай срок, поумнеет!»
Он увидел свою Натку, покивал ей: мол, до вечера, – и пустил белолобого рысью.
Колчак бежал… Тремя бригадами дивизия наступала от Колывани к Томску, где восстал гарнизон. Шла заметенными проселками, а сбоку осатанело хлестал «сип», низовой декабрьский буран, ревел дикими голосами.
В лесу было все-таки легче: ветер как бы раздавался вверх и в стороны, гнул сосновые стволы поодаль, свистел в вершинах елей, но стоило выйти на открытое место, бил наотмашь, слепил колючей белой пылью, мертвой хваткой сдавливал горло. Бойцы шагали с сугроба на сугроб, оцепенев от стужи.
– Ох и дерет. Окороков не чую, не только пальцев…
– Им-то каково теперь?
– Кому?
– Да «кокардам».
– Им, по всему, холодней.
– В теплых-то шубах?
– Изнутри подмораживает, к бурану вдобавок!
Иногда в строю падали без крика и стона. Подходил фельдшер, трогал пульс, всматривался в синевато-белое лицо, знаком подзывал санитарную повозку. Отвоевался парень! А тиф ли, «испанка» или простое обморожение – все равно…
Студеная, вьюжная, беспросветная полночь. Калмыков и Нестеров после короткого привала подняли белоречан, ушли с ними в темноту. Колонна выбивалась из сил. Пройдет и замрет, как вкопанная, двинется – и снова остановка… Что-то тревожило комиссара, камнем наваливалось на сердце. Что? Белые удирают во все лопатки, почти без боев, батальоны и роты на ногах, если брать вкруговую. Какая хмарь гнетет?
Ординарец, посланный к командиру головного дозора, не возвращался, видно, застрял где-то на обочине, пропуская строй. Игнат повременил еще немного, поехал вдоль заснеженной, скованной усталостью колонны… И обомлел. Дозорные вместе с проводником и ординарцем спали в седлах, кони брели сами по себе. Игнат рассвирепел, огрел ни в чем не повинного белолобого плетью. Ну, бранись, ну, срывай голос, а толку? Всему есть предел: третьи сутки в дороге, чуть ли не вплавь по снегам…
Он встрепенулся от близкого говора. Из-за елей выезжало человек двадцать конных. Троицкие или оренбуржцы – сквозь белую сутолочь не разберешь… Игнат оглянулся. Дозорные, успев опомниться, ждали с карабинами наперевес.
– Какой части? – спросил Игнат.
– Разъезд Третьего кавдивизиона.
«Все верно. Есть у нас такой, соседней бригаде придан!» – повеселел комиссар.
Обе группы съехались вплотную, закурили. Лошади, чуть не сталкиваясь мордами, копытили снег, жадно тянулись к метелкам реденького пырея.
– Где были?
– В Воронцовке, чтоб ей… Ни жратвы, ни зелья. Голым-голо!
– Но ведь там противник…
– Будя врать. Мы час как оттуда! – возразил кавалерист, видимо, старший. – В ночь три сотни подошли да нас около того.
Смутная догадка опалила Нестерова.
– Стой, а вы… белые или красные?
– Свои, свои. Чистые как снег.
Ни слова больше не говоря, Игнат выхватил маузер, вскинул на руку. Осечка! Белый разъезд, нахлестывая коней, с бранью растворился во мгле.
«Вот тебе и хмарь, – подумалось Нестерову. – Зевни, могли б запросто влезть в капкан!»
Пять суток без сна и отдыха шла бригада, на шестые, под утро, уткнулась в чугунку. Макар привел путевого обходчика, рослого старика с кольцеватой бородой, тот сказал:
– Ветка Томск – Тайга, вы на ей самой, – граждане-товарищи.
«Это сколько же отмахали от Колывани? – прикинул в уме Игнат. – Без малого полтораста верст, по заносам, встречь вьюге… Недурно, как сказал бы Иван Степанович Павлищев!»
Первая белая армия попала в кольцо. Кинулась было напролом, точно бык бешеный, иступила рога, осев на задние копыта, стала – дивизиями и полками – сдаваться в плен. В штабе Калмыкова появился гонец с севера.
– Что там, у красноуфимцев?
– Пленных пропасть. – Гонец принялся считать по пальцам. – Гренадерская бригада, егерский полк, Двенадцатый сибирский, Томский кавалерийский…
– Эка, старый знакомый, – ввернул Кольша. – Не подвел улан!
– А сам Пепеляев, с охвостьем, чешет лесами, вам наперерез!
– Подъем! – скомандовал Михаил Васильевич.
Преследуя пепеляевцев, красные с боем ворвались на станцию Тайга. Вокруг море багрового пламени, дым под самое небо, треск. Парила взорванная водокачка, горели пакгаузы, наполненные заграничным добром. На восьми путях, кроме главного, свободного, стояли впритык эшелоны, и в них мертвые женщины, дети, старики, солдаты в кроваво-гнойных бинтах, тифозной вошью заеденные, стужей добитые.
Бойцы заглядывали в окна вагонов, бледнели, быстро отходили.
– Позаботился Колчак, вместе с господом богом, успокоил всех!
– Малышню жаль… Она-то чем виновата?
– А ему наплевать. Проскочил на полных парах и доволен!
Жизнь теплилась только в составах, что подкатили последними. Единственный часовой прохаживался вдоль вагонов, строго посматривал на солдат. Кто-то из них, набрав на станции досок, летел обратно, дергал синими губами: «Бр-р-р-р-р!»
Пленного остановили богоявленцы.
– Эй ты, как тебя, господин, что ли?
– Сказанул тоже – господин… – с обидой молвил солдат.
– Кто ж тогда? Пес-доброволец?
Вмешался часовой.
– Ай не видите – нобилизованный? Добровольных таперьча днем с огнем не найдешь. Иль поколоты, иль сверкают пятками к Иркутску… А энти сплошь из деревень, смирные. Сами сдались, без подсказки!
От станции группой подошли командиры, что-то сказали часовому. Он зычно скомандовал: «Стройся-а-а!» Пленные горохом посыпались в поле, замерли густыми шеренгами.
Краткий опрос, отбор, отсев. Старики домой, на полати, под старухин бок, молодые вливались в красные войска… Снова опрос, теперь поглубже, поострее. В ответах мелькали номера белых частей, разгромленных под Новониколаевском. Какой-то рябенький коротыш невольно, по въевшейся привычке, выкатил грудь колесом, гаркнул:
– Двадцать пятый имени адмирала Колчака полк!
– Напужал, дяденька! – Макар Грибов с деланным испугом заслонился рукой.
Шеренги сердито загалдели, прорвались криками:
– Чего распелся? Не надоело, едрена мать?
– Были ваши, стали наши! – смеялся Макарка, сопровождая одну из групп в Богоявленский полк.
5
Бои разворачивались на подступах к Красноярску, в Щегловской тайге.
За спиной бесследно пропала степь, до стерни обдутая вьюгами, на смену придвинулись каменнолобые увалы, один выше другого, непроходимые еловые дебри в редких паутинках проселочных дорог. Близился Енисей…
Батальон Кольши Демидова в ночь далеко оторвался от своих. Чуть брезжило утро. Мороз, особенно крепкий на рассвете, спирал дыханье, оседал куржевом на бровях и усах.
Задумался Кольша, едучи впереди своих четырех рот. Вспоминал враз о многом. О Палаге, нежданно-негаданно заполонившей сердце. О Петре Петровиче, который не дожил до победных дней. О комбате Евстигнее, раненном под Колыванью. Поди, добрался до Усолки, ходит с пустым левым рукавом, заправленным в карман, с тоской поглядывает на север, куда отступали позалетось. Неужели так давно? А ведь что ни утро – то кровавая драка, треск пулеметной и ружейной пальбы с вкрапинами орудийного рева. Это сколько ж боев-то вынесли на себе за два лета и полторы зимы? Петровское, Зилим, Чертова гора, Иглино… Стал считать, сбился, махнул рукой. Один уральский рейд по огню и остроте равен целому военному году. А потом камские накаты и откаты, потом Сибирь-матушка, где снова льется кровь, где вовсю свирепствует сыпняк. Слегла Натка, вынесли ее на какой-то станции. Что будет через день-другой, куда выведет заметенный проселок, кого еще недосчитаемся в строю?
Думы прервал тихий, тревожный голос: «Товарищ Демидов!» Командир первой роты почему-то указывал обратно. Верстах в двух, по дороге, утрамбованной сотнями ног, тихой рысью подвигалась кавалерийская колонна, следом из-за увала вытягивался обоз, поблескивала нитями штыков пехота, без малого с батальон. «Что за черт, кто такие? – пронеслось у Кольши. – Наш дивизион был правее. Неужели перекинули на подмогу?» И тут же успокоился. От кавалерии к ротам скакал всадник, в нем Кольша угадал председателя полкового бюро.
– Откуда конные, дядя Роман?
– Я их обогнал в темноте, спросить как-то не стукнуло в голову. – Председатель озадаченно крякнул: – Может, все-таки узнать?
– Стоит ли? – заметил Кольша. – По-моему, третий кав…
– Не кав, не гав, а колчаки, самые настоящие! – отрубил остроглазый Макарка: он с вечера привез распоряженье Калмыкова и застрял у друга.
– Да ну-у! – не поверил председатель бюро.
– Белые! – определил теперь и комбат.
– Но я же три версты с ними… обок. Неужели б не засек, по погонам хотя бы? – и мрачно: – Так и есть, они!
Не сводя глаз с колонны, Кольша подал команду. Пулеметная рота, приданная батальону, развернулась кругом, сняла с повозок «максимы» и «гочкисы», прилегла за щитками в полной готовности.
Колонна тем временем приблизилась на версту, остановилась, передние спешились, беззаботно заходили около коней, согреваясь. Кольша с дядей Романом изумленно смотрели с пригорка. Чудеса в решете! Никак принимают за своих? Ни дозора перед собой, ни завалященького разъезда.
Кольша огляделся. «Как быть? Организовать оборону? А если с востока подоспеет на шум казара? Стиснут с двух сторон, запоешь песню… Отскочить с проселка? Тогда враг уйдет целехоньким и где-то там, на коренном тракте, учинит кровопусканье красноуфимцам!» – думалось лихорадочно, а глаза привычно-цепко обегали местность, на которой вот-вот вскинется бой. Правее – лесистый увал, впереди – белое поле, прорезанное дорогой, по левую руку – овраг с крутыми заснеженными откосами. Еще козырь, к увалу вдовес. Но колонна-змея… что с ней делать?
И он решил, точно бросился с обрыва. Одна рота прикроет батальону тыл, с остальными и с командой конной разведки бить по кавалерии. Расчет прост: кинулся в лоб красный командир, стало быть, уверен в своих силах… Поди, и Калмыков поступил бы точно так же, и Сергеич!
Белые наконец почувствовали неладное. От колонны-змеи отделилась кучка верховых, зарысила полем. Основная масса шла следом, почти не отставая, напирала на головных. Там, видно, все еще не верили, что в отдаленном лесном урочище, глубоко в тылу могут появиться красные.
Теперь пора! Кольша подал знак, пулеметы резанули по колонне. Крики, ругань, ржанье лошадей… На дороге образовалась пробка. Всадники и пехота потеряли строй, заметались туда-сюда, беспорядочной толпой повалили в сторону.
– Ой, уйдут! Ой, уйдут! – пристанывал Макарка.
– Если по-умному, не уйдут! – спокойно отозвался председатель полкового бюро. – Овраг-то обок с их отходом. Смекаешь?
– Дядя Роман прав! – загорелся Кольша. – Бери конных, несколько «шошей», дуй наперехват!
– Есть! – выпалил Грибов, срываясь с места.
Разведка наметом вынеслась на высокий гребень, ударила. Вскоре на санях подоспела пулеметная рота, сгустила огонь, белые покатились на юг, устилая поле темными неподвижными бугорками.
Кольшу подмывало вскочить в седло, ринуться в самое-самое пекло, поиграть шашкой. С трудом пересилил наважденье, покусал губы. Не взводом командуешь. Четыре роты под рукой, не хухры-мухры. Да и сам в кольце, о том не забывай. А ну выпрут новые охвостья?
Перед ним возник запаленный Макар.
– Что стряслось?
– Знаешь, там… – Грибов задохнулся от ледяного ветра. – Там еще овраг, наперерез. Обрыв сажени в три!
– А «кокарды»?
– Бегут прямо к нему!
Кольша обернулся к резервной роте:
– Вперед! Бей по хвосту, с головой после! – Рев, треск, пальба. Снималось прикрытие, бросалось в бой… Через несколько минут подлетел конный разведчик.
– Свалка, товарищ комбат! Всей оравой влопались…
– Едем!
Показался овраг, заваленный трупами коней и солдат, живые муравьями карабкались по крутому противоположному склону. Хвост змеи был еще на этой стороне, ему вдогон стрекотали «шоши» разведкоманды. По самому краю бешено мчалась тройка вороных, черный возок мотало на ухабах. Путь преградило орудие, тройка взвилась на дыбы, возок опрокинулся. Кто-то увесистый, в пестрой волчьей шубе, влез на отпряженную выносную и – был таков.
Бойцы долго ловили брошенных лошадей, вытаскивали из оврага пулеметы, невдалеке понуро толпились пленные. О возке, что едва не свалился под откос, вспомнили потом: удобен, черт, как раз для раненых! Демидов подошел, потрогал кожаную обивку, велел привести какого-нибудь пленного, по возможности, унтера.
– Чей драмадер?
– Его в-высокопревосходительства… главнокомандующего армией… г-генерала Сахарова!
– Что-о-о?
Усольцы гурьбой кинулись к возку, заглянули вовнутрь. И правда, вещи его – карабин, поднесенный «лично от рабочих Ижевского завода», именная шашка из Златоуста, сумка с секретными бумагами. Грибов потемнел круглым лицом.
– Проворонили волчину!
Демидов хотел что-то сказать, с улыбкой повернулся, и пуля, посланная издалека, впилась ему в грудь, опрокинула на голубоватый, искрами, снег…
Глава четырнадцатая
1
Открыли окованную железом дверь, толкнули с верхней ступеньки:
– Отдыхай, сволочь! – Егор Брагин упал, перевернулся через себя, поехал по обледенелому полу куда-то вниз.
– Давай ко мне, тут солома! – позвал знакомый голос…
– Лукич, ты? Эх, Лукич…
– Спокойно, паря. Не выказывай слабости, им она, твоя дрожь, сердце греет.
Приводили еще и еще. Влетел головой вперед человек в белой, клочьями, рубахе, стоя на четвереньках, долго шарил вокруг, искал очки.
– Кто таков? – спросил Мамаев. – А-а, учитель. Садись, гостем будешь! – Человек сел, вздохнул со всхлипом. Потом втолкнули старика, троих молоденьких парнишек, и тут же увели кого-то. В карцере наступила гнетущая тишина. Через несколько минут со двора донесся еле слышный выстрел. «Кончили!» – мелькнуло у Егорки. Старик рядом с ним осенил себя крестом, зашептал:
– Помяни, господи, душу вновь преставленного раба твоего!
– Помянет, будь уверен… – подал голос один из парней. – Тебя-то они за что, дедок?
– Пронька, внук, убег до Зверева, а я отвечай… Вы тоже, поди, прочь навострились?
– Ну, не-е-ет, нас теперь из города на буксире не вытянешь. У нас, дед, за Ушаковкой дела огромные…
– Знаешь, держи при себе! – одернул его Мамаев.
Час ли прошел, день ли, неизвестно, когда в подвал снова спустились надзиратели во главе с помощником начальника тюрьмы. Луч фонаря скользнул вдоль заиндевелых стен, выхватывая мертвенно-бледные лица, широко раскрытые на свет глаза.
– Собирайтесь!
Арестованные повскакали, торопливо поддергивали штаны, дрожащей рукой проводили по всклокоченным волосам.
– На выход!
Первым шагнул Мамаев, но точно рассчитанный удар свалил его на прелую солому. Вслед за ним грохнулся Егорка Брагин.
– Вы – двое – не торопитесь… Оказывается, красное семя, хоть и в школе Нокса обитаете! – глумливо сказал помощник начальника тюрьмы. – Решать о вас будет сам генерал Сычев. С предателями у него просто: или веревка на шею, или к заложникам, кои собираются на Байкал, в «гости» к атаману Семенову!
На этот раз увели всех: и очкастого учителя, и старика, и молодых ушаковских рабочих. Двое ждали выстрелов, но их почему-то не было. Видно, поиздевались и отпустили по домам, а может, перевели на новое место.
Егор сидел, окоченев, не попадая зуб на зуб. Шутка ли – столько часов пробыть на сквозняке, без сапог, в одной неподпоясанной гимнастерке. Хоть бы портянки оставили, на худой конец… Перегнувшись чуть ли не вдвое, чтобы не удариться о гулкий свод, Мамаев покрутился по тесному каменному «мешку».
– Двигайся, Гоха, двигайся, не то сгинешь… Эх! – Мамаев торкнулся плечом в дверь, отвалил прочь. – Угодили в мышеловку… Строилась на века, что и говорить!
Горестно-тупо глядя перед собой, Егорка сказал:
– Не думалось, не гадалось – в тюрьму… А рано утром – к стенке. – Он помедлил, добавил с безмерной тоской: – Сбил ты меня, Дмитрий Лукич, опутал по рукам-ногам…
– Жизнь сбила, чудак!
Но Егорка знай твердил свое:
– За что под арест? Мало ль кто к тебе заходил… Стало быть, хватай всех подряд?
– Леший тебя знает, Гоха. Будто и революции не было вовсе, и колчаковщина обошла далеко стороной, ничему путному не научила. Где ты спал, в какой берлоге?
– Чай, вместе солдат на мясорубку готовили, не один день.
– Верно, готовили. Ну, а в семнадцатом?
Улыбки старший унтер-офицер не увидел, мешала темнота, но ясно представил ее на бледном лице Брагина. И голос помягчел на какую-то дольку.
– В Вихоревке, у Пров Захарыча робил. На его заимке…
– Ага, у мироеда?!
– Зря ты на него, совсем зря… Все б такие были! – он глубоко вздохнул. – Иногда… встану с зарей, пораньше, а он тут как тут: чего недоспал, парнище? Мол, коней и коров поить надо, сенца подбросить, стряпке помочь!.. А он: кони с буренками потерпят, сынок… Иначе и не звал! С поля приеду, в горенку кличет, за стол с собой. Чего-чего, бывало, не нанесет хозяйка: и щи с мясом, ложка стоит, и студень, и шаньги, и кулага… – Егорка проглотил обильную слюну. – А по осени расчет справедливый, и даже сверх того. Ты закайлил три мешка ржи, а он: бери четвертый, сыпь-сыпь, да батьке с маманькой кланяйся!
– Ловкий был старикан, умел подъехать. Скажи, а прочие крепенькие миловали? Папаня Зарековского, к примеру.
– Всякое случалось, – тусклым голосом обронил Егор.
– То-то и оно, брат Гоха! И запомни, заруби на носу: это «всякое» не кончится до тех пор, пока вы, Брагины, какие есть на свете, не встряхнетесь, не протрете сонные глаза… Молчишь? Пора за ум браться, глядеть в корень, увязывать одно с другим.
– Чего увязывать – связанному?
– Ту же доброту Прова Захарыча с адмиральско-генеральскими порядками. Троица таких ласковых – и несколько голых волостей!
– Подзагну-у-ул!
– Ничуть, поверь. В особицу он, может, и неплох, твой благодетель, а все вместе они – от Вихоревки, Красного Яра и до Омска – та свинцовая плита, которая давит простого человека, не дает ему ни охнуть, ни вздохнуть… Поразмысли на досуге, больше я ничего не скажу.
– Короткий он, досуг-то. Завтра чуть свет… – он без сил привалился к липкой стене.
– Ну-ну, паря, ну-ну!..
– Тебе, в твои сорок, легко смерть принимать, а я… а мне… – Брагин замер, повернув голову и вслушиваясь. В коридоре топот многих ног, необычно громкий говор, чьи-то испуганные вскрики. Гулко резанул выстрел. – Все, за нами…
Гул докатился до подвала, загремел откидываемый дверной затвор. И обеспокоенное:
– Лукич, Гоха, вы где?
Распахнулась дверь, и ввалились солдаты инструкторской школы. Затискали в медвежьих лапах, сгребли, понесли из вонючего каменного «мешка». В углу, на той же соломе, улеглись теперь помощник начальника тюрьмы и старший надзиратель, покорно отдав справу и сапоги.
Вот и конец коридорам и переходам, вот и улица, запруженная арестантами и солдатами школы Нокса. Они гомонили, кричали враз. У всех почему-то сорваны погоны, на отворотах шинелей – красно-зеленые банты. В стороне, опираясь на палочку, стоял штабс-капитан Терентьев, улыбался старческими глазами.
Унтера понемногу пришли в себя, поправили нахлобученные папахи, запоясали шинели, содранные с надзирателей: жаль, черные, но поперву сойдут и они.
– Что у вас, объясните толком? – спросил Мамаев.
– Про все – долго, мил друг Лукич, – молвил детина-инструктор, тот самый, что по весне грозился оборвать кой-кому хлопья, и торопливо, с пятого на десятое, передал последние новости.
На том берегу, в Глазково, нежданно-негаданно восстал расквартированный там Пятьдесят третий пехотный полк, арестовал офицерье, какое не примкнуло к нему, захватил предместье и вокзал. Одна беда – шугой сорвало понтонный мост, всякое сообщенье между городом и станцией прекратилось.
– У нас, в батальоне, шум. Подвалила часть особых, с капитаном Решетиным, а дальше ни с места. Спасибо Гущинскому, под вечер скомандовал «в ружье!» – и на юнкерское училище.
– Ну и ну? – загорелся Мамаев.
Солдат потупил голову, хмуро бросил:
– Не выгорело. Те как сыпанут из пулемета, мы обратно… Зато свою сволочь к ногтю! И полковника, и подполковника, всех замели к едреной бабушке. Только прапор не дался, пустил пулю в лоб!
Высокий уловил тень тревоги на лице Терентьева.
– Не волнуйтесь, наш брат тоже разбирается, кто к нему каковской стороной. Вас в обиду не дадим… гражданин штабс-капитан, – он оглянулся на город. – Не ровен час, юнкерье налетит в отместку… Идем, братва.
Из тюремных ворот вышел знакомый седоусый слесарь с охапкой наганов, принялся раздавать их парням, освобожденным из-под ареста.
– Тебе, тебе, тебе… – И вслед Егорке: – Эй, а ты куда, унтер молодой?
– В батальон, куда ж еще.
– Он теперь за Ушаковкой, а в школе сычевцы орудуют. Или… надумал к ним?
Егор медленно повернул назад.
2
Четвертый день по берегам Ушаковки, от нагорных улиц и до устья, кипел бой.
Линия красно-зеленых, которые отступили в северное предместье, пролегала вдоль набережной, на восток, мимо тюрьмы. Городской берег занимали юнкера с кадетами, пехотные и егерские части. Почти в центре – длинное каменное здание военно-обозных мастерских, главный оплот белых, рядом – Интендантский сад, приспособленный для обороны: забор обшит плахами, старые учебные окопы углублены и повернуты брустверами к Ушаковке. На стороне генералов Артемьева и Сычева все войска гарнизона, кроме Пятьдесят третьего полка, отрезанного ледоходом, унтер-офицерской школы и остатков отряда Решетина.
Повстанцы понесли крупные потери, особенно в первые дни. Им был дан приказ: по городу не стрелять, чтоб не вызвать столкновений с чехословацкой дивизией, которая объявила нейтралитет, а из города жарили немилосердно. С колоколен кафедрального собора и других церквей в упор били пулеметы, артиллерия, установленная на Петрушиной горе, накрывала предместье прицельным огнем. Кое-кто среди красно-зеленых поговаривал об отходе по Якутскому тракту…
На третье утро стало немного легче. Ниже, у Иннокентьевского монастыря, с большим трудом переправились через реку батальон Пятьдесят третьего полка и головная партизанская сотня Петелина. Ее разъезды прикрывали теперь крайний левый фланг.
Под вечер была атака. Сводные рабоче-солдатские роты клином ворвались в город, опрокинули юнкеров и егерей, погнали к Казачьей площади. Человек пять, и с ними Егорка, заскочили во двор кадетского корпуса, бегом пронеслись по этажам, хватали что попадется под руку, совали в карманы. Егор облюбовал дивную, с перламутровой ручкой бритву: пух на щеках отвердел, давным-давно требовал управы. «Спирт, спирт ищите, оглоеды. Капитан Решетин велел!» – крикнул кто-то. Гурьбой влетели в медпункт, прикладами р-раз по зеркальным стеклам… Потом, с раздутыми карманами, затопали вниз, во двор, где дымила кухня с ужином для солдат. Впервые после ареста Егор поел как следует.
В городе продержались до темноты. Но вот генералы подбросили к месту прорыва сильный офицерский кулак с «гочкисами», красно-зеленые, расстреляв обоймы, кинув последние гранаты, залегли вдоль кромки вражеского берега.
Пулеметы и орудия белых мало-помалу смолкли, только редкие пули высвистывали над цепью, но они были не в счет. Девчонки предместья доставили патроны, – благо пороховые погреба находились в руках восставших, потом подвалило подкрепление, юнцы пятнадцати-шестнадцати лет, в основном ученики реального и ремесленного.
Ночью от роты к роте прошел Гущинский, назначенный начштаба правобережной группы повстанческих войск, предупредил о новой атаке.
– Бросок до света! – еще раз напомнил он Мамаеву.
– Будьте уверены, Станислав Алексеевич, не подведем!