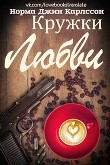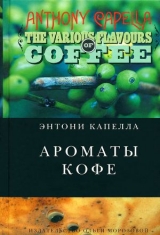
Текст книги "Ароматы кофе"
Автор книги: Энтони Капелла
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
Глава пятнадцатая
Во рту: крепость, мягкость, сочность или маслянистость. Так же явны на языке, как ощутимы кончиком пальца.
Тед Лингл. «Справочник дегустатора кофе»
На следующее утро я проснулся не в лучшем настроении. Причину расстройства нетрудно было вычислить. Итак, Ханта опубликовали. Мог бы и порадоваться за него, но на деле я ощущал лишь тупо пульсирующую зависть. Бирбом, Доусон, Лейн – еще и Боузи вдобавок. Пока я флиртовал, попивая кофе, приятель мой преуспел в важном деле, завоевал себе имя. Несмотря на тяжесть в голове, я придвинул к себе пачку муаровой бумаги. Какого черта, вот сяду и прямо в качестве утренней разминки сочиню вилланель.
За полчаса я вымучил шесть строк. Но таково уж свойство вилланелей – чем дальше, тем сочинять не легче, а трудней. А мне пора идти к Линкеру.
Я взглянул на часы. Может, хозяин простит мне утреннее отсутствие, ведь предыдущей ночью я сопровождал его дочь на бал. Я решил посидеть за столом еще часок.
К завершению часа вымарал три из шести строк. Теперь я просто ужасно, безнадежно опаздывал. Отложил листы, решив продолжить по возвращении.
Стоит ли говорить: в тот вечер, возвратившись домой и взглянув на то, что написал, я тотчас понял, что это никуда не годится. Я изорвал листок и сказал себе, что еще счастливо отделался – если б не пришлось выходить из дома, мог бы весь день напролет биться над этими строчками.
Или же наоборот, – еле слышно прозвучало где-то в мозгу, – могло бы и что-то получиться.
В последующие дни я намеренно предпринял попытку писать. Мои чувства к Эмили, как раз именно то, что веками вдохновляло поэтов, вылились лишь в бледные, худосочные сонеты, которые я тотчас сжег. Истинной поэмой в ее честь стал Определитель. Я уверен, что с развитием нашего взаимного влечения он чудным образом видоизменялся: силой моей страсти проза обретала особый аромат, подобно тому, как бочка с вином вбирает запах стен, в которых хранится.
Правда, Пинкер вечно мешался, вынюхивая малейшие признаки надуманности или вычурности. Стоило мне записать, что кофе «майсор» имеет «запах карри и отдает пустынностью индийской улицы, слоновьим навозом и вдобавок сигарой махараджи», Пинкер потащил меня в зоосад, утверждая, что я в глаза не видывал пустынной индийской улицы, в жизни не нюхивал карри, и, скорее всего, со слоновьим навозом тоже не знаком. Разумеется, он был прав, но упоминание о сигаре я все же сохранил. Пинкер был также возмущен, когда я сделал попытку сравнить цветочный букет йеменского «мокка» с «розоволепестковым дуновеньем девичьего дыхания».
– Нет такого запаха, Роберт! Это все ваши выдумки! – раздраженно крикнул он.
Но я обратил внимание, что в данном случае к Эмили как к союзнице он не воззвал. Вероятно, и Эмили это отметила: после ухода отца щеки у нее пылали.
– Что это вы делаете, Роберт? – спросила Лягушонок как-то за обедом.
– Сочиняю стихи, – ответил я со вздохом, поняв, что в данный момент подобное занятие, скорее всего, невозможно.
– Обожаю стихи. Вы читали «Алису в Стране Чудес»?
– Читал ли? Я сам обитал в этом гнусном месте.
Ссылка на мою alma mater прошла мимо ушей Лягушонка, но не укротила ее докучливости:
– Пожалуйста, Роберт, сочините мне стишок про крокодила!
– Что ж, отлично! Если только ты твердо обещаешь оставить меня после этого в покое.
За пару минут я набросал кое-что и зачитал вслух:
Один зеленый крокодил
Обжора был ужасный.
Сжирал полсотни он яиц,
Заметьте – ежечасно.
Их заедал он пирогом
И устрицами с джемом.
Покончив с ними, тут же он
Ел утку с жирным кремом.
Уписывал с горчицей он
Свинину и шарлотку.
А после медом поливал
Копченую селедку.
На сладкое девчушек он
Съедал и, кроме шуток,
В момент от сладости такой
Сгубил себе желудок.
Лягушонок раскрыв рот глядела на меня:
– Какая прелесть! Вы настоящий поэт!
– Если бы истинная поэзия давалась так же легко! – вздохнул я.
– А теперь можно еще один про червяка? – Глаза девочки блеснули надеждой.
– По-моему, ты обещала немедленно уйти.
– Обещаю трижды уйти, если вы еще про червяка сочините. Предложение очень выгодное, смотрите – трижды за два стиха.
– Что за дивная способность у Пинкеров торговаться! Ладно, попробуем…
Один миссионер изрек:
«Со мной что-то не так.
По-моему, в голове моей
Пристроился червяк!
Он, видно, жил в одной из груш,
Из тех, что на столе.
Я грушу эту утром съел,
И вот червяк во мне!
И он зудит в моих ушах,
Глазеет изо рта,
Чихает, если я сглотну.
Такая маята!»
Лягушонок захлопала в ладоши. Эмили, вошедшая в комнату в момент, когда я декламировал свой экспромт, сказала:
– Правда, Роберт, очень мило. Стоит послать детскому издателю.
– Я поэт, – сухо парировал я. – Наследник славных традиций бунтарей и декадентов, а не кропатель детских стишков и мелких виршей.
Решив изыскать время для творчества, я попытался отказаться от сна, поддерживая себя в состоянии бодрствования изрядным количеством продукта Линкера. Когда я в первый раз прибег к этому способу, то с воодушевлением обнаружил, что смог сочинить лирическую оду в двадцать строк. Но следующей ночью противоборство кофеина с усталостью завело меня в тупик, вызвав тупую головную боль и несколько еще более тупых четверостиший. Признаться, я был настолько утомлен, что даже с Эмили был несколько грубоват. У нас возник дурацкий спор по поводу какой-то фразы, и она внезапно расплакалась.
Я был поражен. Эта девушка вовсе не казалась мне способной зарыдать по ничтожному поводу, даже совсем наоборот.
– Простите, – пробормотала Эмили, утирая платком глаза. – Просто я немного устала.
– И я тоже, – с чувством произнес я.
– Что так, Роберт? – спросила она, и, как мне показалось, несколько странно на меня взглянула.
– Я пытался работать.
– Мы оба работаем.
– Я имею в виду свою истиннуюработу. Творчество.
– Ах, так… и это единственная причина, отчего вы в последние дни такой… – она запнулась, – такой замкнутый?
– Полагаю, да.
Снова она как-то странно на меня посмотрела:
– Мне показалось, просто вы от меняустали.
– Господи, о чем вы?
– Когда, Роберт, на балу… вы меня… поцеловали… я подумала, что вы… – хотя, разумеется, вы человек богемный, поцелуй для вас мало что значит…
– Эмили, – произнес я с досадой, – я не…
И умолк. «Я вас не целовал», собирался я сказать. Но что-то заставило меня остановиться.
Я подумал: «Я поцеловал быее, если б знал, что это можно». Если бы был уверен, что она меня не оттолкнет, не побежит жаловаться отцу. И вот теперь, в результате нелепого недоразумения, ее поцеловал кто-то другой, а она егоприняла за меня.
И не оттолкнула. Даже, как видно, ей это понравилось.
Выбор у меня был.
Можно сказать ей правду, это и глубоко уязвило бы ее, и внушило бы мысль, будто я не имею желания ее целовать. Или же стоило следовать высшей правде касательно событий того вечера.
– Если я был с вами неучтив, Эмили, – с расстановкой произнес я, – так только потому, что не был уверен, не переступил ли я грань.
– Разве я… как-то дала вам это понять? – тихо спросила она.
Что ей сказать?
– Нет, не дали, – сказал я и сделал к ней шаг.
Я молил Бога, чтобы мой двойник был мастер целоваться. Хотя, конечно, не настолько, чтобы я не смог ему соответствовать.
– Ведь и я, и вы в ту ночь выпили немало. Я не был уверен…
– Когда переступите грань, – сказала она, – непременно дам вам знать.
От нее пахло сливками, ванильными меренгами и кофе с молоком и совсем чуть-чуть – сигаретами.
Пауза.
– Я уже переступил?
– Роберт! – вскричала она. – Неужели вы неспособны быть серьезным?
Я поцеловал ее снова. На этот раз, обвив рукой, слегка притянул ее к себе. Мне показалось, что еще и не на пике этого упоительного поцелуя она чуть не задохнулась от восторга. Я скользнул языком ей между губ, мгновенное сопротивление – и я почувствовал, как они приоткрылись, впуская меня глубже… Боже ты мой, подумал я в изумлении: никак не ожидал, что в ней столько страсти.
Шаги! Мы отпрянули друг от друга как раз в тот момент, когда распахнулась дверь. Это был Дженкс. Мы с Эмили чуть попятились – смущенно зардевшись, она отвернулась. Секретарь бросил на нас подозрительный взгляд.
– Улавливаю запах жимолости, цветочный аромат, такой чистый и плавный, – быстро произнес я. – Пожалуй, немного цитрусового. Но на вкус восхитительно.
Дженкс обшарил глазами комнату. Безусловно, он отметил отсутствие на столе признаков кофе. Однако ничего не сказал.
– А вы Эмили? – спросил я.
– Да? – Она повернулась ко мне.
– Каково ваше мнение?
– Что ж… очень приятный напиток, Роберт. Правда, несколько крепковат. Простите… я забыла кое-что… там, внизу.
Довольно нескоро Эмили возвратилась, неся с собой толстую папку, положила ее перед собой на стол и принялась тщательно изучать бумаги.
– Миг без вас кажется мне бесконечным… – начал я.
– Не сейчас! – оборвала она меня. – У нас с вами много работы.
Я был ошарашен:
– Мне казалось… только что… вы предпочли работе знаки внимания с моей стороны.
Короткая пауза.
– Так было до того, как Дженкс нас застал. Что привело меня в чувство.
– Дженкс? При чем тут Дженкс? При чем тут вообще кто-нибудь?
– Мы оба служим у моего отца. Нам не следует… мы не должны… отвлекаться от дела. Нельзя обманывать его доверие.
– Но вы крайне непоследовательны.
– С этого момента никаких поцелуев, – твердо сказала Эмили. – Хотя бы это обещайте мне.
– Отлично. Я попытаюсь не помышлять о том, чтоб целовать вас чаще чем, скажем… Раз… э-э-э… в шесть-семь секунд?
Молчание.
– Это уже дважды произошло, даже трижды.
– Роберт!
– Ничего не могу с собой поделать, Эмили! И, по-моему, вы тоже. Но если вам так угодно, от поцелуев с вами я воздержусь.
Мы целовались у реки, целовались тайком от ее сестер, целовались, даже не слизнув с губ пенку только что заваренного кофе. Иногда Эмили шептала: «Роберт… нельзя…» Но при этом продолжала меня целовать.
Как-то она сказала:
– Лучше б это доставляло меньше удовольствия. Тогда бы, наверно, легче было бы остановиться.
– А зачем нам останавливаться?
– Потому что это нехорошо.
– Как это может быть нехорошо? Ведь искусство учит нас, что жизнь – это цепь острых ощущений. Разумеется, вы должны целоваться со мной.
– Не пойму, вы сейчас льстите мне или себе, – пробормотала она. – Целоваться вы мастер, но «острые ощущения», не слишком ли это преждевременно?
– Надо ловить момент, ведь счастье быстротечно. Между прочим, по-моему, я слышу шаги Ады на лестнице.
Глава шестнадцатая
– Где мы обедаем сегодня?
– К сожалению, Роберт, сегодня обедать с вами я не смогу.
– Я что-то невпопад сказал?
– На сей раз я. Пообещала Суфражистскому Обществу. Мне придется распродавать их брошюрки.
– Как – прямо на улице?
– Да. Не смотрите на меня такими глазами. Кто-то должен это делать.
Мне подумалось, нет ничего проще, прицепившись к ее словам, взорваться возмущенной тирадой. Но, глядя на выражение лица Эмили, я оставил свое мнение при себе.
– Тогда я пойду с вами. Пообедать можно после.
Она сдвинула брови:
– Надеюсь, что вы будете стоять рядом, поддерживая меня своим видом. Но вы должны пообещать не произносить вслух всякие колкости.
Прибыв в Сити, мы заняли позицию у входа в подземку на Кинг-Уильям-стрит. Воздев кверху одну из брошюрок, Эмили непомерно тонким, жалостным голоском выкрикнула:
– Избирательные права для женщин! Правда за один пенс!
Несколько человек глянуло на нас с любопытством, но никто не остановился.
– Господи! – с тревогой сказала Эмили. – По-моему, им это совершенно безразлично. Избирательные права для женщин!
Пожилой мужчина с подстриженными бачками задержался.
– Что у нас тут? – любезно осведомился он, беря брошюрку и пробегая ее глазами.
– Правда за один пенни, – быстро сказала Эмили. – Об избирательном праве для женщин.
– И сколько за одно траханье? – спросил тот столь же любезно.
Мы оба притихли. Потом Эмили ахнула, и я гневно рявкнул:
– Как вы смеете!
– Ты с этой вот? – осведомился прохожий.
– Да, я с этой женщиной. И вы ее оскорбили.
– Она ведь посреди улицы предлагает свои услуги, разве не так? До сих пор этим занимались только женщины определенного сорта.
Он пошел прочь, не потрудившись вернуть брошюрку.
– Я убью его! – взорвался я, порываясь отправиться за этим типом вдогонку.
– Не надо, Роберт! – Эмили удержала меня за локоть. – Нам запрещено ввязываться в скандал.
– Вам – может быть, но я не потерплю…
– Прошу вас, Роберт. Да и от грузчиков своего отца я слышала словечки покрепче.
Она воздела руку и соответственно возвысила голос:
– Избирательные права дня женщин! Правда за один пенни!
К ней подбежал уличный мальчишка и выкрикнул:
– Выбираю тебя, милашка! – сопроводив свое высказывание недвусмысленным подергиванием бедер и задавая стрекача от меня, едва я огрел его по тощей заднице.
– Напомните мне, – хмуро буркнул я, – зачем мы все это делаем.
– Затем, что у мужчин и женщин должны быть равные права, чтоб они могли общаться между собой на равных.
– Ах да, разумеется. И как долго мы этим будем заниматься?
– Пока не раздадим все брошюрки до одной, – твердо сказала Эмили.
Я протянул руку:
– Дайте-ка лучше и мне половину.
– Вы это серьезно?
– Абсолютно, если в конечном счете могу рассчитывать на обед. Вы все равно отвратно справляетесь со своими обязанностями. Процесс продажи требует определенного мастерства.
– Я поступаю точно так, как меня инструктировали в Обществе.
– Тогда посмотрим, кто из нас успешней справится.
Я перешел на противоположную сторону улицы, По тротуару двигалась пожилая дама. Я остановил ее:
– Извините, мадам… позвольте предложить вам эту брошюру? Она содержит все, что нужно знать о движении за избирательные права.
– Ах, так? – Дама с улыбкой заглянула в брошюрку, которую я сунул ей прямо в руку. – Сколько это стоит?
– Всего один пенс, хотя, если желаете, можете внести и больше.
– Вот вам шесть пенсов, сдачи не надо! – Дама вложила мне в ладонь монету.
– Благодарю вас! – сказал я, пряча монету в карман. – Желаю приятного дня!
– Избирательное право для женщин! – выкрикнула Эмили на той стороне улицы, размахивая в воздухе своей брошюркой. Вид у нее был хмурый. Я рассмеялся: выражение ее лица было весьма красноречиво. Она негодовала, что я оказался прав.
Мимо проходили две молодые женщины, прятавшие руки в меховые палантины.
– Простите, – удержал я их. – Я вижу, вам необходимо узнать подробней про избирательные права для женщин. – Я сунул им в руки две брошюрки. – Прошу вас, всего два пенса!
Улыбнувшись мне в ответ, младшая отыскала для меня монетки.
– Как вы сказали… – открыла было рот она.
Но, заполучив денежки, я уже не располагал временем для разговоров. Я обратился к молоденькому служащему:
– Э-э-э… не хотите ли узнать, о чем на самом деле думают женщины?
И в мгновение ока обрел очередной взнос.
Я бросил взгляд через улицу. Эмили, увидев, что мой метод непосредственного обращения к публике оказался успешней, чем ее выкрики, теперь следовала моему примеру. На моих глазах она продала одну брошюрку двум пожилым леди и еще одну отправившейся за покупками женщине с дочерью.
Ко мне приближался мужчина средних лет.
– Этот буклет, – сказал я, пристраиваясь к его шагу и протягивая книжицу, – содержит всю подноготную суфражисток. Сексуальное равенство, свободная любовь… и тому подобное.
– Беру две, – буркнул мужчина, бросая на брошюрку алчный взгляд.
– Молодчина! С вас шиллинг.
Едва тот отошел, я поймал на себе разгневанный взгляд Эмили: я распродал уже половину своих буклетов, а она всего один или два.
– Кто меньше распродаст, тот оплачивает обед! – выкрикнул я.
Она глянула сердито, но, я заметил, что при этом свои усилия она удвоила.
– Добрый день, юные леди! – приветствовал я группу школьниц. – Потрясающе интересно – читают все!
Продав еще четыре штуки, я перекинулся на некую матрону, у которой покупки вываливались из рук:
– Стоит женщинам обрести право голоса и конец рвущимся бумажным пакетам! Здесь все как раз про это, а я пока подтащу вашу картошку!
Подобрав картофелины, я перешел на ту сторону улицы.
– Все разошлось! – самодовольно отчитался я.
– У вас раскупили только потому, что вы мужчина! – сердито сказала Эмили. – Вечно одно и то же, старая песня!
– Но, так или иначе, я выручил неплохие деньги. Хотя теперь, раз вы платите, я не смею даже расплатиться за обед.
– Роберт, вы прочтете мне стишок? – пытливо спросила Лягушонок.
Я все еще пребывал в благодушном после обеда настроении.
– Хорошо. Какой стишок?
– Тот, что читали в прошлый раз, который про червяка.
– Точно такой не смогу. Я художник, повторяться не умею.
– Но вы ведь стих не закончили! – с жаром сказала она. – Оставили того человека с червяком в голове. С тех пор я только об этом и думаю, и арифметика у меня ну никак не идет.
– По-моему, Роберт, – тихонько произнесла Эмили за моей спиной, – всякий художник все-таки должен отвечать за свои поступки. Хотя в том, что Лягушонок не может справиться с арифметикой, вашей вины, я думаю, нет.
– Мне не хотелось бы нести ответственность за нерешенные задачки! – наставительно сказал я Лягушонку. – Ну что ж…
Я слегка задумался, почеркал карандашом по бумаге, что-то стало вытанцовываться…
– Засекаю время, Роберт, – сказала Эмили. – Даю вам меньше минуты на сочинение.
– Но это не слишком честно!
– А честно продавать больше буклетов, чем я, только потому, что вы мужчина? Осталось сорок секунд.
– Дайте чуть больше…
– На вашем месте я перестала бы огрызаться и сосредоточилась на сочинении.
– Ну, пожалуйста.
– Время истекло!
– Вот вам! – воскликнул я вскакивая:
«Какое безобразие!
– сказал миссионер. —
Какой ужасный, право,
Всем червякам пример!
Ведь я его к себе не звал,
У нас нет общих тем!
Во мне пристроился он сам,
Как будто насовсем!»
Тут тягостного вздоха
Сдержать старик не смог —
И выпорхнул наружу
Проворный мотылек.
Разумеется, это была полная чушь. Но обнаруживалась некая рифма и даже видимость размера. Лягушонок захлопала в ладоши, а Эмили ласково улыбнулась, и на мгновение я испытал чувство триумфа куда мощней, чем если бы мой сонет был напечатан в «Желтой книге».
Глава семнадцатая
Душа ее поет. Мысли ее в смятении. Не из-за маленькой невинной лжи – Эмили прекрасно известно, что не он попытался поцеловать ее на балу, но он с такой серьезностью принял в тот вечер на себя обязанность дуэньи, что Эмили с самого начала забавляло легкое подтрунивание над ним. После, увидев, как его уязвили ее слова, она позволила ему и дальше пребывать в заблуждении, которое под конец разрослось в нечто большее. Нет, заботит ее не это, а то, что такого рода их отношения в силу канонов данного времени нереальны.
Сначала положены свидания, затем, возможно, влюбленность; влюбленность может завершиться браком. Не в правилах класса, к которому она принадлежит, свидания тайные, если влюбленных свела судьба или – что еще того хуже, – работа.
Сомнительно, чтобы отец позволил ей выйти за него замуж; да и сама она пока не убеждена, хочет ли этого.
Поэтому позволяет себе немногое: в меру похваливает его, но не чересчур, чтобы отец не заподозрил, что она теряет чувство меры.
Говорит отцу, что Роберт – «хоть он молод и глуповат и все еще корчит из себя эстета» – трудится не только упорно, но и вполне успешно; что он, если только наберется немножко ума, может стать приобретением для компании. Она отмечает, что как художник слова он обладает профессиональными качествами, которых другие сотрудники лишены. Что он видит предметы в особом свете, что это может вполне пригодиться в их деле.
Отец слушает, кивает, и ничего не подозревает.
Все-таки один человек подозревает, Дженкс. И это отдельная проблема, так как уже с некоторого времени Эмили замечает, что старший секретарь отца проявляет к ней особую расположенность, – которая, она убеждена, связана с искренним восхищением ее деловыми качествами, ее сдержанным, но участливым обхождением с сослуживцами. Со всем тем, что позволяет его расположенности быть естественной и потому необременительной, но про это обстоятельство теперь она и думать забыла в своем безумном увлечении Робертом.
Поэтому Эмили чувствует себя несколько виновато и нелепо. Но так как сам Дженкс о своем отношении к ней не высказывался, пожалуй, он и теперь не осмелится что-либо сказать.
Хотя, учитывая силу антипатии Дженкса к Роберту, кто знает? Как-то днем, когда Эмили расшифровывает свою скоропись, в комнату входит секретарь и тщательно прикрывает за собой дверь.
– Мисс Пинкер, – говорит он, – мне надо с вами побеседовать.
В ту же секунду она понимает, о чем пойдет речь. Ей очень хочется, чтобы сцена эта уже завершилась, чтоб он удалился, закрыв за собой дверь, чтоб не состоялось в промежутке это неприятное событие.
Эмили ждет сюрприз.
– Я бы в жизни не осмелился диктовать вам, как следует или не следует поступать, – говорит Дженкс пылко, отводя при этом взгляд. – И не стал бы никогда чернить коллегу, тем более того, кто оказался удачливей в завоевании вашего расположения. Но я обязан указать вам хотя бы на два момента. Уоллис часто посещает некоторую улицу в центре Лондона, репутация которой позволяет мне… – Дженкс запнулся, – сомневаться в его добропорядочности.
– Так, – спокойно произносит она. – И что же это за улица?
– Район Ковент-Гарден, широко известный как… улица определенного свойства.
– Вы там были? Вы видели его?
– Да. Мой друг актер театра «Лицеум». Я трижды ходил на их спектакль… громадный успех.
– Ах, вот в чем дело, – произносит она с облегчением. – Вы оказались там по вполне невинному поводу, и Роберт, несомненно, также.
– Боюсь, что нет. Я ждал у служебного входа… это как раз на той улице, о которой речь. Уоллис, он… – Дженкс пытается подобрать слова. – Уоллис вовсе никого не поджидал. Он входил в один из домов. Заведение это скандально известно происходящим в нем.
– Вы в этом убеждены?
Дженкс кивает.
– Опорочить имя человека без абсолютных доказательств….
– Лучше б я ничего не говорил! – восклицает Дженкс. – Если б я не был уверен… если б это был вовсе не он… Но как я могу молчать, если я это видел собственными глазами! Вдруг что-то случится… – у Дженкса перехватило в горле, – какая-то грубость с его стороны по отношению к вам… Представьте, что такое бы произошло, а я вас не предупредил!
– Да-да, – говорит она. – Я понимаю. И хочу поблагодарить вас за вашу откровенность.
– Я поговорю с вашим отцом, добьюсь, чтоб его уволили.
– Не надо, – слышит Эмили свой голос. – Я сама уведомлю отца при удобном случае.
– Безусловно, будет верней, если это сделает мужчина.
– Это деликатный вопрос. И решать его следует деликатно. Я постараюсь подобрать подходящий момент.
Дженкс хмурит лоб.
– Мне бы не хотелось, чтобы отец подумал, будто его подталкивают к решительным мерам. Для компании Пинкера этот Определитель весьма важен – это ключевой вопрос, если мы хотим обойти Хоуэлла. Необходимо, чтобы Роберт завершил работу до того, как состоится этот разговор.
– Так вы не желаете ничего рассказывать? – внезапно с подозрением спрашивает Дженкс.
– Вы меня известили. Вам это далось нелегко, и я это ценю. Но вы это сделали, вы исполнили свой долг. В конечном счете риску подвергаюсь я, не мой отец…
– Если вы не поговорите с ним, это сделаю я!
– Прошу вас, Саймон, – говорит Эмили. – Не надо этого делать. Хорошо? Ради меня.
Она видит, что он задет – не оттого, что она не последовала его совету, но потому, что внезапно увидел ее в ином свете.
– Что ж, я сделал все, что мог, – резко бросает Дженкс, направляясь к двери.
– Когда это было? – Эмили задает вопрос ему вдогонку. – То есть, когда вы видели его там в последний раз?
– В последний раз это было в пятницу вечером.
«Днем в тот день он меня целовал», – думает она.
Сердце ее во власти бурных чувств. В основном это злость и отвращение. Но все же, – она ведь женщина современная, – Эмили пытается все трезво осмыслить.
Возможно, отчасти это ее вина. Возможно, своими поцелуями она возбудила в нем страсть, и ему пришлось искать утоление в… ей невыносимо представить то, в чем он ищет утоления.
Целую неделю Эмили не может заставить себя физически к нему прикасаться. Между тем они открывают, что в мускатном винограде и в семенах кориандра ощущается что-то одинаково цветочное; что лесной орех и свежевзбитое масло имеют похожий молочно-сливочный аромат. Соединяя воедино различные разделы Определителя, они обнаруживают скрытые связи между различными вкусами и запахами – спектр простирается от сладкого к кислому, от цветочного к пряному, образуя целую палитру ощущений. И почему-то, стоит Роберту ее обнять, все, что происходит в том, другом мире, в том темном Зазеркалье, где люди хранят в тайне свои желания, кажется ей несущественным, не имеющим ни малейшего отношения к преступному удовольствию, которое она испытывает.
И еще одно чувство неожиданно испытывает Эмили. Стоит ей подумать про тех, других женщин, безымянных, безликих, которые ложатся с ним в том Зазеркалье, она с удивлением открывает для себя, что по отношению к ним испытывает вовсе не жалость, не отвращение, но внезапную, резкую, жгучую зависть.