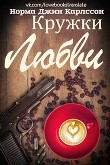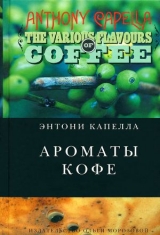
Текст книги "Ароматы кофе"
Автор книги: Энтони Капелла
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 32 страниц)
Глава восемьдесят третья
Она продолжала жить в комнате на Кастл-стрит; по мере того, как тревога все нарастала и нарастала, она все чаще и чаще засиживалась дома. Все эти дни я не помню, чтобы она хоть раз неуважительно отозвалась о своем муже или об отце. Собственно, о них она почти не упоминала. Мы с ней жили семейной жизнью, правда, не в традиционном смысле.
– Роберт?
Я поднял голову. На стойке бара стоял ящик из красного дерева. Эмили откинула крышку. Внутри рядами располагались стеклянные бутылочки, а также было там несколько чашечек и ложечек для дегустации.
Определитель.
Эмили выложила на стол четыре маленьких пакетика кофе и стала их раскрывать.
– Что это ты делаешь?
– Единственное, что нам осталось, – сказала она. – Это лучшие образцы нового кофе Фербэнка. Два сорта из Гватемалы и два из Кении.
Она осторожно полила кипятком первую порцию, взглянула на меня.
– Ну, что?
Я вздохнул:
– Это бессмысленно.
– Напротив, Роберт, в этом есть прямой смысл. Фербэнк утверждает, что это отличный, настоящий кофе. Те, кто выращивают его, не должны разоряться только потому, что вынуждены продавать свой кофе по той же цене, что и продукт, производимый Хоуэллом. В мире пока еще достаточно людей, кому не безразличен вкус кофе. Им просто необходим способ, чтобы отличить хороший кофе от скверного, – и наш Определитель будет бесполезен, если мы не осовременим его.
Она подвинула мне одну из чашечек.
– Чего ты от меня хочешь? – взмолился я.
– Чтобы ты попробовал, разумеется. Всоси, вдохни аромат и с силой сплюнь. Готов?
Мы с ней осадили гущу на дно и чуть отхлебнули из своих чашечек.
– Любопытный вкус, – задумчиво произнесла она.
Я кивнул:
– Пахнет бананом.
– А на языке слегка ощущается натуральная терпкость…
– Даже что-то от мускатного винограда.
Одинаковое ощущение во рту, на языке, на губах – у меня и у нее; оно лилось от нее ко мне и от меня к ней, как поцелуй.
– Черника или персик?
– Скорее слива. Или даже плоды терновника.
– И какая-то теплота… жареное мясо или, возможно, трубочный табак.
– Жареное мясо? Так не должно быть – иначе присутствовал бы специфический привкус. Пробуй еще.
– Я бы даже сказала – корочка свежеиспеченного хлеба.
– Отлично – сейчас запишу. Смени, пожалуйста, чашки!
– Знаешь, – сказал я, – мы могли бы уже просить Фербэнка приобретать для продажи здесь сорта кофе с африканских небольших ферм, не с крупных плантаций. Само по себе это мало что поменяет, но чем больше закупщиков это привлечет, тем очевидней даст возможность мелким фермерам не работать на белого человека.
– По-моему, идея замечательная.
– Конечно, кофе в результате станет дороже.
– Придется возмещать убытки?
– Кто его знает.
– Милый Роберт, ты же совершенно не представляешь себе, как вести дело.
– Наоборот – по моему опыту, именно деловые люди ничего в этом деле не смыслят.
– Ну, ладно, ладно… Напомни-ка мне ту африканскую поговорку, которую ты так любишь цитировать!
– «Одну паутину порвать легко, а тысячью паутин можно связать льва».
– Именно. Будем же пауками и начнем плести сеть.
– А вот этот, – сказал я, – напомнил мне Африку. Черника, глина и та отдающая пряностью бурая земля, на которой сушат зерна кофе.
– Но я ведь там не была, сказать ничего не могу. Хотя вкус пряностей могу определить – пожалуй, это лавр и куркума. И еще есть что-то – едва ощутимое…
– Да? Что именно?
– Не могу сказать. Какая-то сладость.
Из золы тех костров всколыхнулось едва заметным дуновением то, что нельзя упустить. Не просто надежда, даже не любовь, а что-то нежное, деликатное, воздушное, как дым. Что-то такое, что объединяло нас с Эмили здесь, в этой комнате, и одновременно объединяло нас с другими людьми – с Фербэнком и другими закупщиками кофе; с теми, кто неравнодушен к кофе и с кем-то еще. Понемногу разрастаясь, это неявное цепочкой посланий замерцало по всему миру.
Глава восемьдесят четвертая
И вот, как и предсказывала Эмили, настала пора, когда их движению потребовались мученики.
Решение суфражисток объявить голодовку изменило весь настрой их протеста, возбуждая к жизни кошмарную картину грядущих жертв: правительство уничтожает тех, кого само же провозглашало слабым полом.
Первые участницы голодовки были без огласки выпущены из тюрьмы по медицинским показаниям, но при нацеленности газет на эту тему ничто уже не могло оставаться тайным. Поэтому правительство, по слухам, под давлением самого короля, решило подвергнуть тех, кто отказывался от еды, к «больничному лечению»: что попросту означало – к принудительному приему пищи.
Это вызвало волну возмущения. Женщины, которые прежде не поддерживали милитанток, были и потрясены героизмом голодающих, и сильно напуганы тем, до каких крайностей готовы дойти мужчины ради сохранения собственного влияния. Что же касается суфражисток, насилие, применяемое к ним, заставило их действовать еще более агрессивно.
Правительство понимало, что если оно уступит сейчас, то это будет воспринято как его слабость. Оно понимало также, что уступка могла бы поднести на блюдечке другим партиям миллион новых голосов. А проиграть это соревнование правительство не могло себе позволить.
Такова была ситуация в сентябре, когда Эмили обязали бросить булыжник в окно в Палате общин.
– Не надо тебе туда ходить.
– Именно надо. К тому же я сама готова.
– Ведь есть же и другие…
– Как мне потом им в глаза смотреть, если кто-то пойдет вместо меня! – Она тряхнула головой. – Ты не понимаешь, Роберт! Если мне судьбой выпало попасть в тюрьму, это вовсе не жертва. Это… – Она подыскивала нужное слово. – Это мне выпала такая честь… я исполню свой долг, ради чего я столько работала.
– Неужели ты не видишь, – воскликнул я в отчаянии, – что ты все больше и больше становишься похожей на своего отца? Если что решила, тебя ничем не остановить.
На мгновение глаза ее гневно сверкнули. Но, взяв себя в руки, она сказала:
– Пусть так, Роберт. Да, я согласна, я такая. И именно поэтому там должна быть именно я и никто другой.
Ее арестовали при первой же попытке. После я все думал, не намеренно ли она старалась все делать на виду, не ловила ли специально момент, когда полицейский ее заметит.
Суд над ней был на удивление краток. Поскольку своей вины она не отрицала, выступлений в защиту не было. Производивший арест чиновник зачитал свои показания, прокурор произнес несколько слов, судья огласил приговор – десять шиллингов штрафа или три недели тюремного заключения.
– Я предпочитаю тюрьму, – спокойно сказала Эмили.
Ее слова были встречены аплодисментами собравшихся на галерее суфражисток. Судья стукнул молотком, призывая к тишине.
– Вы отказываетесь выплатить штраф?
– Я отказываюсь признать правомерность данного судилища, которое оплачено и моими налогами, но без моего согласия.
– Ну что ж. Уведите ее!
Я попытался подойти к ней, но меня не допустили. И я топтался среди ожидающих, надеясь хотя бы мельком увидеть ее, когда ее повезут в тюрьму Холлоуэй. Среди собравшихся я заметил Брюэра, одетого, как на похороны. Пробиваясь ко мне сквозь толпу, он надсадно прокричал:
– Теперь вы довольны, Уоллис? Или вам еще мало несчастий, которые вы навлекли на мою жену?
– Я не меньше вашего страдаю, что она попала в тюрьму, – в отчаянии произнес я.
Как раз в этот момент от здания суда отъехала «Черная Мария». [74]74
Тюремный автомобиль, окрашенный в черный цвет.
[Закрыть]Автомобиль медленно пробивался сквозь массу народа, звоном колокола призывая людей освобождать дорогу. Эмили, сидящую сзади, увидеть было невозможно, но мы все громкими криками и рукоплесканиями старались подбодрить ее. Я все время представлял себя на ее месте и то, каково ей теперь.
Как вдруг я заметил еще одно знакомое лицо. Поспешив, чтобы не упустить ее, я выкрикнул:
– Ада? Ада Пинкер?
Она обернулась:
– Надо же, Роберт!
Она остановилась, а также и другая женщина рядом с ней.
– Я не предполагала вас здесь встретить.
– И я вас. Вы прибыли из Оксфорда? Эмили говорила мне, что вы замужем за тамошним профессором.
– Да. У нас там как-то нормальнее, нет такой дикости, как у вас в Лондоне. – Ада вздохнула. – Я в ужасе от всего этого.
– Я тоже. Эмили совершенно непреклонна. Подозреваю, что она предпочтет голодовку.
– Мы надеемся, что сможем ее повидать, – и Ада кивнула на свою спутницу. – Мы же все-таки одна семья.
Я повернулся к другой женщине:
– Кажется, я не имею удовольствия…
– Имеете, мистер Уоллис, – произнесла она голосом, показавшимся мне чем-то знакомым. – Хотя насчет удовольствия я сомневаюсь. Подозреваю, у вас сохранились обо мне не слишком радужные воспоминания.
Должно быть, мое лицо выразило явную растерянность, потому что Ада сказала:
– Филомена очень повзрослела с тех пор, как вы с ней виделись в последний раз.
– Боже милостивый… Лягушонок?
Юная женщина кивнула:
– Хотя теперь немногие меня так называют.
Я всмотрелся в ее лицо. И уловил лишь отголоски тех детских черт, что сохранились в памяти. Ее лягушачьи, с выпуклыми веками глаза преобразились. Вернее изменилось само лицо. И теперь глаза придавали ему необычное выражение, будто она только что проснулась.
– Я сохранила все ваши письма, – добавила Филомена. – Доводила сестер до исступления, приставала к ним: когда придет очередное. Я даже наизусть учила ваши письма.
– Весьма сомневаюсь, что их стоило перечитывать, – сказал я.
Мы шли от зала суда под гору вниз вместе с остальной толпой.
– «Можешь передать Аде, что, если хочет выйти замуж, то ей ни в коем случае не следует скалывать волосы на затылке», – процитировала Филомена. – «Здесь в этих целях принято выбивать себе парочку передних зубов, мазать бритую голову ярко-желтой краской и растленным ножом изрезывать зигзагами свой лоб. Только в этом случае вас признают красавицей и будут всегда приглашать танцевать».Вы, конечно же, помните эти свои слова?
– Боже милостивый, – пробормотал я снова. И перевел взгляд на Аду: – Неужели я был настолько бестактен? Прошу вас, простите меня!
– Не стоит извинений, – сухо сказала она. – Муж у меня этнолог, и бестактные сравнения с особями, чьи головы вымазаны ярко-желтой краской, меня уже не смущают.
У станции метро она остановилась.
– Нам в западном направлении. Дать вам знать, если узнаю что-нибудь об Эмили?
– Да, прошу вас! – Я вручил им свою визитку. – И, несмотря на печальные обстоятельства, было очень приятно снова встретиться с вами обеими.
– Взаимно, – тепло сказала Ада.
Мы обменялись рукопожатиями. Когда я пожимал одетую в перчатку руку Филомены, она сказала:
– Мне всегда было любопытно, мистер Уоллис, сочиняете ли вы еще свои нелепые стишки?
Я отрицательно покачал головой:
– Очень надеюсь, что полностью избавился от этого вздора. Правда, в последнее время столько всякого вздора исходит от нашего правительства.
– Это верно, – сказала Ада озабоченно. – Уж слишком они держатся за свои принципы. Очень надеюсь, что у Эмили все благополучно обойдется.
Камера была размером двенадцать на восемь футов, стены выкрашены серой, как внутри корабля, краской. В камере были газовая лампа, небольшое окно под самым потолком – не выглянешь, дощатая кровать и стул. На голых досках лежали две свернутые простыни и подушка. Под полкой в углу стояли два ведра с жестяными крышками. На полке – молитвенник, список правил поведения, небольшая грифельная доска и мел.
Эмили расстелила простыни на досках и стала обследовать ведра. В одном была вода, второе, очевидно, предназначалось для туалета. Подушка была набита соломой: из ткани торчали острые золотистые соломины.
Звуки гулким эхом, как в пещере, разносились по бесконечным тюремным коридорам. К Эмили издалека раскатами грома катился какой-то гул, постепенно подбираясь все ближе: клацанье дверей, голоса и шаги. Решетка на двери поднялась. Бесплотный голос произнес:
– Обед!
– Есть не буду, – сказала Эмили.
В дверном оконце появилась миска с супом. Эмили не двинулась с места. Через мгновение миска исчезла, оставив слабый запах жира и пропаренных овощей. Грохот укатился прочь. Газовая лампа со временем потухла – наверно, решила Эмили, снаружи было приспособление, чтобы надзирательница могла гасить лампу: даже в такой малости Эмили было отказано.
На следующее утро вопреки предписанию Эмили не встала с кровати. Загремела решетка.
– Еще не поднялись? – произнес удивленный голос. – Вот вам завтрак.
– Я объявляю голодовку.
Решетка снова закрылась.
Начался поток посетителей.
Капеллан, смотрительница, надсмотрщик – посыпались избитые фразы.
– Надеюсь, миссис Брюэр, – сказал капеллан, – что вы воспользуетесь предоставленным вам временем, чтобы мысленно стремиться к совершенствованию.
– Я не собираюсь совершенствоваться. Надеюсь, наш премьер-министр займется этим.
Капеллан был явно шокирован и предостерег Эмили, чтобы больше она не произносила оскорбительных речей.
Ее отвели в ванную: кабинка перегораживалась дверью в два фута высотой, и надзирательница, войдя следом, не спускала с Эмили глаз. Была там и уборная, но дверь в нее также оказалась в полвысоты, а цепочка отведена наружу, чтобы воду спускала не заключенная, а надзирательница.
Едва Эмили вернулась в камеру, явился начальник тюрьмы, высокий суетливый человек с внешностью банковского служащего.
– Не воображайте, что вам позволено устраивать здесь беспорядки, – пригрозил он ей. – Мы имеем дело с женщинами-убийцами и ярыми воровками. И свое дело знаем. Но если не станете доставлять нам неприятностей, вы снова сможете обрести свободу.
– Даже если выпустите меня отсюда, – ответила Эмили, – свободу дать вы мне не сможете. Я получу ее только тогда, когда женщины получат право голоса.
– Пока вы состоите под моим надзором, прошу не забывать называть меня «сэр», – со вздохом сказал он. Потом спросил, окинув Эмили взглядом: – Ваш муж ведь член Парламента?
Она кивнула.
– Если вам потребуются кое-какие мелочи для удобства, обращайтесь ко мне. Скажем, мыло, более удобная подушка…
– Я настаиваю, чтобы меня содержали как обычную заключенную.
– Отлично! – Начальник повернулся, чтобы уйти, но что-то остановило его. – Никак не могу взять в толк, миссис Брюэр. – Он резко шагнул от двери назад в камеру. – Если вы добьетесь успеха, если женщины получат право голоса, это может свести на нет галантность, существующую между полами, неужели эта мысль не посещала вас? Почему-то у мужчин сложилось особое к женщинам отношение?
– Так это из соображений галантности вы предлагаете мне мыло? – спокойно спросила Эмили. – Или из-за высокого положения моего мужа?
Явился обед – опять суп; правда, принесшая его служащая обозвала его похлебкой. Эмили есть отказалась. Пришел врач и спросил, когда она ела в последний раз. Эмили ответила.
– Вы обязаны сегодня поужинать, – сказал врач.
Эмили отрицательно покачала головой:
– Я есть не буду.
– В противном случае вас покормят силой.
– Я окажу сопротивление.
– Что ж, посмотрим. По моему опыту, многие, объявлявшие голодовку и тому подобное, выдерживали не более двух суток. После чего организм напоминал им об их неразумном поведении.
Врач ушел следом за остальными. Эмили ждала довольно долго. Наступил час разминки, прогулки во дворе: в одну шеренгу, в полном молчании.
Когда настало время ужина – хотя вечер еще не наступил, – надзирательница спросила, будет ли Эмили есть. Та ответила отрицательно.
В сумерки потушили свет. Эмили лежала на кровати, к тому времени от голода у нее уже кружилась голова.
Сквозь отдающийся эхом тюремный грохот она расслышала какое-то пение. На мелодию марша «Тело Джона Брауна». Слова были иные, но Эмили их знала: это был один из гимнов суфражисток. Она с радостью кинулась к дверной решетке. Опустившись у двери на колени, вытянула шею, направив взгляд в коридор, и присоединилась к общему пению:
Поднимайтесь, женщины, смелей вставайте в строй,
Предстоит нам славный и непримиримый бой.
Наше Дело правое – наш светоч, наш оплот,—
Нас оно зовет вперед!
Голоса поющих суфражисток казались далекими, но голос Эмили громко звучал в ее маленькой камере. Как вдруг кто-то поблизости прокричал:
– А ну-ка, молчать!
И Эмили оборвала песню.
Она пыталась уснуть, но боль не позволяла забыться больше чем на пару минут. На другой день Эмили отказалась от завтрака. Боль, кажется, уже стала тише, но не прекратилась. Порой Эмили впадала в отчаяние, порой ее внезапно с ног до головы окатывало волной сильного возбуждения. Я смогу, говорила она себе. Я справлюсь с голодовкой. Они могут лишить меня всего, но мой организм – моя собственность.
Позже утром кто-то просунул в ее камеру лоточек. В нем лежал свежеиспеченный кекс. Это была явно не тюремная пища. Кто-то специально принес его ей. Обхватив руками живот, чтобы умерить боль, Эмили к кексу не прикоснулась.
К вечеру она уже чуть ли не бредила от голода. Я легче воздуха, сказала она себе, и эти слова, казалось, блуждали эхом внутри ее пустой оболочки: Я легче воздуха… Я легче воздуха…
Иногда ей казалось, что она чувствует запах кофе, струящийся сквозь вентиляционное отверстие в потолке, но когда пыталась определить, что это за сорт, аромат рассеивался и исчезал, как блуждающий огонек.
Явился врач.
– Будете вы есть? – коротко спросил он.
– Не буду!
И не узнала собственного голоса.
– От вас начинает дурно пахнуть, знаете ли вы об этом? Это признак кетоза – то есть, ваш организм поедает сам себя. Если вы будете продолжать в том же духе, вы нанесете непоправимый урон своему здоровью, и прежде всего репродуктивным органам. Это значит, вы никогда не сможете иметь детей.
– Я знаю, что такое репродуктивные органы, доктор.
– Это пагубно скажется на ваших волосах, на вашей внешности, на вашей коже – на всем, что делает женщину привлекательной.
– Если это комплимент, то весьма замысловатый.
– Далее – вы нанесете ущерб своей пищеварительной системе, своим легким…
– Решения своего я не изменю.
– Отлично, – кивнул врач. – В таком случае, нам придется спасать вас от вас самой.
Теперь все ее чувства были на удивление ясны – обострены до предела. Она могла различать далекие запахи, могла даже сама вызывать их к жизни. Она уловила волнообразное, едва уловимое дуновение свежезаваренного кенийского кофе – чувствовала аромат кустов черной смородины; потом через мгновение – нежный запах ячменной стерни, оставшейся после жатвы. Фруктовое дуновение – исходящее от абрикосов, насыщенный запах абрикосового джема… Она прикрыла глаза, сделала глубокий вздох, и ей показалось, что боль стала тише.
Но вот в ее камеру вошли четыре надзирательницы. Специально выбрали женщин покрупней, чтобы сломить ее сопротивление.
– Пожалуйста, пойдемте с нами к доктору.
– Не пойду.
– Отлично. Хватайте ее!
Двое зашли сзади и подхватили Эмили под руки. Когда они приподняли ее, остальные две взяли ее за ноги. И так на весу они вытащили ее в коридор.
– Может, теперь сама пойдет? – спросила одна надзирательница.
Эмили почувствовала резкую боль под мышкой. Одна из женщин ущипнула ее за нежную кожу. Эмили вскрикнула.
– Ну-ка, пошли, дорогуша! – сказала женщина.
Ее толкали и тянули вперед к боковому крылу здания. Эмили видела, как сквозь дверные решетки на нее смотрят чьи-то лица. Когда их маленькая процессия проследовала мимо, арестантки принялись колотить в двери и кричать. Слов Эмили разобрать не могла: эхо поглощало все. Наконец они добрались до лазарета. Там был тот врач, который раньше заходил к ней, и еще один, молодой человек, у обоих поверх халатов были надеты резиновые фартуки. На столе лежала длинная трубка, воронка и миска с чем-то, по виду напоминавшим жидкую кашу. Еще стоял стакан с молоком. Все это показалось ей настолько нелепым, что, несмотря на страх, она едва не расхохоталась.
– Может, выпьете молока? – спросил доктор.
– Не буду!
– Сажайте ее в кресло.
Надзирательницы, произведя меж собой перестановку, стали подсаживать Эмили в большое деревянное кресло. Двое по обеим сторонам втаскивали ее за руки, остальные двое сгибали ей колени. Молодой врач зашел сзади, чтобы придержать ее за голову, другой взял в руки длинную трубку. Обмакнув пальцы в кружку с глицерином, он провел ими по оконечности трубки.
– Теперь крепче держите! – приказал он.
Эмили сомкнула челюсти, сжала зубы изо всех сил. Но трубка предназначалась не для рта. Врач ввел ее прямо в правую ноздрю Эмили. Ощущение было настолько омерзительным, что у Эмили в крике раскрылся рот, но, оказалось, она почти не способна издать ни звука, кроме нечленораздельных захлебывающихся клокотаний.
Еще на дюйм внутрь, еще. Теперь она чувствовала, что трубка где-то в глубине горла и перекрывает ей дыхание. Эмили дернулась было головой из стороны в сторону, но молодой врач крепко держал руками ее затылок. Слезы лились у нее по щекам; она ощутила острую боль в трахее, и вот с заключительным болезненным толчком эта штука вошла ей глубоко внутрь.
– Достаточно, – сказал старший врач, отступая от кресла. Он тяжело дышал.
Врач надел на конец трубы воронку. Взявшись за миску с жидкой кашей, он стал вливать ее в воронку, подняв всю эту конструкцию как можно выше. Теплая, удушливая жидкость заполнила трахею Эмили. Она закашлялась, попытавшись отрыгнуть, но горячая вязкая жидкость не сдвинулась с места. Эмили казалось, ее голова вот-вот взорвется – давило на глаза, стучало в ушах, как будто ее опустили глубоко под воду.
– Пищи прошло достаточно, – сказал врач.
Трубку тянули у нее из ноздри долгим, мучительно болезненным движением. Едва трубку вытащили, Эмили вырвало.
– Надо повторить снова, – сказал врач. – Держите ее крепче.
И снова повторилась та же чудовищная процедура. На сей раз они подождали несколько минут, прежде чем вынуть трубку. Врач понес трубку в раковину; Эмили, закашлявшись, отплевывалась, давясь рвотными спазмами.
– Несите ее назад в камеру.
– Пойду сама, – сказала Эмили. – Вы просто ничтожная мелкая тварь, если позволяете себе так обращаться с женщиной.
– Ах, так вы считаете, что с женщиной все-таки стоит обращаться иначе? – презрительно бросил доктор.
– Настоящий мужчина никогда бы себе такого не позволил.
– Не стал бы спасать вам жизнь, хотите вы сказать?
И врач махнул женщинам, чтобы те забрали Эмили.
В ту ночь она устроила в своей камере пожар, разорвав подушку и забросав соломой газовый фитиль. Потом забаррикадировалась, подтащив под дверную ручку дощатую кровать и заклинив дверь, чтоб ее невозможно было открыть. Им пришлось выбивать дверные петли, чтобы проникнуть внутрь. После этого Эмили связали и поместили в камеру с железной койкой, прикрученной к полу.
В ту ночь и весь следующий день каждые десять минут к ней наведывались. Сначала Эмили решила, что заходят просто поглазеть, и кричала на пришедших.
– За вами положено зорко следить, – было холодно сказано. – Поручено смотреть, чтоб вы ничего с собой не сотворили.
В обед явилась смотрительница со стаканом молока. Эмили пить отказалась.
– Попробуйте выпить, хоть немного, – уговаривала смотрительница.
Эмили отрицательно мотала головой.
Теперь, испытав, что это такое, она с замиранием сердца ждала повторения процедуры. Когда за ней пришли, чтобы снова отправить ее к врачу, она уже была сама не своя от страха. Но поделать ничего было нельзя. Врачи уже сообразили, как себя с ней вести, и трубку вводили быстро. Эмили заплакала от боли, слезы смешались с рвотой и кисловатым запахом каши. И она потеряла сознание.
Когда Эмили пришла в себя, врач с тревогой смотрел на нее.
– Лучше бы вас стошнило, – сказал он. – Вы женщина слабая, вы не приспособлены для таких операций.
– А есть приспособленные? – с горечью спросила она.
– Вы не привыкли к грубому обращению. Оно может пагубно сказаться.
– Вы же врач. Могли бы этого и не устраивать.
– Никому вы не нужны, – внезапно бросил он. – Это просто непостижимо! Вы сидите в тюрьме, такое над собой проделываете, а там, на воле, никто и ни малейшего понятия не имеет. Зачем тогда все это?
– Чтобы показать, что ваша власть распространяется только на тех, кто вам это позволяет…
– Избавьте меня от своих лозунгов! – Врач махнул надзирательницам. – Уведите ее.
Когда ее вели в камеру, одна из женщин тихонько шепнула:
– Они снимают налог с моего жалованья, по-моему, это неправильно, что я не могу голосовать. – Она украдкой взглянула на Эмили. – А вы молодец, храбрая.
– Спасибо, – тайком шепнула Эмили.
– И еще, это все неправда, что он вам сказал. О вас пишут во всех газетах. Без подробностей, но народ знает, что тут происходит.
В ту ночь у Эмили не получалось нормально дышать – что-то мешало в трахее, как будто там застрял сгусток крови. Потом ее снова вырвало, и она обнаружила в рвоте кровавые прожилки.
На следующий день у нее уже не было сил видеть эту трубку. Эмили взяла из рук смотрительницы стакан молока, съела немного супа. Но потом возобновила голодовку.