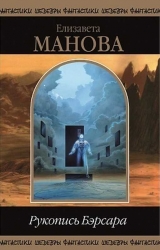
Текст книги "Рукопись Бэрсара. Сборник (СИ)"
Автор книги: Елизавета Манова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 49 страниц)
Черные стрелы распороли море до кромки, и серебристые головы поднялись из воды.
Лорны пришли.
С тяжелой ловкостью они выходили из моря, серебряно – черные, сверкающие… прекрасные. Только миг они были для нас безобразны. Безволосые головы, безгубые рты, длинные выпуклые глаза.
Но зеленые их глаза обратились на нас: гордые, смелые, чуть подсвеченные насмешкой, – и не стало морских чудовищ, остались люди. Пусть с хвостами, пусть в чешуе – все равно просто люди глубин.
– Дети Моря! – запел за спиною Ортан, и голос его, спокойный и звучный, легко улетел в просторную ширь. – Солнце взошло. Мы здесь, и мы ждем.
И ответ: не пение – пересвист, точно стайка птиц в лесу на рассвете. Ну, совсем не страшно и даже смешно, но в руках у них тяжелые копья, и Элура сорвала с плеча самострел.
– Нет! – сказала Элура. – Я его не отдам! Вы не убьете его, пока не убьете меня, а до этого я прикончу многих!
Она знала, что лорны поймут – это сделает Ортан.
– Да! – сказала Илейна и вытащила кинжал. – Сначала убейте нас!
Тишина и смешливая звонкая трель:
– Бесхвостые! Если ваши жены воюют, значит, детей рожаете вы?
– Нет! – сказала Элура. – Это мы рожаем детей, и мы их растим. И за наших детей должны говорить мы! Он мне нужен – отец моего ребенка. Кто защитит мое дитя в этом мире, которого я не знаю? Кто научит его в этом мире жить? Кто сумеет сделать его разумным? Дети Моря! – страстно сказала она. – Мы так недавно пришли в этот мир! Мы все еще ничего в нем не понимаем. Мы все еще воюем, Дети Моря! Воюем с миром и сражаемся между собой. Я, женщина, стала воином потому, что мужчины наши погибли. Я не хочу сражаться – я хочу рожать и растить детей. Муж мой – первый из нас, который сумел стать разумным. Не отнимайте его у меня, оставьте мне надежду, что и мы будем жить в мире с Сообитанием и с собой!
– Не отнимайте! – тихо сказала Илейна. – Я люблю его. Я умру, если он умрет.
Молчание – и искристая трель, где участие слить с насмешкой:
– И все ваши жены так отважны и говорливы?
Ортан ответил:
– Нет. Других таких не осталось. Эти трое – последние из людей Корабля.
– Принадлежащий Истинному, зачем ты с ними? Зачем ты делаешь то, что не должно?
– Она – моя женщина, – тихо ответил Ортан, – и мне не надо другой. Она не бросит своих людей, а я не брошу ее. Позвольте мне отвести их на Остров, и я вернусь…
– Со мной! – сказала Элура, и лорны ответили ей переливчатым смехом.
– Придется тебе научиться рожать, Беспокойный!
– Нет! – сказала Элура. – Он научит меня! Я хочу научиться быть женщиной, Дети Моря! Я всю жизнь воевала – я хочу научиться жить в мире!
Тишина – и тяжелое звонкое слово:
– Закон.
– Погоди, Штурман, – сказал Норт. – Я сам за себя отвечу. – Встал рядом с ней перед блестящей толпой, вскинул голову и сказал им спокойно и твердо:
– Я один виноват – с меня и спрос. Сам провинился – сам отвечу. А только дурацкий это закон, нечестный! Последнее дело – дать себя убить, когда еще можно драться. Почему им можно сотню на одного, а мне нельзя мечом защитить себя и подругу?
И Элура подумала: ох, дурак! Что он несет? Что сейчас будет?!
Быстрый щебет, зеленые вспышки глаз – и рослый, тяжелый лорн, пожалуй, не ниже Норта, скользнул из блестящей толпы.
– Ты будешь драться со мной, – весело свистнул он. – Победишь уйдешь с ними. Проиграешь – умрешь.
– А если ни ты, ни я? – спросил его Норт деловито, и лорн засмеялся в ответ:
– Если я тебя не убью, значит, ты победил.
Кто – то из лорнов кинул Норту копье, он усмехнулся, вынул меч и отдал Элуре. И вступил в серебряный круг.
Круг раздался – и противники разошлись. Сладит ли с непривычным оружием Норт? Много короче, чем пика, но длиннее, чем дротик, и, кажется, тяжелый. Наконечник четырехреберный, белый, ослепительно гладкий, древко черное, почти в человеческий рост…
Но лорн огромным грациозно – тяжелым прыжком уже пересек свою половину, и копья встретились – Норт отразил удар. Выпад – опять отразил.
Странный танец, стремительный и угловатый, лорн ведет, это он делает бой. Черно – серебряная, грузно – изящная тень – выпад, контрвыпад, толчок, Норт упал на одно колено, кровь на куртке, но он вскочил и отпрыгнул назад.
Норт! Эй – хо! Снизу! Она не кричит – молчит, закусив губу, только твердит про себя: снизу, Дурак! Бей от земли!
Услышал? Сам догадался? Пошел вперед, уклонился, нырок, удар почти от земли – и лорн пошатнулся, копье его опустилось, и неожиданно яркая струйка ползет по серебряной чешуе.
Свист – но Норт уже отступил, поднял копье и ждет.
Опять сошлись – черно – белый стремительный танец, стук, топот и хрип и отпрянули друг от друга. На серебряном кровь видней, чем на старой кожаной куртке, но и Норт получил свое.
И опять вперед: теперь они осторожней, кружат, нащупывая слабину. Фехтование на дубинках? Норт, не верь, он просто хитрит. Не давай себя обмануть, он искусней, Норт!
Норт споткнулся, и острие устремилось к его груди. Вскрик Илейны, нет, нет, да! Да! Она подскочила на месте и пронзительный клич – «Эй – хо!» – раскатился над берегом моря, потому что Норт уклонился, пропустил подмышкой копье, захватил и вырвал у лорна.
– Эй – хо – о! – подхватила рядом Илейна, Норт взглянул на них, усмехнулся – отбросил оба копья.
И – пронзительная тишина.
Лорн неспешно сдвинулся с места, Норт шагнул навстречу, сошлись и опять глядят друг на друга.
– Ты не умрешь! – пропел серебряный голос лорна. – Ты дважды отдал мне мою жизнь. Я должен отдать тебе твою.
– Ты здорово дрался! – сказал ему Норт. – Куда мне до тебя! Жаль, дыханье тебя подвело. В воде б я против тебя… ничего!
Переливчатый свист – лорны смеются. И я тоже смеюсь – с гордостью и облегчением. Вот такие они и есть, воины Экипажа! Такие они были…
Лорны ушли, но ночью придут опять. – Ортан сказал, что они не выносят зноя. Ушли – но один возвратился, вытряхнул из сетки блестящую горку рыбы, весело свистнул, бросился в море, и стремительный черный плавник разрезал волну. Мелькнул и исчез – и море пусто. Огромно, сине – блестящее, в темных полосах ряби. Равнина – но из воды, и это тоже красиво.
Я не спала всю ночь, но мне не хочется спать, и не хочется прятаться в узкую тень скалы. Медленное дыхание моря. Острые блики на синеве. Мне беспокойно. Мне тревожно…
Кажется, смерть миновала нас, разжала когти и выпустила добычу. Там впереди – безопасность, жизнь и, может быть, счастье. Мне непросто поверить в счастье, я не привыкла. Я боюсь… я ничего не боюсь! Просто меня мучает нетерпение. Я хочу поскорей добраться до места. Я хочу доставить Норта с Илейной на Остров. Освободиться от клятвы и хоть немного пожить для себя. Я хочу… О, как многого я хочу! Я хочу вместе с Ортаном обойти всю планету. Я хочу путешествовать с лорнами по морям. Я хочу, чтобы гвары признали меня и позволили жить так, как мне удобно…
– Ортан, – тихо сказала она, зная, что он все равно услышит. – А что будет с нами – со мной и с тобой?
– Остров, – сказал он беззвучно. – Но я не могу там жить все время.
– А я? – спросила она себя. – Нет, мне этого тоже мало. Один – единственный остров, а вокруг целый мир, о котором я ничего не знаю.
– Ты не сможешь вернуться, – ответил он. – Сообитание не пропустит.
– Это глупо! – сказала она. – Те, что решают… неужели они меня не пойму? Я никому не желаю зла – я только хочу узнать…
– Я не могу поднять тебя во Второй Предел. Я все еще отделен.
Но она засмеялась тихим воркующим смехом, и голос ее стал бархатен и глубок.
– Ортан, любимый мой, ты сам не знаешь, на что ты способен! Ты не верил, что сможешь нас провести на Остров, но – смотри! – мы почти у цели. – Подошла, села рядом, прижалась щекою к его груди. – Мы почти у цели, тихо сказала она, – и теперь мне нужна новая цель! Да! Я очень хочу добраться туда поскорей. Устроить Илейну и Норта и недельку пожить спокойно. А через неделю окажется, что я лезу в чужие дела и навожу свои порядки. Нет! Мне не нужна власть – просто я так привыкла. Я этого не хочу – сказала она. – Мне никуда не уйти от своих понятий, А они не очень годятся для этого мира. Ортан, – сказала она, – если я останусь на острове, я возненавижу твой мир и стану ему врагом. Я не прощу того, что меня опять заперли в клетку, и не мне решать, как мне жить и куда мне идти. Ортан! Давай попробуем договориться! Я уверена: если захочешь, ты сможешь все!
– Я не знаю, – ответил он неохотно. – Это опасно. Я не смогу.
– Сможешь! – сказала она и сжала его руку. – Сможешь! Все равно тебе когда – то придется рискнуть, чтобы вернуться в свой мир. Ну, Ортан?
– Сейчас Трехлуние, – сказал он, подумав, – и я завершен. Может быть, если мы вместе… но это очень опасно, Элура!
Но она со смехом прижалась к нему; нетерпенье, тревога и уходящий страх, и плотное ласковое тепло. Войти в него, раствориться в нем, и мы отрываемся от земли, и в мире, который вне, но внутри меня, все правильно, все осмысленно, все разумно.
И – холодно, одиноко, темно, мы изгнаны из прекрасного мира, отторгнуты им; и ярость, упрямая, твердая, раскаленная ярость: так просто вам не отделаться от меня! Мы бьемся в стену, она не пускает нас, но чем сильнее сопротивление, тем яростней безнадежная радость боя: убей меня, если хочешь остановить – пока жива, я дерусь!
И – ясность. Спокойная, трезвая ясность. В ней нет тревоги, но нет и веселья. Мы просто прошли во Второй Предел.
И мы теперь не одни: _о_н_и_ окружают нас, и мысли их, очень разные и чужие, сливаются в мощный поток, превращаясь в единую мысль. И эта мысль ощупывает меня, пронизывает, проникает во все мои тайны. Пускай! Я этого и хотела. Прочтите меня, узнайте меня, поймите меня!
– Поймите нас, – сказал во мне Ортан. – Мы завершились, и вместе мы человек. Теперь вы сможете знать, что это такое.
– Ты нарушил Закон, – сказала Общая Память.
– Это сделали вы, – твердо ответил Ортан. – Вы впустили нас в Мир Живых, не защитив, и мы никак не могли его не нарушить. Я открыт, – сказал он, – и вы знаете все мои мысли. Непредотвращение – это тоже поступок.
И Общая Память сказала:
– Да. Это наш поступок, и мы отвечаем.
– Ты можешь спрашивать, – сказала Общая Память. – То, что ты сделал не благо, но поступок уже совершен.
– Мой вопрос – это мы. Какое место нам отведено в мире?
– Ты – один из нас, – сказала Общая Память. – Теперь мы знаем, что люди могут войти.
И я увидела: люди, прекрасные и нагие, бродят по миру вместе с Гварами, и ужас пронзил меня. Нет! Я этого не хочу!
– Видите? – сказал Ортан. – Мы – другие. Даже мне мало того, что есть. Я искал, метался, уходил в Хаос. Теперь я знаю, зачем. Мне мало знать, мне хочется узнавать.
И снова картинка: не Остров, а острова, и легкие лодки, скользящие между ними. Нас будет немного – ровно столько, чтобы жить без тревог и делать то, чего ждет от нас Общая Память.
Но это глупо, думаю я. Мы только сменим клетку на клетку. Не так уж важно, нужна ли тебе свобода – гораздо важнее, есть она или нет. Мне нравятся лорны, но мы – то не лорны – так просто нас не приручишь…
И странная тяжесть – словно перед грозой, словно на нас сейчас обрушится небо… Мне страшно? Страшно! Но Ортан спокоен, он внутри и вокруг меня, он твердый, будто скала, и теплый, как камень, нагретый солнцем.
Он говорит:
– Вы начали изменение, не зная, к чему оно приведет. Вы знали всех, кого включили в себя до сих пор, но нас вы знать не могли. Мы слишком недавно пришли в этот мир, и среди нас пока мало таких, что открыты для мысли.
Он говорит:
– Мы пришли затем, чтобы вы могли нас узнать. Узнайте нас, пока изменение обратимо. Я люблю Сообитание – и боюсь за него. Я человек – и боюсь за людей. Я не вижу пути, который может нас слить.
– Ты – только Живущий, Наори, – сказала Общая Память, – и разум твой беспокоен и тороплив. Закон неизменен, – сказала Общая Память, – в Сообитании каждый должен жить так, как ему хорошо. Вы нужны Сообитанию, сказала она, – мозг ваш велик и может нести в себе Общую Память.
– А если, когда Общее ляжет на нас, мы исказим его?
– Груз Общей Памяти непомерен для ныне живущих. Двадцать поколений и они перестанут жить. Они будут носителями, а не Живущими. Не бойтесь, сказала Она мне и ему, потому что мы больше не вместе: он и я, а между нами преграда. – Если вы будете счастливы, Мир не будет испорчен. Чего ты хочешь? – спросила Она меня, и я молчу: я не знаю! Так много я хочу! Любить, быть любимой, родить ребенка, обойти весь мир, все увидеть и все узнать, измениться – и при этом остаться собой…
– Строй, – говорит Она мне. – Делай так, как было бы хорошо, как ты хочешь для людей.
Увлекательная игра? Хорошо, я хочу построить город.
– Нет, – говорит Она. – В городе слишком много людей. Все не смогут жить так, как им хорошо.
И тогда я придумываю деревни. Нарядные домики, зеленеющие поля, корабли, бороздящие гладь океана…
Но корабль пристал к берегу, люди весело сходят на землю, рубят деревья, строят дома, раздирают плугами почву. И каждый удар топора, каждый нажим лемеха – это отчаянный крик боли. Уничтожение, убийство, распад…
– Видишь, – говорит Она мне с участием, – ты не знаешь, что хорошо. Ты не можешь знать, – говорит мне Общая Память, – ты неправильно выросло, бедное существо. Только тот, кто выращен в радости, знает, что ему хорошо. Как мы можем сейчас решать? – говорит мне Общая Память. – Нужно несколько правильных поколений, чтобы люди узнали, что для них хорошо. Иди, говорит Она мне, – пробуй жить, как тебе хорошо, Наори поможет тебе избежать опасных ошибок.
И – Ортану:
– Ты можешь привести тех людей на Остров. Общее вас защитит.
И теперь между нами нет преграды; я бросаюсь к Ортану – в беспокойство, в тепло, в защиту, я сливаюсь с ним, и небо… над нами огромное синее жгучее небо, и море перед глазами, слепящая синева, в потеках ряби, в белых жалящих бликах.
И дрожь запоздалого страха, и слезы…
Но Элура решительно вытерла слезы ладонью, улыбнулась Ортану и спросила:
– Ортан, а если у нас будет ребенок?
– Будет, – сказал он. – Сразу после Больших дождей.
– Слушай, а, может быть, мы еще успеем взглянуть, что за морем?
ОДИН ИЗ МНОГИХ НА ДОРОГАХ ТЬМЫ…
Повесть
Мрак души моей не рассеет свет,
Равнодушный гнев не смягчит мольба.
На дорогах тьмы мне спасенья нет —
Сам себе я суд, сам себе судьба.
«Ведь не станете вы отрицать того, что дороги этого мира полны как живых, так и мертвых?» Ли Фуянь «Подворье предсказанного брака»
«Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным» Акутагава Рюноскэ
1. Какая-то из смертей
Он уже знал, что жизнь эта будет недолгой, потому что проснулся в избитом, переполненном болью теле.
Боль не имела значения, существование тоже. Он просто лежал и ждал, пока станет понятно, кто он здесь и как предстоит умирать в этот раз.
Когда рождаешься, это занятней. Ты кем – то рождаешься, живешь, и только потом, перед самой смертью, вдруг вспоминаешь, кто ты такой и сколько раз уже умирал.
«Значит, скоро, – лениво подумал он. – Что – что, а смерть его всегда была не приятной. И – самое скверное – всегда не последней. А будет ли когда – то последняя смерть?» Но и это тоже уже почти безразлично. После сотни смертей становится все равно. Если что – то и важно – так только это мгновение, пока ты – это ты и остаешься собой. Был ли я в первой жизни в чем – то виновен? Если да – то это давно потеряло смысл. «Когда наказание несоразмерно с виной… а если и соразмерно? – подумал он. – Если я забрал столько жизней, что мне предстоит много тысяч смертей?» Но это тоже уже не имело смысла, и, кроме боли. теперь появился свет. Не радостный тусклый свет, рассеянный чем – то черным. «Решетка, – подумал он, – я в тюрьме», – и сразу же боль обозначила губы.
Он медленно поднял тяжелую руку, другая рука потянулась за ней. Наручники. Этот я – не тихоня. И новая боль – поднять голову и осмотреться. Нет, не тюрьма – темница. Мокрые стены в зеленых потеках, грязь и сырая вонь…
Он попробовал – и улегся опять. Этому телу слишком много досталось. Кто бы ни был в нем до меня, он не скучал в последнее время.
Шаги. Уже за мной? А впрочем, и это не страшно: скорее начнут, быстрее кончат.
Нет. Только двое. Вдвоем бы они не пришли: меня предстоит нести. Тюремщики. Двое? Значит боятся.
Ввалились и осмотрительно встали в сторонке – тот, кто был до меня, заставил себя уважать. Тюремщики. Это свои ребята, я столько их повидал в бесконечных смертях. Бывали скоты, но бывали и люди. Ну, эти посередине. Возможно, как раз они обрабатывали меня. Плечистый верзила и бородатый крепыш. Да, если они, все понятно.
– Ну? – сказал бородатый второму. – Проспорил? Энрас помрет путем!
– И тебе того же желаю, – ответил узник спокойно. – Да поскорее.
Верзила поймал бородатого за плечо, легонько отдернул назад и объяснил добродушно:
– Он по простоте. Не серчай.
– Когда? – спросил узник, и они озадаченно переглянулись.
– Почему – то я не расслышал. Голова болела, что ли?
Они переглянулись опять, и верзила ответил смущенно:
– Завтра о полудне, господин. Ежели чего желаешь… оно не велено… ну, да…
– Воды! – приказал он. – И чтоб до завтра я никого не видел.
– Энрас! – грубо сказал бородатый. – Тут твоя баба…
– Никого!
Теперь они уберутся, и я останусь один. Почти небывалый подарок – побыть собой и с собою наедине.
– Господин! – тихонько сказал верзила. Почему – то они не ушли. Стоят у двери и смотрят, и в глазах их страх и жестокое ожидание. – Это правда?
«Что?» хотел он спросить, но не спросил. Эти жаждущие глаза, эти бледные, потные лица…
– Да, – сказал он, – или нет. Узнаете, – и отвернулся к стенке. А когда, наконец, стукнула дверь, боль улыбки опять шевельнула губы. Занятное наследство он мне оставил. «Кто он был, этот Энрас?» – лениво подумал он. Кажется, это будет поганая смерть.
Рядом стоял почти полный кувшин с водой; он с трудом подтянул его скованными руками, долго пил, а потом стал устраиваться поудобней. Это тоже искусство – уложить избитое тело так, чтоб боль стала вялой и даже приятной. Наслаждение ничуть не хуже любви – миг, когда утихает боль.
Нет, подумал он, я просто забыл. Если я наказан, подумал он, это глупо вдвойне – я не страдаю. Страх отмирает, а к боли я так привык, что без нее мне чего – то не хватает.
Он лежал и глядел на серый квадрат, рассеченный темной тенью решетки, и какие – то смутные воспоминания не спеша перепутывались внутри. Все его жизни давно перепутались в нем. Он не знал, какая из них была первой и какая из них была. Лица, улицы, корабли, грохот бомб, пение стрел… тишина.
Тишина подошла и наклонилась, положила руки ему на лицо, и опять колесо, оно катится мне навстречу: колесо из огня, колесо из звезд; тяжело проминая мякоть тьмы, оно катится на меня, и беззвучный стон – это те, кого оно раздавило, и сейчас… боль! боль! жуткий треск раздираемой плоти, а когда оно прокатилось по мне, я поднял голову и засмеялся. Я – раздавленный, я – убитый, все равно я смеюсь над тобой! И тогда оно зашаталось, накренилось… нет, оно катится дальше, но когда – нибудь, может быть…
Снова шаги – там, за дверью; он недовольно открыл глаза. Темнота. Да, успело стемнеть, мне не долго осталось, подумал он, да и то норовят отнять.
Грохот засовов, ржавый возглас замка, дымный свет в глаза; он поморщился, щурясь, вгляделся. Тучный мужчина в расшитой хламиде, а при нем двое в черном и с факелами в руках. Не наигрались со мной, что ли?
Он невольно проверил тело – больно, но уже кое – что смогу. И подумал: тоже неплохо. Если они за меня возьмутся, им придется меня убить.
– Энрас! – позвал его главный. – Энрас!
Он не ответил. Глядел в упор и молчал.
– Энрас, ты что, не узнал меня?
Забавно было бы, если бы узнал.
– А зачем мне тебя узнавать? – спросил он спокойно.
– Энрас, – сказал тот с тревогой. – Это я Ваннор, разве ты не помнишь меня?
Обрюзгшее пористое лицо, безгубый рот, а глаза в порядке. Поганый тип, но не глуп и не трус. И тоже боится…
– А чего мне тебя помнить? Я думал мы попрощались.
Ваннор рявкнул на провожатых, они сунули факела в гнезда, и теперь мы вдвоем – я и враг. И бодрящая радость: не знаю, как там ваш Энрас, ну, а я тебе покажу.
– Энрас, – вкрадчиво начал Ваннор. – Ты полон ненависти, и это печально, ибо завтра дух твой должен расстаться с плотью. Сумеет ли он, отягощенный, покинуть эту юдоль скорбей?
– Сумеет, – сказал он спокойно. – Со своим духом я разберусь. К делу!
Ваннор молча глядел на него. Глядел и глядел, сверлил глазами и, наконец, сказал без игры:
– Ты знаешь, зачем я пришел.
– Можешь уйти.
– Раньше ты был разговорчивей.
Врешь, подумал он, главного он не сказал.
– Ладно, – сказал Ваннор, – ты меня ненавидишь. Но ведь то, что не хочется подарить, можно продать. Только одно слово, только «да» или «нет», и ты получишь легкую смерть! – и опять этот странный, перепуганный, жаждущий взгляд.
– Легкая смерть? Это немного меньше боли? Нет, мне уже все равно.
– Завтра ты пожалеешь, потому что это не так больно. Это очень противно, Энрас. Гнусная, позорная смерть…
– Люди – странные твари, Ваннор. Иногда они почитают именно тех, кто умер позорной смертью.
– Ну, хорошо, – сказал Ваннор, – видит бог, я этого не хотел! Ты сам заставляешь меня. Аэна…
Снова он впился глазами в его глаза и отшатнулся, увидев в них только тьму.
– До сих пор я щадил ее, Энрас, но ты знаешь, что я могу!
– Догадываюсь, – спокойно ответил узник, – и мог бы сказать, что и это уже все равно. Нет, – сказал он, – врать я не стану. Просто не могу верить твоим обещаниям, раз не могу заставить тебя выполнить их.
– Я поклянусь! – воскликнул Ваннор. – Перед ликом Предвечного…
– Ты врешь не в последний раз. Хватит, Ваннор! Ты ничего не выгадаешь, если замучишь Аэну. Даже не отомстишь, потому что я не узнаю. Уходи. Нам не о чем говорить.
– Ты должен сказать! Не ради меня… Энрас, ты сам не знаешь, как это важно! Дело уже не в тебе…
Он усмехнулся. Улыбался разбитыми губами и глядел в это смятое страхом лицо, в эти жаждущие глаза.
– Должен? Это ты мне кое – что должен, Ваннор, – и не мне одному. – Ничего, – сказал он, – когда – нибудь ты заплатишь. А это я оставляю тебе. Думай.
– Энрас!
– Уходи! – приказал он. – Не мешай мне спать. – Закрыл глаза и отвернулся к стене. Легко не выдать тайну, которой не знаешь. А любопытно бы знать, подумал он.
…Сухой горячий воздух песком оцарапал грудь, короткою болью стянул пересохшие губы.
Его не тащили – он сам тащился: хромал, но шел – и серое душное небо качалось над головой, виляло туда и сюда, цеплялось за черные крыши.
На редкость угрюм и безрадостен был этот мир, с его побуревшей листвою, с пожухшей травою, с безмолвной, угрюмой толпой, окружающей нас. И те же молящие, ждущие, жадные взгляды – они обжигали сильней, чем удушливый воздух, давили на плечи, как низкое, душное небо – да будьте вы прокляты, что я вам должен?
И только одно искаженное горем лицо мелькнуло в толпе, усмирив его ярость. Значит, Энраса кто – то любит. Хоть его…
Он не терпел, чтобы его провожали – ведь провожают всегда совсем не его, но почему – то сейчас это было приятно. Так одиноко было идти сквозь толпу в этом высасывающем, удушающем ожидании.
Толпа раздалась, пропуская его к помосту, и он усмехнулся: и тут колесо! Не очень приятно, но тоже не в первый раз…
Его потащили наверх, и он двинул кого – то локтем – без зла, просто так. Нет! Потому, что стражники тоже молчат, ни слова за всю дорогу. Он глянул и сразу отвел глаза. Все то же. Мольба и страх. И когда он возник на верху, толпа не ответила ревом. Просто лица поднялись вверх, просто рты приоткрылись в беззвучном вопле. Да или нет? Скажи!
Да что вам сказать, дураки? Откуда я знаю?
Пересыхающий мир под пологом низких туч… удушье… тяжесть… палящий сгусток огня… Так вот оно что! И тут все то, что он говорил, словесные игры этой ночи, сложились в такую отличную шутку, что он засмеялся им в скопище лиц. Нет, дурачье, я промолчу! Скоро вы все узнаете сами! Ну, Энрас, хоть ты меня и подставил, но спасибо за эту минуту веселья!
А потом он молчал – что такая боль для того, кто изведал всякие боли? Только скрип колеса, стук топора, мерзкий хруст разрубаемой кости…
А потом был вопль из тысячи глоток.
Палач поднял голову над толпой, и голова смеялась над ними!
2. Аэна
Эту ночь она тоже провела у тюрьмы.
Сколько дней назад она убежала из дому? Не было дней – лишь одна бесконечная ночь, иногда многолюдная, иногда – пустая. Свет погас, и все в ней погасло в тот день; не было мыслей, не было даже надежды. Только какой – то инстинкт, какая – то безысходная хитрость…
Эта хитрость велела обменятся одеждой с нищей старухой, и теперь мимо нее, закутанной в драное покрывало, не узнавая, ходили те, что искали ее.
Этот странный инстинкт заставлял без стыда подходить к тюремщикам и охране, и она торопливо совала в их руки то кольцо, то браслет, и они отводили глаза от безумных пылающих глаз, обещали, не обещали, но не гнали ее от тюрьмы. Ела ли она хоть раз за все эти дни? Спала ли хоть миг за все эти ночи? Только жгучая черная боль, только жаждущая пустота…
– Он не хочет, – сказал ей тюремщик и отдал кольцо. Это кольцо подарил ей Энрас, и она берегла его до конца.
– Уходи, – сказал тюремщик, – никто ему не нужен.
Это была неправда, и она не ушла. Она только присела на землю в глубокой нише, и ее лохмотья слились со стеной. Там, за этой стеной, еще билось его сердце. Когда оно перестанет биться, она умрет.
А потом появились люди, и она побежала к воротам. Было очень много людей, но она не видела их. Бешеной кошкой она продиралась в толпе, яростная и бесстыдная, словно горе.
И она его увидала! Не глазами – что могут увидеть глаза? Искалеченного, едва бредущего человека с изуродованным лицом. Нет, всей душой своей, всей силой своей любви увидала она его – красивого и большого, самого лучшего, единственного на свете. И она рванулась к нему – сквозь толпу, сквозь охрану, сквозь… и его глаза скользнули по ней.
Это были чужие глаза, они ее не узнали. Только тьма была в этих глазах. Непроглядная твердая темнота и угрюмая гордая сила.
– Энраса нет, – сказали эти глаза. – Уходи! – и вытолкнули из толпы. И она, спотыкаясь, слепо пошла прочь, пока не наткнулась на что – то и не упала. И поняла, что незачем больше вставать. Энраса нет. Все.
Серым жалким комком она легла у тюремной стены, и даже боли не было в ней. Только жгучая, горькая пустота все росла и росла, разрывая ей грудь. И когда пустота стала такой большой, что проглотила весь мир, что – то мягко и сильно ударило изнутри. Позабытое дитя напомнила о себе, и впервые за все эти дни в ней шевельнулась мысль. Нет, не мысль – долг. Если я умру – умрет и оно. Последнее, что осталось от Энраса, умрет во мне. Я не должна умирать…
Грубые руки потянули ее с земли. Грубая рука схватила ее за плечо и и отвела с лица покрывало. И она увидела: это те, что в черном. Черные отыскали ее, и она умрет. Умрет – когда не должна умирать. И она взмолилась – не Небу и не Земле, а кому – нибудь, кто может ее услышать:
– О, пощадите! Дайте отсрочку! Мне еще нельзя умирать!
И грубые руки отпустили ее. Сквозь черную тишину она увидала людей. Много людей в серых плащах, лица их были закрыты и что – то блестело в руках. Никто ничего не сказал. Тишина задрожала от лязга мечей, и черных не стало. Люди в сером взяли ее на руки и унесли от тюрьмы.
Когда открылись глаза, она лежала в постели. Она не знала, чей это дом. Теперь у нее не осталось дома. Она не вернется в дом отца, потому что отец выдал Энраса черным.
Через день – или несколько дней? или это все длилась ночь? – она поднялась с постели. Ей дали платье и чистое покрывало, и люди в сером куда – то ее повели.
Ночь была в ней, но стояло ранее утро, серое, как плащи, и ее привели на площадь. Площадь была пуста, и помост уже разобрали. Она не знала, что был помост. Она только поняла: здесь умер Энрас. Она легла на истоптанный грязный камень, раскинула руки, прижалась к нему лицом. И всей душой своей, всей силой своей любви она воззвала к Энрасу: любимый, где ты? Ответь, отзовись, я не могу без тебя!
Но он так давно и так далеко ушел! И кровь, что здесь пролилась, была не его кровь. Он успел уйти, не изведав ни мук, ни позора, и кто – другой умер здесь вместо него. И острая, как кинжал, благородная жалость вонзилась в нее и исторгла слезы на глаза. О брат мой! Неведомый мой, несчастный брат! Спасибо тебе за то, что ты сделал. Демон ты или наказанный бог, или лишенная тела душа, но пусть кто – нибудь пожалеет тебя и дарует тебе покой!
А когда она поднялась с земли, человек с закрытым лицом заговорил с ней.
– Дочь Лодаса, – сказал он, – мы себя погубили. Мы сделали богом того, кто был послан спасти людей. Теперь он недобрый бог, он покинул нас в гневе, и смеялся над нами, когда уходил. Если хоть что – нибудь на земле, что способно смягчить его гнев?
– Да, – сказала она и прижала ладонь к животу. И тогда человек сдернул с лица повязку. У него было сильное худое лицо и глаза, золотые, словно у хищной птицы.
– Дочь Лодаса, ты вернешься в дом отца?
– Нет, – сказала она спокойно.
– Тогда я, Вастас, сын Вастаса, принимаю тебя в свой дом.
– Я не буду ничьей женой.
– Ты войдешь в мой дом как тооми – старшая из невесток.
И она закрыла лицо и пошла за ним.
В тот же день они покинули Ланнеран. Два дня мотало ее в закрытой повозке, и мир был тускл и бесполезен, как жизнь. А на третий день она увидала Такему. Дом Вастаса стоял на высокой горе, а селение облепило ее подножье.
В доме Вастаса она одела вдовий убор, и когда черное платье облекло ее стан, темнота сомкнулась над ней.
Три дня лежала она без и сна без слез в черной боли своей утраты. А потом – впервые – к ней пришел этот сон.
В черном – черном заботливом мраке была она, и другие, такие же, были рядом. Неощутимые, недоступные взгляду, но они были рядом, и он не пуст для нее был мрак. Но жестокий свет возник впереди, колесо из звезд, колесо из огня, оно мчалось к ней, рассыпая пламя, и под ним задыхалась и корчилась тьма.
И она уже знала, что это конец. Мрак дрожал под ногами, и жар опалял, но огромный яростный человек с телом Энраса, но не Энрас, вдруг схватил ее за руку и приказал:
– Назовешь его Торкасом.
А потом он отшвырнул ее прочь – прочь от смерти, прочь от огня, и колесо прошло по нему…
Она проснулась в слезах и встала с постели. И с тех пор она зажигала в молельной два поминальных огня – один для Энраса, один – для Другого.
3. Торкас
На исходе ночи, едва просветлело, Торкас с Тайдом были на горной тропе. Самый добрый, самый надежный час между жаром дня и ужасом ночи, когда все живое торопится жить. Добрый час для охоты; они вдвоем загнали тарада, и Торкас прикончил его ножом.








