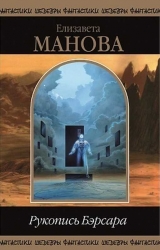
Текст книги "Рукопись Бэрсара. Сборник (СИ)"
Автор книги: Елизавета Манова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 49 страниц)
Вечером я додумалась только позвонить в справочную: «Номер директора УСИПКТ, пожалуйста». – «Учреждение в списках абонентов не числится». Конечно! Потом звонил Лешка, мой сын. В таких вещах он гений: выдумал какую – то неправдоподобно убедительную историю, и девочки честно искали названный им номер, даже перезванивали два раза.
Не числится.
Ловушка захлопнулась.
На третий день я не пошла на работу. Взяла и не пошла. Посмотрим, что выйдет. Маленькая такая надежда: а вдруг _это_ – чем бы оно ни было существует лишь в том здании, и еще можно вырваться? Только я не очень в это верила, и не удивилась, когда часов в десять мне позвонили.
– Что случилось, Зинаида Васильевна? – спросил невещественный директор. – Вы нездоровы?
– Здорова, – ответила я нахально. – Просто не играю в глупые игры.
– Напрасно, – ответил любезный голос. – Мы прогулов не поощряем. Вы же не хотите испортить себе трудовую?
Я чуть не засмеялась, так это было глупо. _Этим_ напугать? Хорошо, что я не засмеялась. Угроза была легонькая, но за ней… «У тебя двадцать лет стажа, ты хороший специалист и неплохой работник, но все это можно зачеркнуть двумя – тремя записями. И ты уже никому не докажешь. Ну – ка, подумай, сумеешь ли ты начать все с нуля?»
Я подумала и поняла, что не сумею. Уже за сорок, а Лешка кончает школу. Это будет еще тот кошмар – поступать в вуз. Сразу две жизни сначала? Еще лет пять назад вытянула бы, теперь уже нет.
Почему я сдалась так сразу? Шкурный опыт. Изучила на собственной шкуре, как легко поломать и как трудно починить. Чем кончается для нормального человека бюрократическая дуэль, особенно, если учесть, что жалобы пересылают тем, на кого жалуешься.
Да, безработицы у нас нет, что – то я, конечно, найду. Только вот «что – то» мне не подходит. Мне _мой_ уровень нужен, то, чего я уже добилась. Совсем нелегко добилась, черт возьми! И деньги тоже. На сто двадцать не пойду, у меня Лешка, а Лешке надо учиться. Не на мужа ведь надеяться, который десять лет как исчез в неведомых просторах?
Да, доводы не могучие, и цеплялась я за них не от хорошей жизни. Просто за их банальностью удобно прятать свой страх перед дикой необъяснимостью того, что с нами случилось.
Дико и необъяснимо, что кто – то истратил столько денег и сил, чтобы завлечь нас в ловушку. (Нас? Зачем? Что мы такое?)
Дика сама добротность этой ловушки, ее необъяснимая громоздкость. И поэтому дико думать, что это необъяснимое позволит нам выскочить, отпустит просто так.
Ладно, я пока не рискую. Ребята – как хотят.
Ребята рискнули. Не Эд и не Инна (Эд выжидал, Инна – ревела), а Саша с Адой.
Сашка – просто душа – пошел в милицию. Некто в штатском выслушал его, пожал плечами и позвонил по номеру, который Сашка сдуру ему сообщил. Тут – то ему выдали такую характеристику Александра С., что бедному Александру пришлось срочно уносить ноги – во избежание.
А Ада просто тихо нашла местечко в другой конторе и соврала, что потеряла трудовую. Почти уладилось, но туда позвонили. Сообщили, что она работает там – то и сейчас находится под следствием по случаю крупной недостачи. Славно?
И опять мы сидели молча – пятеро на четвертом этаже – задавленные тишиной и меланхолией…
– Ладно, ребята, – сказала я. – Не киснуть! Подождем до получки. Вот если нам не заплатят…
Только для них – не сомневалась, что заплатят. Никто ни к чему не придерется, никто ничему не поверит, и любая комиссия найдет здесь то, что когда – то обмануло нас: вполне респектабельное _живое_ учреждение.
И снова вопрос: как я с этим смирилась? Почему не сошла с ума от страха и бессилия? Почему не кинулась напролом искать справедливости… любой ценой? Наверное, эта цена была бы мне по карману. А я не могла позволить себя раздавить: со мной были эти четверо. Я за них отвечала.
– За работу, ребята! – сказала я им. – Пеший по – конному. Нет машины – и черт с ней? Задача ясна. Беремся за постановку.
Они не хотели. Это было слишком нелепо – заниматься работой, которая так явно никому не нужна. И все – таки по более нелепо, чем наше положение, и я смогла настоять на своем. Мы ведь заперты с восьми до пяти, если это время ничем не занять…
Мы начали и увлеклись. Даже Инна вынырнула из лужи слез, и оказалось, что она все – таки толковая. Я не скупилась на похвалы. Их было за что хвалить. Попробуй работать, когда все так страшно и нелепо, что никому не расскажешь и не попросишь о помощи.
Мне было легче. Я могла рассказать. Мой друг, моя опора, мой _мужчина в доме_. Не муж, который так хорошо знает, что сделал бы на моем месте, не мать, которая немедленно слегла бы от волнений, а бодрый, практичный шестнадцатилетний Лешка, который поверил… и не изводил меня советами.
Дни шли, мы работали, и души наши постепенно расправлялись даже под этим гнетом. Притерлись, узнали все друг о друге, и уже начинали осторожно шутить за почти семейным обедом. И Ада с Сашей уходили домой, взявшись за руки. Все становилось хорошо, так хорошо, что я ждала беды.
И мы услыхали шаги. Тяжелые, медленные шаги в коридоре – как грохот, как удар грома среди проклятой тишины. Мы замерли, глядя на дверь. Надо было пойти поглядеть, но я не смогла. Смог Эд. Встал и вышел в коридор.
Он сразу вернулся. По – моему, он не мог говорить. Он просто поманил меня, и я покорно пошла к нему.
Шаги уже удалялись. Я еде заставила себя поглядеть. Взглянула – и у меня мягко подогнулись колени, пришлось схватиться за косяк. То, что шло по коридору… я даже не поняла, какое оно. Темная, почти бесформенная тень. В конце коридора оно обернулось. Глянуло белыми, без зрачков глазами и свернуло на лестницу.
Я все не могла шевельнуться. Эд отцепил от косяка мои пальцы и втащил меня в комнату. Я знала, что он будет молчать.
– Что там? – тихо спросил Саша.
– Ничего, – резко сказала я (и голос мой совсем не дрожал), – нас это не касается. Инна, что вы мне хотели показать?
А вечером Лешка отпаивал меня валерьянкой и почти всерьез клялся разнести к чертям эту шарагу.
Так Оно и ходило теперь по коридору. Мы больше не выглядывали. Только Саша раз не выдержал: вылетел из комнаты и вернулся с перекошенным лицом. И тоже ничего не сказал.
– Работать! – говорила я злобно, когда раздавались шаги. – Эд, что у вас с модулем входного контроля? Ада, сколько можно возиться с одной схемой? Отвлекитесь, пожалуйста, от Саши!
Они не обижались. Глядели на меня с глупой благодарностью, начинали что – то говорить, но голоса срывались, путались, замолкали на полуслове, потому что перед нашей дверью шаги замедлялись, а потом начинали стихать совсем, и проходила черная, полная страха, вечность, пока они наконец раздавались снова.
Инна опять исходила слезами, Ада липла к Саше, Саша путался и огрызался, а Эд молчал. Хмурился, глядел куда – то в стенку, и в глазах у него была темная, тугая злоба. Я знала, что он скоро сорвется. Может быть, даже раньше, чем Оно войдет. Потому, что все мы знали: Оно войдет.
Я попросила Эда заглянуть ко мне. Через силу: ведь это значило принести в мой живой оазис дневной страх, но было уже пора.
Лешка соорудил нам кофе, поставил пленочку поуютней и занял стратегический пункт на диване. Без единого слова.
Все молчали. Две – три обязательных фразы – и молчание, смягченное музыкой.
– Оно войдет, – сказал Эд.
– Думаю, что да.
– А мы так и будем играть в страусов? А, Зинаида Васильевна?
– А что мы, по – вашему, должны делать?
– Что угодно! Да мы что… на необитаемом острове? Законов, что ли нет?
– Есть, – ответила я спокойно. – Только они против нас. Пока имеется только одно место, где нас выслушают.
– В третьей психушке, – объяснил Лешка.
Эд тяжело поглядел на него и отодвинул чашку.
– Ну да. Так проще. Сидеть и ждать, пока Оно… пока нас…
– Что? Слопают, как Красную Шапочку? Да нет, Эд, не слопают. Незачем.
– Тогда зачем все это? Для чего?
Мой любимый вопрос. Сколько это раз я его себе задавала?
– Чепуха какая – то! В наше время, в нашей стране… и никакого выхода? Не верю!
– Почему? Выход есть. Уехать куда – нибудь и начать все сначала. Ну? Сможете? У вас маленький ребенок и невыплаченный кооператив, у Инны муж – дурак и свекровь – злодейка, а я уже старовата… с нуля. Буду искать другой выход… поудобней.
– Не выйдет, мам, – сказал Лешка с сожалением. – Ты у нас, конечно, железный мужик, только… ну, сама знаешь.
– Все по полочкам?
– Во – во. – Помолчал, взъерошил волосы так, что они косо упали на лоб. Знаешь, мам… Короче, есть мысля.
– Мысль, – поправила я машинально. – Выражайся по – человечески.
– Да ладно, мам! Я что? Эта штука… ну. Игра (так он это и сказал – с большой буквы), она ж так и задумана, чтобы без смысла. Гляди: чего вы так залетели? Все по закону!
В первый раз Эд посмотрел на Лешку с интересом, и теплая волна материнской гордости обняла меня. До чего же я все – таки счастливая, до чего везучая, что у меня _такой_ Лешка!
– На работу взяли, да? Хата есть, столы есть, денежки заплатят?
– Должны. А еще картошку не перебираем, улицы не метем, в колхоз, наверное, тоже не пошлют. А в самом деле, Эд, чего вам не хватает? Рай, а не работа. Отдачи не требуют, за дисциплиной не надзирают. Ну по коридору что – то бегает…
– Вот только не знаем, зачем это и что с нами завтра будет!
– Ну и что? Сколько угодно таких контор. Существуют неизвестно как, ничего не производя и всегда под угрозой закрытия. Там тоже никто не знает, зачем это и что с ним завтра будет.
– К чему вы ведете?
– Жаловаться хотите? А на что? В здании никого нет и по коридору кто – то ходит. Они же никаких законов не нарушают. Кому вы докажете, что над нами совершают насилие, что нас обрекли на пытку страхом? Для многих это просто идеальные условия. Только мечтать!
– Значит, помалкивать? Ждать, что будет?
– Нет! Искать выход. Смысл должен быть.
– Ма – ам! – сказал Лешка с укоризной. – Я ж про что? Нет смысла, понимаешь?
– Как это?
Он опять засунул пятерню в волосы в превратился в конопатого дикобраза.
– Пойми, мам… Оно, ну, эта штука… какое – то Оно вроде не наше… нечеловеческое.
Мы с Эдом так и уставились друг на друга. Я – обалдело, он – с кривоватой иронической усмешкой. А ведь есть в этом что – то. В слове «нечеловеческое».
– Значит, пришельцы? – ядовито спросил Эд. – Фантастика для младшего школьного возраста?
– А чо? Хоть какая – то гипотеза. А у вас что? Один Оккам? «Не умножай число сущностей», да? А что за сущность? Тоже фантастика. Взяли здоровенную домину, заперли пять дармоедов, еще и накрутили всякого, чтоб не рыпались.
– Лешка!
– Да ладно, мам! Я что? Картинка дубовая! Ну были б вы там еще гений на гении…
– Зинаида Васильевна, может, мы все – таки о деле поговорим?
– А мы о чем говорим? Именно о деле. Вот вам уже в гипотеза. Только знаешь, Леш, не тянет. Это как идея Бога: все объясняет, но недоказуемо. Слишком просто доказывать необъясненное необъяснимым.
– Не, мам, наоборот! Необъяснимое необъясненным!
– Я, пожалуй, пойду, Зинаида Васильевна. Не вижу смысла продолжать разговор.
– Только попробуйте! – рявкнула я свирепо. – Хорошо устроились! Спрятались у меня за спиной!
– Ну, знаете! Это несправедливо!
– А что справедливо? Сидеть и ждать, пока вас вытащат?
– Но эта чушь…
– Предложите другую! Вот завтра Оно войдет, что вы будете делать, а?
Эд глядел на меня, как на ненормальную. Наверно, так оно и есть. Зацепило меня это словечко; «нечеловеческое». Не то чтобы объяснило как – то определило нашу историю. Нет, я не Лешка. Знаю, какие глупости выкидывает жизнь. Бывает, только руками разведешь перед великолепно – нелепой – почти такой же нелепой, как наша – историей. И все – таки там есть своя логика: извращенная, вывернутая наизнанку логика головотяпства и эгоизма, логика, которая всегда определяется принципом «кому выгодно». То, что случилось с нами, не может быть выгодно никому.
– Мне продолжать, мам? – спросил Лешка.
– Давай.
– Тут что удобно? Если это… ну, раз они не люди, так нам объяснять не надо. Все равно, значит, не поймем, да?
– Ну и что?
– Ма – ам! Так тут же вопрос весь сразу и голенький: как будем выползать?
– Не понимая сути?
– Погодите, Зинаида Васильевна, – вдруг сказал Эд. – Пожалуй, это интересно. Игра в Черный ящик? Данных маловато.
– Навалом! Глядите: как они вас поймали?
– По объявлению.
– Кто – то искал вас, уговаривал?
Мы с Эдом переглянулись.
– Хорошо, – сказала я, – группа случайная. Это не новость, Леш. Всегда так думала.
– А выводы, мам?
– Ну, какие выводы? Очевидно, раз группа случайная, система должна иметь больший запас прочности. Я так думаю, что им с нами повезло. Из пятерых два с половиной штыка. Да и то…
– Погодите, – снова сказал Эд. – Значит, по – твоему, система защищена только изнутри?
Лешка нахально улыбнулся:
– А кто вам поверит?
– Не упрощай, Леш. Может найтись такой человек. Друг, муж, родственник. Должны были предусмотреть.
– Ну и что? – сказал Эд. – Не поможет. Это стереотип: в конфликте человека с учреждением право учреждение, а не человек. Пока оно заведомо не нарушит закон, все преимущества на его стороне. А если человека еще и мазнуть…
– Да. А мазнуть просто. Звонок, жалоба, анонимка. Все. «То ли он украл, то ли у него украли…»
– А закон? Зинаида Васильевна, ведь законы же для людей!
– Мы об этом уже говорили. _Они_ законов не нарушают.
– Слушай, мам, а это ведь интересно – насчет внешней защиты. Тут у них прокол, а?
– Какой?
– А что не всякого можно прижать. Только который отвечает.
– Лешка! – испуганно сказала я. – Думать не смей!
– О чем? – спросил Эд. – Извините, не понял.
– А кого можно придавить на арапа? Кто отвечает, понятно? Ну, взрослого. А с меня что взять? Писульку в школу? А я хай: не было меня там. Мы с Витькой Амбалом геомешу решали. Ать – два – и класснушка сама запрыгает: это ж на школе недоработка, ей же самой надо, чтоб не было. Это ж не я отвечаю – она отвечает. Контора на контору, да?
– Лешка, ты мне только посмей!
– Ма – ам! Ну я что? Теория. В общем, значит.
– Знаю, какая теория! Ты что надумал?
– Мам, ну ты чего? Все по делу. Я ж не один. Возьму Гаврю с Амбалом. Я, может, ключ потерял. Ну, мам? Я же, господи упаси, некормленный останусь!
– Лешка, не дури! А Оно? Подумал, что может быть?
– Ничего не будет, – сказал Эд. – Зачем им трогать мальчика?
– А зачем им было нас трогать?
– Мам, ну так классно! Зацепка. Я не зря Гаврю, он же у нас сыщик, чокнулся на этом. Помнишь, я тебе говорил: на практике?
– А если беда? Стыдно тебе не будет?
– Не – а, – спокойно ответил Лешка. – Во – первых, я сам с ними буду, а во – вторых, он мне за такое по гроб жизни будет благодарен.
– Я запрещаю… – начала было я, но Лешка не дал мне кончить. Сдвинул брови, сощурился знакомо (слава Богу, больше ничего в нем нет от отца!) и сказал, сухо отрубая слова:
– А тебе, мам, стыдно не будет? У тебя их четверо, между прочим. Ты знаешь, что делать?
И мне пришлось замолчать, потому что я не знала. И все – таки, когда Эд ушел, я почти со слезами вымолила у Лешки обещание не начинать… пока.
А назавтра Оно вошло.
Все как обычно: грохот шагов в напрягшейся тишине, тоскливая пустота, когда Оно остановилось – и вдруг оглушительно тихий скрип отворяющейся двери.
Мы вскочили. Слитным движением мы оказались на ногах лицом к ужасу. Шаги уже промерили первую из комнат, и Оно неотвратимо впечаталось в дверной проем.
Вскрик? Просто невыносимо громкий тихий вздох за спиной. Я глядела на Это.
Темная зыбкая тень – сгусток ночного страха, реализовавшийся кошмар, уставивший на нас мертвые бельма.
Я не знаю, как я смогла. Нет, знаю. Потому, что не позволила Лешке.
– Вы ко мне? – резко спросила я. – В чем дело? Слушаю.
Оно словно заколебалось. Уперло в меня слепые глаза, помедлило нескончаемое мгновение, повернулось и ушло.
Сзади вскрикнула, захохотала, завыла в истерике Инна. Кто – то кинулся к ней. Я не шевельнулась. Бессмысленно глядела в опустевший проем, и страх куда сильней пережитого – корежил душу. Лешка, Лешенька, солнышко ты мое, мальчик ты мой. Я ж разрешу тебе. Как же я теперь не разрешу?
Бояться я скоро разучилась. Был один, только один страх, а все остальное…
Оно пришло и на следующий день. Приходило и уходило, а потом перестало уходить. Я уже не боялась. Было только раздражение, какая – то бессмысленная тупая злоба. Оно мне мешало. Оно меня тяготило. Я делалась невменяемой, когда Оно вваливалось и становилось перед моим столом.
Я даже кричать стала – особенно на Инну. Я орала на нее злобно и безобразно, однажды я даже отхлестала ее по щекам, когда началась очередная истерика, и теперь она боялась меня больше, чем Это. Сидела, сжавшись в комок, и даже слезы высыхали на ее щеках, когда она встречала мой бешеный взгляд. Я ненавидела себя, но их я ненавидела еще больше. Мой Леша, мой маленький мальчик рискует из – за них, а эти даже в руках себя держать не желают!
Несправедливо, конечно. Совсем неплохо они держались, а Эд был просто молодец. Он как – то встал между мной и остальными, как иногда становился перед Инниным столом, чтобы она не видела Это. Ну и что? Себе я все простила. Мне было хуже. Эта тварь прилипла ко мне, таскалась следом, торчала у стола, неотрывно пяля на меня свои бельма.
И все – таки я выдерживала линию. Не замечала, а если приходилось заметить, разговаривала властно и раздраженно, как с назойливым просителем. Раз даже дошла до такого нахальства, что сунула в черные лапы груду папок и велела отнести в другую комнату. Оно отнесло.
Лешка ржал, когда я об этом рассказывала. Прямо по дивану катался.
– Ну, ты даешь, мать! И отнесло?
Отнесло. А потом вернулось и положило лапу мне на плечо. Я чуть не упала. Словно камень на букашку – хоть кричи. Я и закричала – первую глупость, что пришла на язык:
– Что вы себе позволяете?! Я на вас жалобу напишу!
И Оно меня отпустило.
Этого я Лешке не сказала. Пустяки это были, потому что ребята уже наведались к нашей тюрьме. Наткнулись на запертую дверь, и Лешка «перепугался», принялся стучать, заглядывать в окна, названивать из автомата то домой, то по моему рабочему телефону. И, конечно, завтра же директору позвонили из «комиссии по делам несовершеннолетних» дабы сообщить о хулиганском поведении Кононова Алексея со товарищами.
Все по сценарию.
И по сценарию вызванные на ковер мушкетеры, играя всеми красками оскорбленной невинности, клялись, что в это самое время они дружно готовились к сочинению у нас дома.
И требовали, чтобы им сказали, откуда звонок – они сами пойдут выяснять.
И заставили позвонить.
И оказалось, что оттуда в школу никто ничего не сообщал.
А назавтра они снова явились к запертой двери.
Мне тоже позвонили. Тот самый приторный тип предупредил меня, что если мой сын не успокоится, с ним может что – нибудь случиться.
– Только попробуйте! – крикнула я. – Да я на вас… я до Верховного прокурора дойду!
А потом опять всю ночь проревела и опять ничего не сказала Лешке. Нельзя было уже отступить, совсем нельзя, потому что вчера Оно подобралось ко мне сзади и положило лапу на затылок.
Сначала холод… боль, какая – то ледяная пульсирующая боль… потом… Нет, не могу! Словно меня разорвало пополам и одна половина… бред? Что – то такое чужое, что слов не подберешь. Больше боли, страшней страха. Клубилось, корчилось, выворачивало душу, гасило мысли. Сломать оно меня хотело, всю захватить, целиком… чтобы я Лешку предала! И я вывернулась. Повернулась и зашипела, как разъяренная кошка:
– Вон!
И Оно отошло.
А страх остался. Если они меня сломают… Лешка!
А снаружи все было почти смешно. Какая – то мелкая склочная возня. Звонки в школу, и звонки на школу, звонки родителям и звонки на родителей.
Почти смешно, но Витька Амбал, который с пятого класса сдувал у Лешки все задачи и глядел ему в рот, как – то вдруг исчез из нашей жизни. А Гавря, Вовка Гаврилов, наоборот, торчал у нас по вечерам, глядел на меня проницательными серыми глазами майора Пронина и задавал каверзные вопросы.
Смешно, но корчась днем от ночного страха, а ночью – от дневного, я отгоняла и все не могла отогнать проклятую картину: дверь открывается и черные лапы втаскивают Лешку в дом.
Я просила, умоляла его больше туда не ходить, но он только улыбался в ответ. Он был прав. Я знала, что он прав. Игра продолжалась и правила ее уже определились. Черный ящик надо дразнить, чтобы он отвечал. То самое, нечеловеческое, такое бессмысленное с любой точки зрения. До всякого бы уже дошло, что подростки сами по себе не опасны, что они ничего не смогут сделать, а Черный ящик не понимал. За каждым воздействием следовала механически жесткая реакция и случилось то, на что рассчитывал мой гениальный сын: на нашей стороне в Игру вступила Школа.
Давно навязшее на зубах, обруганное и здравствующее: школа не любит _отвечать_. Чтобы она согласилась ответить за проступок ученика, надо привести неопровержимые доказательства, припереть ее к стенке, иначе она вывернется и спрячет концы, оберегая честь мундира.
Так оно и вышло. Одолеваемая звонками, жалобами, смутными угрозами и явными комиссиями, школа кинулась в атаку и в боевом угаре все, с чего началось, да в сам Лешка как – то отошли на задний план.
Принципиальное различие между отношением учреждения к внутреннему непорядку и к внешней угрозе. Уже не только честь мундира, но здоровая реакция коллектива на давление извне.
На звонки теперь отвечали жалобами, на угрозы – письмами в _инстанции_, на комиссии – апелляциями к общественному мнению. В этой Игре у школы было свое преимущество – бумаги. Ливень бумаг, каждую из которых надлежало подшить, рассмотреть и отреагировать – то, чего не мог себе позволить Черный ящик. Всякая бумага – это след, вещественное доказательство, невозможное для такой невещественной штуки, как он.
Шум разрастался, все больше людей втягивалось в бюрократический турнир, все больше страстей и амбиций пенилось вокруг, и вот (не без Лешки, конечно) вынырнула ниточка, которая привела к таинственному УСИПКТ.
И настал день, когда тишина мертвого дома взорвалась рабочим шумом и треском машинок. К нам явилась комиссия. И тогда, прорвавшись сквозь все заслоны, мы вломились в директорский кабинет и в присутствии гостей выложили на стол пять заявлений об уходе.
И это было все. Мы победили. Правда, были еще последние дни. Не хочу и не могу вспоминать. Если бы я драться решила, до конца с ними воевать, вот тогда бы я это вспоминала. Вертела бы в памяти каждый день и каждый час, заряжаясь ненавистью. Она и сейчас во мне, эта ненависть – так и выплескивается наружу, только позволь… Не позволяю… Я решила забыть. Ради Лешки. Ради себя.
Сколько уже прошло? Год? Нет, больше. Лешка у меня теперь студент шуточки! Он на мехмате, а его неразлучный Мегрэ – Гаврилов, само собой, на юрфаке. И все устроилось. Я своей новой работой в общем – то довольна. Не знаю, где теперь Инна, а если б и знала, все равно не стала бы ей звонить. Я и Эду не звоню, хоть знаю, где он, а он иногда звонит мне. Саша с Адой поженились и уехали. Не знаю, куда. Клялись писать, но так и не получила ни строчки. Тем лучше. Забывать – так забывать.
Забыть? Мне позвонили. Тот самый липкий голос:
– Зинаида Васильевна? Узнаете?
Я не ответила, и тогда он сказал:
– Зинаида Васильевна, я ведь уже предупреждал. Смотрите, если с вашим сыном что – то случиться…
– Тогда я этим займусь! У меня даже лучше выйдет! Обещаю!
Швырнула трубку и разрыдалась. Опять этот ужас меня нашел! Опять!
Лешенька, сыночек, прости меня, дуру! Зачем я тебя так плохо воспитала? Почему не научила равнодушию? Лешенька, ведь для нас все кончилось… зачем же? Может, теперь другие… но это ведь другие – не ты! Господи, но я же тебе такое не могу сказать! Ты же мне не простишь! Лешенька, как тебя спасать?
А потом я сидела одна, и тягостный зимний вечер Глядел в окно. Так вот отчего он стал поздно приходить. А я – то думала… Почему он мне не сказал? Жалеет? А может, не верит уже?
Вот и все. И не убежать. Значит, Игра продолжается? Другие… Наверно, им еще хуже. Все – таки я смогла… и Лешка. А мне их все равно не жаль. Только себя. Лешенька, я же давно не могу, чтобы чужая беда, как своя… прости. Но это ведь не всегда так было… жизнь… Сначала только щелчки: не высовывайся. Потом уже тумаки: знай свое место. И всегда одна. Пока обсуждаем – крик, а дойдет до дела – всегда одна. И сразу все против: зачем полезла? Да, образумилась… когда с Лешкой осталась… было что терять. Лишняя десятка… она ведь не лишняя, когда больше никого. Другие могли себе позволить – и молчали, а мне тогда зачем лезть на рожон?
Так просто? Да нет, не так. И не просто. Эта бессловесность – откуда она в нас? Колхозы, стройки, овощные базы, уборка улиц – разве я хоть раз отказалась? Выщипывала одуванчики, переворачивала снег, чтобы был белым, а не черным – взрослый человек, мать почти взрослого сына – разве мне хоть раз пришло в голову отказаться? Что меня, расстреляли бы? И ведь не одна. Все так. Почему нас, взрослых, совсем не слабых, пришлось спасать мальчишке? Ведь теперь гляжу: полно было всяких вариантов без Лешки. А я струсила. Испугалась борьбы. Почему?
Цена? Неприятности, унижения… жизнь себе сломать? Ну и что? Вдвое бы заплатила, только бы не Лешка.
Стыдно? Стыдно воевать, стыдно добиваться, стыдно бороться, даже если прав. Сразу: склочник, интриган… плохой человек. Сразу все против тебя… даже те, кто с тобой согласен. Нет. Я бы и на стыд наплевала ради Лешки.
Господи, да что же это с нами такое сделали? Что мы сами с собой сделали, что ничего не можем?
Темно. И за окном и на душе. А Лешки все нет. Они не посмеют! Ни за что не посмеют… пока. Он придет. Что я ему скажу?
КОЛОДЕЦ
Повесть
…И пошел из Колодца черный дым, и встал из Колодца
черный змей. Дохнул – и пал на землю черен туман, и
затмилось красное солнышко… И полез тогда Эно в Колодец.
Спускался он три дня и три ночи до самой до подземной
страны, где солнце не светит, ветер не веет…
И что он мне дался, Колодец этот? Дырка черная да вода далеко внизу. Может, он вовсе и не тот Колодец, не взаправдашний? А коль не тот, чего его все боятся? Чего мне бабка еще малым стращала: не будешь, мол, слушаться, быть тебе в Колодце? А спрошу про него – еще хуже запричитает:
– Ой, горе ты мое, пустыня тебя не взяла, где ж мне, старой, тебя оберечь – образумить, быть тебе в Колодце!
Она мне неродная, бабка – то. Мать – отец мои пришлые были, поболели – поболели да и померли. Они через пустыню шли, а кто через пустыню пройдет, все помирают. А я ничего, выжил, бабка меня и взяла. Добрая она у меня, только совсем старая стала, почти что не ходит.
Пришлый я, вот беда. Дружки – то мои – все мужики давно, Фалхи уже и женат, а я не расту. Да нет, расту помалу, только что они за год, то я за три. А бабка успокаивает:
– Не ты, – говорит, – дитятко, урод, а они уроды. В молодые мои года, – говорит, – все так росли. Я, – говорит, – внуков – правнуков пережила, и тебе, видно, три их жизни жить.
Ой, правду говорят, она, моя бабуленька, мудреная! Та – акое ей ведомо! Только вот не сказывает она мне, отвечать не хочет.
– Мал ты, – говорит, – душу надломишь.
А коль мал, так что, знать не хочется? Вот, к примеру, чего у Фалхи по семь пальцев на руке, а у Юки по четыре? А у Самра и вовсе один глаз, и тот во лбу? Или вот Колодец этот. Худая в нем вода, и людям, и скоту она вредная, а трава тут – как нигде. Жарынь, кругом все повыгорело, а она как политая. До меня – то у Колодца никто не пас, сам сперва боялся. Только прошлый год внизу траву пуще нынешнего пожгло, я на авров своих глядеть не мог, так отощали. Ну и насмелился. На деревне – то не сказал, сами по приплоду узнали: двухголовых много народилось. Побурчали, а не запретили, только еще пуще косятся. А мне вот Колодец этот на душу пал и тянет, и тянет. Не пойму про него никак.
Взять хоть Великанью пустошь. Развалины там, всякое про них говорят… днем – то я в такое не верю… А вот при мне уж отец Юки пошел в Верхнюю деревню шкуры на соль менять, да приблудил в тумане, как – то его к самым развалинам вывело. Он и был там всего – ничего, увидел – и бегом, а все в ту же ночь помер.
Или вот Ведьмина купель или Задорожье. У нас таких лютых мест не перечесть. То ли убьют там, то ли покалечат – а люди ведь их не боятся. Ну остерегаются сколько могут, а вот чтоб как про Колодец… чтоб даже говорить не смели…
А что в нем, Колодце этом? Дырка черная да вода далеко внизу…
…Ох, не миновать мне нынче в Колодец лезть! Схоронил я бабку – то. Третий день, как схоронил. Ух, так – то мне без нее худо!
Воротился, скот раздал, подхожу, а она у двери без памяти лежит. Я и сам со страху обеспамятел, еле – еле ее к лежанке доволок. За знахарем хотел бежать, а она тут глаза и открыла.
– Ой, – говорит, – Ули, воротился! А я – то дождаться не чаяла! – И в слезы: – Деточка моя неразумная, на кого ж я тебя оставлю!
А сама еле говорит. Ну и я заревел, а она маячит – нагнись, мол. Уставилась мне в глаза, а глаза у нее… ни у кого на деревне таких нет… черные – черные, глядеть страшно.
– Ты, – шепчет, – в Колодец заглядывал?
Сроду я ей не врал и тут не сумел. Встрепенулась она вся, задрожала.
– Нельзя это, – говорит, – Ули! Хуже смерти это, – говорит, ползучие… – И замолчала. Гляжу – а она не дышит. Схоронил ее, обряды все справили, сижу в дому, как положено, чтоб духу ее печально не было – и так мне тошно, так маятно!
И постель ее, и горшки ее, и метелка, как она в угол поставила, стоит. Ровно войдет сейчас и погудку свою заведет: «Горе, мол, ты мое, злосчастье…» А всего тошней, что за два – то дня так ко мне никто и не заглянул. Ну ладно, я им не свой, даром, что тут вырос, а от нее – то они одно добро видели! Что же это: не вспомянуть, не проститься, слова доброго напоследок не молвить? Как же мне жить – то средь них после того? А только куда денешься? В Верхнюю деревню? Тоже чужой… а люди там страшные… весной Уфтову дочку сватать приходили, так дети от них прятались. Жених будто приглядней других, да и у того носа нет: рот, как у жабы, а сверху две дырки. Через пустыню? Раз пожалела, может, и другой пропустит? Ну да! В два дня спечет меня солнышко – колодцев – то не знаю! А и приду, тоже, небось, чужой, что радости? А Колодец… может и оно беда… как знать? Не такой ведь я… вон из Верхней деревни бабы в Ведьминой купели моются, а наши – только подойди!
…Полдень был, как я к Колодцу пришел. Я это нарочно попозже вышел, когда народ на улице. Так себе и загадал: если хоть кто остановит, слово молвит, ну, хоть глянет по – доброму, не пойду к Колодцу, еще попробую средь людей пожить. И не глянул никто! Одна бабка покосилась, да и та со злом. Ну и живите себе, как глянется, коль так! Уж лучше вовсе не жить, чем с вами! И такая тут обида меня разобрала, что и не приметил, как к Колодцу пришагал. Ну что, что я вам всем сделал? Кого обидел? Пять годков скот ваш пас – холил, хоть бы одна аврушка у меня пала! Уж за это бы пожалели!








