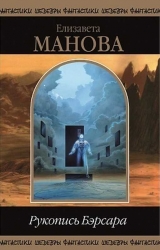
Текст книги "Рукопись Бэрсара. Сборник (СИ)"
Автор книги: Елизавета Манова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц)
Сел я на сырую траву у Колодца и всплакнул напоследок. Так уж не хотелось от светлого солнышка в пасть черную лезть! Ну вот было бы, куда идти, хоть какая бы надежда была, ни за что бы не полез. Ну, раз нет, так нет. Утерся я, клинышек вбил в закраину, веревку закрепил, ноги через край перекинул – и таким меня холодом обдало – чуть наутек не кинулся. Только куда ж бежать? К кому? И полез я вниз.
А страшно – то как! Колодец, он внутри весь каменный, а камень будто литой, без трещинки единой. А небушко – то вверх уходит, маленькое стало, круглое, синее – пресинее, ровно чем дальше, тем краше. А стены вовсе почернели, гладкие, соскользни – не удержишься, в черную воду полетишь, а она, вода, все ближе, страшная вода, злая, накроет – не выпустит. И тут не увидел, почуял я – дыра в стенке обозначилась. Невелика дыра, только пролезть. Вот вишу я, на веревке качаюсь: сверху небушко родимое, вся жизнь моя нерадостная, под ногами вода злая, а рядом дыра эта, а там то, что смерти страшней, от чего бабка меня остерегала. И вперед нет ходу, и возврату нет, и руки онемели, еле держусь.
Вздохнул я и полез в дыру.
Сперва узко было, только ползти, потом, чую, раздалось. Стал на колени, руками поводил – нет стен. Поднялся и тут только верх нащупал, еле – еле рука достала. А темень непроглядная и ветерок теплый вроде навстречу тянет.
Ну, тут я не то что осмелел – просто надо – так надо! – вынул из сумки гнилушечку – я их загодя в лесу набрал – и дальше пошел. Свет малый, а все не так страшно, и ход обозначился. Ход круглый, раскинутыми руками в обе стороны еле достать, а пол ровный, и идти легко. И стены, как в Колодце, – из цельного камня, гладкие – гладкие.
Шел – шел, уже и притомился, и тут, чую, худо мне. Сперва мурашки по спине пошли, а потом и вовсе уши позакладывало, ровно я в омут нырнул. Обернулся – и ноги к земле приросли.
Тянется что – то из темноты, длинное такое, страшное. Я со страху двинуться не могу, а оно все ближе, быстро так, тихо, – прямо сон худой! Серое такое, безголовое, сверху блестит, а впереди два крюка огромадных торчат. Подбежало – а я ни рукой, ни ногой! – и подниматься стало. Растет надо мной и растет, крюками в потолок вцепилось; брюхо белесое, мятое и ноги обозначились. Много ног – конца ему нет. И тут из брюха, из складки какой – то, вдруг рука вылезла. Ну, не совсем рука, а так, вроде, – не до того мне было, потому как вижу: блестит в ней что – то. И сам уж не знаю с чего, а только понял я, что это конец мне пришел. Подкосились у меня ноги, как стоял так и сел, и глаза со страху закрыл. Сижу и даже как – то не очень страшно, просто жду, когда оно меня убивать станет. Вдруг чую: схватило меня что – то холодное за плечи, вверх потянуло. Открыл глаза, а это оно меня поднимает. Ну встал. Ноги не держат, трясет всего, а молчу. «Что кричать? – думаю. – Сам полез, сам и получай».
Тут оно меня дернуло, на спину закинуло и дальше понеслось. А я ни обрадоваться не успел, ни испугаться. Накрыло меня черным, а как опамятовался, то лежал я на камне, и никого вокруг меня не было.
Лежу, шелохнуться боюсь, сердце в горле мотается. «Хоть бы не вернулось, – думаю, а сам знаю: воротится, не зря оно меня сюда приволокло. И вот диво: боюсь, а хочу, чтоб воротилось! Нет, – думаю, тогда оно меня помиловало, и теперь не обидит!»
С тем и заснул, а проснулся оттого, что уши заболели. Тьма – глаз выколи, ничего не слыхать, а чую – рядом оно. И опять до того мне страшно стало, даже про ножик я свой вспомнил, что в сумке. Ну, тут застыдился, даже страх малость прошел – как так: с ножом на живое? Я и от стада – то одним голосом зверей отгонял, есть у меня такой дар, что живое меня слушается. Я через то и в пастухи пошел.
Пошарил по себе, сумку нашел – на месте она, родимая. И гнилушечки мои тут – как сумку открыл, так и засветились. Вынул одну, огляделся. Стен не видать, крыши тоже, а знать, невысоко она, потому как чудище торчком стоит – за верх цепляется. Стоит и глядит на меня, глаз у него нет, а глядит. Ну до того тошно! Будь глаза, я бы хоть что – то понял, а тут никак не угадаешь чего ему от меня надо! И еще почудилось мне, что другое оно, не то, что меня сюда притащило. Вроде и такое же, а другое.
Тут я и стал ему говорить, в голос, чтоб себя слышать – так у меня лучше выходит, – какое оно большое, а я, мол, маленький, несмышленый. Что в Колодец я заради интересу залез, только чтоб глянуть. А коль нельзя, то пусть не гневаются, не знал ведь я.
Говорю и чую: не слышит оно меня. Ну хуже деревенских – голоса и то и не слышит! И хоть бы само что молвило – стоит и глядит!
Постояло так, опустилось и пропало, только брякнуло за ним. Заперли! Ну что делать?
Встал и давай осматриваться. Домок – то ни мал, ни велик: шагов десять в длину, семь в ширину, вроде как яйцо. Стены все в штуках каких – то чудных: кои блестят, кои черные, а кои навроде камушков прозрачных, что в Ленивом ручье попадаются. Хотел тронуть, да не насмелился: еще прогневаю их. Верх и впрямь невысок – на цыпочки встать, так дотянешься, и дырчатый весь. Это – чтоб крюками за него цепляться сподручней. И ни дверцы, ни окошечка, ни просвета малого, а дышать легко, только дух какой – то чужой, жуткий.
И от духу того, от теми навалилась тут на меня горькая тоска. Что ж оно: хоть бы слово молвило, хоть бы знак какой сделало! Хоть худое слово бы, а то поглядело и ушло, и дверь за собой затворило! Неужто мне теперь солнышка не видеть, век во тьме вековать? А там, на воле, травы пахнут, птички поют, облака по небу тянутся. А аврушек моих ласковых небось Втил пасет одноухий. Не накормит он их толком, не напоит, со сладкой травы на соленую не погонит, потому как глухой он, как все деревенские. А домик – то наш пустой стоит, и огород бабкин не полит. Ой бабушка моя родная, бабулечка моя, да зачем ты меня бросила? Худо ль нам было вдвоем: жили – поживали, на долю не плакались! Ой да я б тебя, бабуленька, на руках носил, от ветра ли, от дождичка прятал бы, слова поперек не молвил бы, только не оставляла б ты меня одного – одинешенького! Гонят нынче все меня, обижают, никто на свете мне не рад! Одна ты у меня была, да и то бросила, отворотилася. Ой не видать мне теперь солнышка светлого, по травушке не ходить! Помирать мне теперь в темнице каменной!
Наревелся, аж голова разболелась, а вроде полегчало. Да и то, вспомнил я, как бабка упреждала. Коль знают наверху про ползучих, знать выбрался кто – то отсюда, рассказал. Он сумел, так может и я сумею? Тут мне и есть захотелось. Пара лепешек у меня была, сам испек на дорогу, ну, отломил кусочек, воды из фляжки глотнул – и навалился на меня вдруг тяжкий сон. Сам уж не знаю с чего, только спал я потом беспробудно, может, день, а может, и два. Это я потому знаю, что как проснулся, лепешки – то мои закаменели, а вода припахивать стала. И еще мерещилось мне сквозь сон, что трогают меня, тормошат, но только шевельнусь – крепче прежнего засыпаю.
Ну, а дальше и вспомнить нечего: ни дня, ни ночи, ни свету, ни радости. Я уж и чудищу – то, как родному, радовался: встанет торчком и молчит, а все не один. Я его помалу и понимать начал. Ну, не так, как зверье, а все – таки получше, чем людей. Я ведь как зверя понять хочу, поверить должен, что я такой, как он. И шерсть на мне такая, и лапы такие, и хвост такой. Вот и теперь, торчит оно рядом, а я глаза закрою и думаю себе: «Вот я, по правде, какой. Длинный, серый весь, и спина у меня костяная, и глаз у меня нет, и руки я в себе прячу». И вот доходит до меня мало – помалу, как это свету сроду не видеть, и не ведать, что оно такое. И еще чую: есть у меня заместо глаз что – то невидимое, что впереди летит. Наткнется на стенку – воротится, – я эту стенку и увижу. И себя ровно вижу со стороны, какой я нескладный, несуразный, весь торчком. И руки у меня две, и ног маловато, и наверху все время что – то шевелится.
Ладно, коль так, стал я ему знаками показывать. Как раз у меня вода кончилась – я уж и так тянул, по самой малости пил, а оно чем меньше пьешь, тем больше думаешь. А кончилась – и вовсе невмоготу: грудь печет, губы трескаются, а в голове одна вода. Только и слышно, как плещет.
Я уж и так, и так: и фляжку покажу, и рот раскрою. Чего только не изображал, а потом лег и не шевелюсь, потому как мочи нет. Ну, оно то ли поняло, а может, само догадалось, только чую – тормошит. Руку протянул, а там посудина с водой.
Ну, тут я ободрился малость. «Чего горевать? – думаю. – Может, поймет оно меня, выпустит на волю – то. Ничего уж больше мне не надобно, мне б на солнышко только глянуть, а там хоть помирай». А потом и сам вижу: неладно со мной. Вовсе слабый стал, лежу и лежу, головы не поднять. Оно уж мне и еду стало таскать – невесть что, а так даже не очень противно. Ни еды не хочу, ни питья, ни разговору. Даже на волю больше не хочу.
Уж не знаю, сколько так было – там, внизу, времени нет: темь да тоска, тоска да темь – только раз открываю глаза – и вижу. Глазами вижу. Гнилушечки – то мои они давно прибрали, я только на ощупь и шарился. А тут вдруг светло. Не так, чтоб сильный свет – еле – еле теплится, а мне с темноты и он краше солнышка показался. Гляжу и наглядеться не могу – та же клетка постылая, камень да бляшки эти – а все перемена. Сижу и гляжу, а тут и оно пришло. Ой, матушка! Впервой я его толком разглядел, прямо оторопь меня взяла. Еще страшней, чем в первый – то раз оно мне глянулось!
Встало оно, крюками уцепилось, уставилось на меня тем, что у него заместо глаз, брюхо свое морщинистое выставило – глаза б на него не глядели! Прямо совестно: оно для меня старалось – легко ли ему было про свет додуматься? – а у меня от него с души воротит. А ведь я чай для него не краше!
«Нет, – думаю, – какое ты ни есть, а я тебя полюблю. Как аврушек милых, как кота рыжего, что с рук моих ел, как все зверье, что без страху ко мне ходило. Вот возьму и полюблю себе назло, и никуда ты от меня не денешься!»
И как решил, тут вся немочь с меня и сошла, пить – есть стал, по дому ходить, даже петь потихоньку стал, чтобы себя развеселить. И все думаю про него, думаю. Что вот не знало оно меня, не ведало, увидало чудище такое и не испугалось, не отворотилося. Что вот кормит – поит и заботится, как умеет. Не то, что деревенские! Ну и прочее такое, все хорошее, что в голову придет. И крюки – то у него вовсе не страшные только чтоб держаться, красивые даже, гладенькие такие. А на спине пластины костяные – это чтоб сверху на пришибло, под землей чай ходит. А что глаз нет, так зачем ему глаза в темноте – то?
И вот чую: на лад дело идет, я уж скучать стал, как его долго нет. Пусто мне без него, маятно. И угадывать стал, как ему прийти. Оно еще когда явится, а я уж знаю, радуюсь. И оно мало – помалу приручается. Само еще не поймет, а ко мне тянется. Вот как станет мне худо, как позову его так и прибежит. Стоит и глядит, само не знает, чего пришло, а мне и любо. Только одно болит: не разумеет оно меня покуда. Тянется ко мне, а меня не разумеет. А ведь мне до того надо, чтоб хоть кто – то меня понял! Прежде – то оно само выходило, что и бабка все про меня знает, а то просто за деревню уйди – в лес, в поле ли, кликни – и прибежит кто – то живой, ответит. А тут одно оно у меня – а не разумеет!
И еще по – другому мне как – то думаться стало. Впервой вот так – то подумалось: чего это оно, такое чужое, мне отозвалось, а свои, деревенские, знать меня не хотели? Вроде и люди незлые, за что ж они меня невзлюбили? А может, я сам виноват? Сам от них за обидой схоронился? Ведь полюби я кого, ну хоть как чудовище это, разве б он не откликнулся? Ведь знал же про зверей, что коль душу на него не потратишь, на добро поскупишься, то и не ответит тебе никто, а от людей хотел, чтоб просто так меня, непохожего, любили! «Нет, – думаю, – коль выйду отсюда, по – другому стану жить. Людей, их больше, чем зверье, жалеть надо. Звери – то, они умные, все понимают, а люди – как слепые, тычутся, тычутся, и ни воли им, ни радости».
Долго оно так тянулось; как знать, чем бы и кончилось, да приключился мне тут великий страх. Помнится, я как раз поспать приладился, а тут шатнулась вдруг земля, полезла из – под меня. Я было на ноги – а встать не могу, наземь швыряет. У меня со страху и голос пропал, зову его, весь зову, и чую: бежит оно ко мне, да не поспеет – ой, не поспеет! – потому грохнуло уже, затрещало, заскрипело, лопнула посредине крыша, и пошла, пошла трещина коленями, вот – вот накроет. И свет мигнул и погас.
И тут разжалось у меня горло, завопил я что есть мочи: не звал уже, знал, что не поспеет, так, со страху орал.
И стало так, что у меня весь страх пропал. Услышало оно меня! Не как прежде, не изнутри, а по правде услышало! Даже остановилось от удивления, а потом еще пуще припустило. Влетает – а я к нему! Прижался меж крюками и реву, со страху прежнего реву и с радости.
Ну, после того все переменилось. Забрало оно меня к себе. Тоже мешок каменный, но попросторней. И, кроме бляшек тех, еще штуки разные стоят. Их там, домов – то подземных, штук пять, а мой – последний. Я это потом узнал, как выходить начал. Сперва – то оно меня еще запирало, да и темь была непроглядная. Погодя оно мне и свет сделало и говорить со мной стало. Пришло раз, а за ним штука такая сама ползет. Блестящая вся, ровно из самого дорогого железа. Боязно, конечно, да я сердце сдержал – знал, что не обидит.
И вдруг из этой штуки голос. Мертвый такой, скрипучий, и что говорит – неведомо, а у меня ноги так и подкосились. Сел где стоял – и рот открыть не могу. Ну, потом переломил себя, повторил, как сумел. Дело – то на лад и пошло. И как поняло оно, что меня Ули зовут, как услышал я свое имя… ну не рассказать! Ровно теплом душу опахнуло.
Учит оно меня своему языку, а я к тому способный, за всяким зверем так повторю, что не отличит. Тут – то потрудней, да охота больно велика. Мы уж стали помалу друг – друга понимать. Так, самое простое, потому как слова у нас разные… ну, про другие вещи. И вот чудо: говорим мы с ним, а оно ровно не верит. Верит и не верит, будто я камень какой. И еще я приметил: оно меня от других чудищ прячет. Как кто придет – сразу дверь мою на запор, еще и слушает, не сильно ли шевелюсь.
«Нет, – думаю, – бабка – то меня не зря упреждала. Видать, была промеж нас сдавна вражда, вот оно за меня боится».
А потом стало оно мне всякие свои вещи показывать. Инструменты хитрые принесло, что с ними делать показало и давай загадки загадывать. Вроде как есть у них такая штука, что камень ровно глину мокрую режет – так мне из камня того надо фигурок, какие оно велит, наделать. Сперва попроще: кубик там, шарик, потом похитрее: человечка или что оно там еще придумает. Ну, и другое всякое. Что ни раз, то трудней загадка.
К тому – то времени мне совестно как – то стало: оно да оно, – я его и стал Наставником звать – сперва про себя, потом в голос. Ничего, привыкло.
Сколько – то погодя я и насмелился спросить, кто они такие и почему под землей живут. Насмелился – и сам не рад, до того оно удивилось. Не потому, что спросил, а что мне это в голову пришло. Как обломилось у меня что от того удивленья! Понял я вдруг, что оно и сейчас меня за человека не считает. Ничего не стал говорить, отворотился и сижу. Я – то к нему со всей душой, а оно так, выходит? Слышу, зовет:
– Ули, Ули! – А я не гляжу. Неохота мне на него глядеть. Придвинулось оно, трогает меня рукой своей холодной и опять:
– Ули, Ули!
И чую: тревожно ему, маятно. И опять, жалостно так:
– Ули!
Ну, тут у меня злость прошла. Одно ведь оно у меня, как сердиться? Ткнулся лицом в белое его морщинистое брюхо, и стало нам обоим хорошо. Побыли так, а после за прежние дела взялись. Стал мне Наставник рассказывать о них помалу. Так, по капле, сколько за раз пойму. Что всегда они под землей жили, и вся глубь подземная в их воле. Всюду у них ходы – проходы и дома их подземные, и еще всякое такое, что я не пойму. Что народ они великий и могучий, и знать не ведали, что сверху могут разумные жить. Потому, по их выходит, что сверху жить никак нельзя. То жара сверху, то мороз, и еще что – то другое, от чего умирают вскорости. А колодцы, вроде нашего, – это чтобы дышать, и будто колодцев таких тьма – тьмущая.
Я ему и говорю:
– Отпустил бы ты меня, Наставник! Худо мне тут. Мне глазами надо глядеть, ушами слушать, средь живого жить.
Подумал он и отвечает погодя: «Понимаю, мол, что тебе здесь не очень хорошо, но ты должен остаться, Ули. Очень, мол, это важно и для вас, и для нас».
– А потом, – спрашиваю, – ты меня отпустишь?
– Да, – говорит, – когда мы сделаем это самое, очень важное дело.
Поплакал я после тихонько, а больше не просился, потому как почуял, что и впрямь надо. Потому что боль в нем была и страх, мне и самому чего – то страшно стало.
И опять пошло: всякий день что – то новое. Говорили мы уже почти вольно, бывало, конечно, что упремся – больно мы разные. Мне то помогало, что я его нутром понимал. Застрянем, бывало, Наставник объясняет, а я слов и не слушаю – ловлю, что он чувствует, что в себе видит – так и пойму. И все уже по – другому вижу. Про приборы знаю, что у меня в комнате стоят, для чего они. Знаю, какой можно трогать, а какой – нельзя, и что они показывают. То есть не показывают они вовсе, а говорят – так, как все подземные говорят: таким тонким – тонким голосом, что его моими ушами не услышишь. Это Наставник мне вместо большого устройства разговорного такую штуку сделал маленькую, чтоб ее на голове носить. Она – то их голос для меня слышным делает, а мой – для них. А что обмолвился, – так для них что видеть, что слышать. Просто эта моя штуковина так сделана, что я слышу, когда они говорят, а когда только смотрят – не слышу.
Я теперь по всей лаборатории хожу – так это место зовут. Наставник здесь теперь и живет, только я об этом не понял. Я ведь выспрашивал интересно мне, как они между собой, про семью там, про обычаи. А он и не понял, вот чудно! Так, выходит, что у них всяк сам по себе, никому до другого дела нет. Ну, Наставник мне, правда, сказал, что оно не совсем так: заболеешь или беда какая стрясется – прибегут. А если, мол, все хорошо, кому какое дело?
Я его и спрашиваю:
– А чего ты тогда меня от других прячешь? Коль уж никому дела нет?.. А он мне:
– Погоди, Ули. Это, – говорит, – вопрос трудный, я тебе на него сейчас не отвечу. Ты, – говорит, – мне просто поверь, что так для тебя лучше.
– Эх, – думаю опять, – права бабка была!
Наставнику ведь для меня пришлось свет по всей лаборатории делать. Я – то уже к темноте малость привык, и штука моя разговорная помогает: как что больше впереди – позвякивает, а вот мелочи – все одно не разбираю. И еще не могу, как они, в темноте мертвый камень от металла и от живого камня различать. Живой – то камень – он вовсе не живой, только что на ощупь мягок или пружинит. Они из него всю утварь мастерят, а как что не нужно, расплавят да нужное сделают.
Так у нас, вроде, все хорошо, а я опять чего – то похварывать стал. И не естся мне, и не спится, и на ум нечего не идет. Глаза закрыть – сразу будто трава шумит, ручей бормочет, птицы пересвистываются. А то вдруг почую, как хлебом пахнет. Так и обдаст сытым духом, ровно из печи его только вынимают. А там вдруг жильем обвеет, хлевом, словно во двор деревенский вхожу.
Наставник топчется кругом, суетится, а не поймет; и мне сказать совестно – пообещался, а слова сдержать невмочь. Ну, а потом вижу: вовсе мне худо – сказался. Призадумался он тут, припечалился. Мне и самому хоть плачь, а как быть, не знаю.
А он думал – думал и спрашивает, что если, мол, даст он мне наверху побывать, ворочусь ли я?
А я честно говорю:
– Не знаю. Вот сейчас думается: ворочусь, а как наверху мне сумеется – не скажу.
Подумал он еще, подумал (а я чую: ох, горько ему!) и говорит:
– Ули, в свое время я не отвечал на часть твоих вопросов, потому что считал преждевременным об этом говорить. Не думаю, что ты сможешь сейчас все понять, но все – таки давай попытаемся. Хотя бы причины, по которым я удерживаю тебя здесь.
Ты, мол, заметил, наверное, как трудно мне было признать тебя разумным существом. Это потому, что мы всегда считали себя единственной разумной расой. Под землей других разумных нет, в океане тоже, а поверхность планеты, мол, это место, где по существующим понятиям жить нельзя. Вы настолько на нас непохожи, что я и сам – де не пойму, как мы сумели объясниться. Но даже, приняв как факт, что ты разумен, я пока не смогу доказать этого своим соплеменникам.
– Сколько, – говорит, – я над этим не думал, так и не смог найти каких – либо исчерпывающих критериев, определяющих разумность или неразумность вида. Главная, – говорит, – наша беда – отсутствие опыта. В таком деле будет сколько умов – столько теорий, и тогда все пропало, потому что бездоказательная теория неуязвима. Есть, – говорит, – один способ доказать, что ты вполне разумен и заслуживаешь надлежащего отношения: развить тебя до уровня нашей цивилизации. Если ты сумеешь говорить с нашими учеными на их уровне и их языком, они не смогут отмахнуться от факта.
– А зачем мне это? – спрашиваю. – Мне, – говорю, – обидно было, когда ты меня за человека не считал, а на них мне вовсе плевать!
– Не торопись, Ули, – отвечает, – сейчас я дойду и до этого. Дело, говорит, – в том, что считая поверхность планеты необитаемой, мы уже четвертое поколение выбрасываем на нее то, что вредно и опасно для нас самих.
Он еще долго говорил, да я не все пронял. Ну, будто, когда они делают всякие вещи, выходит что – то вроде золы, и она отчего – то ядовитая. Или не зола? Ну, не знаю! Только и понял, что они это наверх кидают, а оно опасное: не только мрут от него, но и уроды родятся. Ну, тут меня уж за душу взяло! Младенчика вспомнил, безрукого, безногого, что первым у Фалхи народился, у того, из Верхней деревни, и так мне стало тошно, так муторно!
А он дальше гнет:
– Ты же, – мол, – понимаешь, Ули, что это дурно. Что если, – мол, – с этим не покончить, то все наверху может вымереть. Мы, – мол, – по всей планете живем, и всю ее отравляем. А если, – говорит, – я не докажу, что наверху разумные живут, никто меня не станет слушать. Или еще хуже: примутся судить и рядить, пока не окажется поздно. Все, – мол, – зависит только от тебя, Ули.
Сказал и молчит, ждет, что отвечу. А у меня горло зажало, душу печет – лег бы да завыл. И страшно, и противно, и всех жалко. Вот сам себя не пойму – жалко! Злиться бы на них, а злости нет. Вот не знал бы я их, за чудищ считал бы – а то ведь незлые они, просто… просто… слепые и все! И Наставника жаль, что ему теперь за их грех мучиться. И себя, что под землей вековать, а уж наших – то деревенских! Уж какие они ни есть, а как подумаю, что пропадать им… Я после сам дивился, чего мне в ум не пришло, что зачем это я их выручать должен? Это уж я потом думал, бывало, что сроду они мне слова доброго не сказали, не пригрели, не приветили – так чего ж я за них болею? А по – другому вроде и не могу. А тогда и не думал. Как само сказалось, что я за всех за них ответчик, на роду мне так написано.
Молчит он, ждет. Ну, вздохнул я тяжко – не сдержался.
– Ладно, – говорю, – ворочусь.
Шли мы, шли черными ходами, и вдруг как пахнет мне ветром в лицо! Не каменным духом, а водяным. Как я тут припустил! Слышу: звякает разговорник, а я не пойму; только как треснулся лбом, – опамятовался. Встал на карачки и ползу, и тут голова у меня из колодца как высунется!
И увидел я звезды. Сверху круглый такой кусочек неба, а на нем звезд горсточка, и до того они ясные, до того теплые, прямо душу греют. А внизу, на черной воде колодезной, – другой круг небесный, и еще краше там звезды, еще ласковей. То наверх гляжу, то вниз – и слезы глотаю. Не было еще у меня такого часа в жизни и, знать, не будет.
Ну, выбрался я наверх, на травке сырой у Колодца повалялся. Эх, нетронутая травка, нещипанная, никто, видать, сюда аврушек не гоняет, гложут они, мои горемычные, сухие былинки внизу!
Добрел по тропке памятной до самой деревни, а ночка темная, на деревне все спят, только скот по хлевам хрупает. Стоял, стоял, да насмелился, пробрался тихонько к своему дому.
А домик – то вовсе подался, ветхий стоит, скособочился, и крыша, ровно от дождей осенних, оплыла. А двор травой забило – не найдешь, где и огород был. По траве той и понял я, как долго я в темнице пробыл. За одно – то лето утоптанная земля так не порастет. Ой, бабуленька моя родненькая, сколько ж это я годков без тебя промаялся? А и видишь ли ты меня нынче, родимая? Ты ж скажи мне слово доброе, утешь меня! Посупротивничал я тебе, ослушался, через то и терплю долю горькую!
И как повеяло на меня лаской, ровно ее голос из ночи, из давнего, по душе потек:
– Ах ты деточка моя несмышленая! Почто плачешь, почто убиваешься? Я иль сказок тебе не сказывала? Помнишь, чай, где ни сила, ни ум не возьмут, там простота одолеет. Уж на то ты и сиротинушка, чтоб силу вражью одолеть – развеять, людей из лиха вызволить.
Поклонился я дому низенько, сорвал клок травы для памяти и пошел себе прочь.
Довеку мне ту ночь не забыть! Шел я по полю да по лесу, песни пел, со зверьем говорил, с птицами ночными перекрикивался. А как засерело небо к утру, простился со светом белым и вернулся к Наставнику.
И пошло оно как было: он учил, я учился, а ниточка промеж нас еще туже протянулась.
Игры – то мы бросили, за науки взялись. Одно плохо: никак я к их счету не привыкну. Вроде просто: «ничего, один», а я, как привык по пальцам считать, так и тянет: «два да три». Уж Наставник бьется со мной, бьется, а я – тупей гнилой колоды. Ничего, осилю. Голову разобью, а осилю. Куда мне теперь деться?
Одно хорошо: обучил меня Наставник с приборами работать. Оно, конечно, половины не понимаю, а все интересно. Особенно, если что руками делать. Он мне не может показать, как они друг другу передают, рисовать приходится, а оно ему тяжко – то вслепую. А я сам придумал: не рисовать, а резать на живом камне, пластик по – ихнему. Ихнему звуковому глазу бороздочки лучше видны. Я по рисунку его сам разговорчику моему приставку сделал, чтобы в микроскоп глядеть – он – то тоже звуковой. Как работает пока не знаю, а что с чем цеплять – запомнил. А про микроскоп – так это штука такая, чтобы невидимое видеть. Я как глянул, так обалдел: всюду зверюшки махонькие. Столько их, Наставник говорит, что каплю воды возьми и век считай, все не сосчитаешь. Он ведь, Наставник мой, тем и занят, что живое изучает. Оттого я к нему и попал, чтоб изучал он меня. Ну и изучил себе на лихо. Мы – то что дальше, то родней, а ему все печальней. Он – то по мне про верхних судит, а я помалкиваю. Знал, что другой, еще наверху знал, а теперь и умом понял. И то понял, что ничем – то они предо мной не виноваты. Я за столько – то дней, а то и годов подземных, еще и до взрослых лет не дошел, а дружки – то мои детские уж к старости небось подались. Когда им жить, когда по сторонам смотреть? Успей только детей поднять! И себя не виню, что их не любил – чего с несмышленыша взять? А только хорошо, что подземным я такой попался, непришитый, непривязанный. Да и дар мой… Видать от пустыни памятка. Мать – отца сгубила, а меня наградила – чем – то, да утешила. Нечего мне зря на судьбу роптать. Сколько ни тяжко тут, а наверху бы – еще горше: жил бы, как бабка, на отшибе один – одинешенек, без пользы да без радости. А так пораздумаешь: «Ну что ж, если самому от жизни радости нет, надо на других ее потратить, вот и будет мне утешение».
Чудное сегодня со мной случилось. Стоял рядом с Наставником – и застыдился вдруг. Рубашонка – то на мне давно сопрела, ходил в чем мать родила: все равно для глаза его звукового тряпки – как воздух. А тут застыдился. Попросил его одежду мне сделать.
Он, само – собой, удивился, спрашивает, зачем. Я ему и говорю, что там, мол, на земле, температура меняется: летом – зной, зимой – холод, вот мы и носим одежду, чтобы предохраниться, значит. И это, говорю, не только необходимость, но и обычай – мы, мол, так привыкли, что нам без одежки неловко.
А он послушал и говорит:
– Ты становишься взрослым, Ули!
Давний это у нас разговор: все я ему не мог объяснить, что малый я. Не того ради, чтоб меньше спрос, а чтоб не всякое лыко в строку. Что делать, раз он всех верхних по мне меряет?
У них – то все по – другому. И дети не так родятся и растут не так. Какие – то три стадии проходят, а как придут в такой вид, как Наставник, так уже взрослые.
А математику я все – таки осилил. Не всю – еще и начала не видать, не то что конца, – а уже получается. А с химией и посейчас никак. Что шаг то в стенку лбом.
Чудной у нас с Наставником разговор вышел. Приметил я вдруг: ус у меня пробивается. А там ведь, наверху, как ус пробился, так и засылай сватов. Кто до полной бороды не женится – считай, старый бобыль. Ну и полезло всякое в голову. Я и спрашиваю у Наставника, дети – то у него есть?
А он опять не поймет:
– Как, – говорит, – я могу это знать?
– А кто, – спрашиваю, – это еще знать может?
Он и рассказал, что они на второй личиночной стадии размножаются, когда еще ни ума, ни памяти. Отложат яйца и закуклятся, а за детьми разумные смотрят. Потому – то взрослыми они о том ничего не помнят, все дети для них свои. Так и живут: все родичи, все чужие. Я, так, честно, и понял, и не понял.
– Неужто, – говорю, – вы так никого и не любите? Неужто в вас такой надобности нет? Мы, – говорю, люди, – без любви – как без свету: нам, если не любить никого, так и жить не надо.
А он подумал и отвечает:
– Наверное, такая потребность все – таки существует, иначе бы я так к тебе не привязался. Видимо, на ранних стадиях нашей цивилизации подобные связи все же были, и какие – то атавистические механизмы сохранились.
– Скажи, – спрашиваю, – а неужто вы так друг другу безразличны, что никому и дела нет, где ты на столько лет затворился?
– И да, – отвечает, – Ули, и нет. Пока ты спишь, я бываю среди соплеменников. Для общения вполне достаточно.
Вот к чему я никак не привыкну – что они совсем не спят. Наставник мне, правда, говорил, что у них мозг по – другому устроен, ему такой смены ритмов не надо. Он у них как – то по кусочкам спит, весь не отключается.
Ладно, тут я ему и говорю:
– Наставник, а не пора нам о людях подумать? Время – то идет, а лучше нам чай не становится. Что я, не гожусь еще, чтоб твоим меня показать?
А он мне:
– Не спеши, Ули. Ты, – говорит, – уже сейчас многих заставишь задуматься, но нам нужны не сомнения, а полная уверенность. Нам, говорит, – со многим придется столкнуться, а твоя психика еще неустойчива. Помни, что чем полней будет наша победа, тем вероятнее благоприятное решение.








