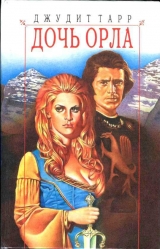
Текст книги "Дочь орла"
Автор книги: Джудит Тарр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
5
По-видимому, западные послы были вполне довольны заключенной сделкой. Едва ли они могли оспаривать красоту или происхождение Феофано, хотя Аспасия и слышала, как один пробормотал что-то насчет содержателя таверны. Аспасия решила, что германцы слишком уж волнуются за чистоту происхождения. Однако епископ, возглавлявший посольство, был итальянцем, и у него было достаточно здравого смысла, чтобы понять, как им повезло заполучить внучку содержателя таверны. В конце концов, с другой стороны она была дочерью императора.
Лиутпранда не было среди послов, когда император представил им Феофано. Аспасия, совсем не заметная в блеске Феофано, искала его, но его не было. Не могла она и поговорить ни с кем из послов. Как и Феофано, она находилась далеко от них, за рядом женщин и евнухов: можно было смотреть, восхищаться, но не прикасаться и не разговаривать. Это случится потом, когда переговоры завершатся и Феофано будет предоставлена заботам послов. Аспасия успокаивала себя, что отсутствие Лиутпранда ничего не значит. Он мог быть занят чем-то другим. Он мог, наконец, не выходить на улицу в такую погоду, отвратительную византийскую погоду, когда порывистый ветер из Скифии приносил сырость и дождь. Некоторые западные послы уже страдали жестоким насморком, а один, как заметила Аспасия, все время тер нос, чтобы не расчихаться. Наверное, старый умница предпочел остаться в тепле.
Но раньше он не пропускал аудиенций. Может быть, поссорился с епископом, главой посольства?
Аспасия решила отправить ему письмо. В конце концов, и он не прислал ей ни слова приветствия; а может быть, и послал, по-прежнему считая ее женой знатного горожанина, а письмо затерялось. Конечно, он хотел бы узнать, говорила она себе, что с ней и где она.
Но время, которое еще недавно тянулось бесконечно долго, вдруг оказалось невероятно быстрым. За несколько дней нужно было успеть сделать так много. Посольство, закончив переговоры, хотело отплыть сразу же, как только позволит погода. Сначала Аспасии было некогда написать письмо, потом некого с ним послать. Она была занята во дворце, готовясь к отъезду будущей королевы. Феофано собиралась взять с собой разную прислугу, горничных, охранников, правда, охранники будут только сопровождать ее, пока не передадут мужу, а потом вернутся в Город. И еще она хотела взять с собой Аспасию.
Феофано ни о чем ее не просила. Когда послы увидели ее и ее будущее было решено, она сказала:
– Возьми побольше теплых вещей в дорогу. Говорят, в Германии холодно, правда, может быть, не холоднее, чем здесь.
Аспасия оторвалась от того, что делала; потом она не могла вспомнить, что именно она делала.
– Почему ты думаешь, что я поеду с тобой?
– А почему ты думаешь, что ты не поедешь?
– Самодержец может не разрешить.
– А ты думала об этом, когда он видел нас вместе и понял, что нас нельзя разделить?
– Я думала о тебе, – ответила Аспасия, более резко, чем хотела.
– Значит, ты не хочешь ехать.
В больших темных глазах не было слез. Это был крупный недостаток Феофано как придворной дамы: она не умела плакать по желанию. Но Аспасия увидела боль в ее глазах.
– Ты хочешь остаться здесь, – сказала Феофано, – куда я уже никогда не смогу вернуться. Где сидит на троне убийца твоего мужа. Где по капризу этого убийцы тебя могут заживо похоронить в монастыре.
– Где я родилась, – поправила ее Аспасия. – Где я собираюсь пережить его священное величество.
– В одиночестве?
Аспасия вздрогнула, сердце ее похолодело.
– Может быть, я снова выйду замуж. Может быть, и это не понадобится. Царица позаботится обо мне.
– Кто же позаботится обо мне? – спросила Феофано.
Аспасия замерла.
– Это нечестно.
– Все равно. Я хочу, чтобы ты была со мной. Мы были вместе с самого моего детства. Клянусь, мое место здесь, и все же я отправляюсь в эту новую жизнь, пусть далеко, но там мой трон. Может быть, царица и любит тебя, в конце концов, она твоя сестра. А если она умрет или будет отвергнута? Что тогда, Аспасия? Да, я еду в страну варваров, но я тебя не покину. – Феофано взяла руки Аспасии в свои, что теперь случалось редко, потому что она уже освоила величественное царственное поведение. – Подумай об этом, Аспасия. Целый новый мир, новые люди, новые дороги. Я видела, каково тебе приходилось с тех пор, как умер Деметрий. Ты жила не своей жизнью, в тени императрицы. Неужели ты не хочешь снова жить на солнце?
– Я и так на солнце, – упорствовала Аспасия. – Я сестра и слуга императрицы. Я живу в сердце мира.
– Я слышу, – сказала Феофано, – как по ночам ты бродишь по комнатам. Попробуй убедить меня, что эти стены не стесняют тебя как прутья решетки. Что ты не чувствуешь себя пустым сосудом, треснувшим и выброшенным. Разве ты не хочешь снова наполниться?
– Я не могу, – ответила Аспасия, – врачи в этом уверены.
– В жизни можно не только рожать детей, – сказало дитя, предназначенное рождать королей. Она выпустила руки Аспасии. – Я хочу, чтобы ты была со мной. Императрица пошлет тебя, если я попрошу. Самодержец будет только рад, если ты уедешь.
– Значит, ты не оставляешь мне выбора? – Аспасия хотела сказать это сердито, но прозвучало это печально.
– Конечно, ты можешь остаться. И рано или поздно ты кончишь монастырем. Скорее рано. Императору станет неудобно твое присутствие.
Правда звучала в словах Феофано. Аспасия понимала это так же ясно, как Феофано. Она знала, по какой узкой дорожке идет и как близка она к пропасти. Иоанн Цимисхсий никогда никому не отдаст ее в жены. Ее ждет монастырь, глухие стены и черное покрывало, и бесконечная череда однообразных дней, складывающихся в годы. Тогда ей останется только молиться. Это и называют святостью. Аспасия назвала бы это уничтожением, она не хотела быть уничтоженной.
Покинуть Город, последовать за Феофано? Разделить жизнь варваров, стать такой же, как они? Нет, думала она. Такого с ней не случится. А вот выйти в открытый мир…
Она все время думала об этом. По сравнению с окрыленной Феофано, полной сил и ожиданий, она чувствовала себя такой старой и такой усталой. Ей казалось, что жизнь ее кончена. Но она любила Феофано и знала, что может облегчить ее новую, неизвестную жизнь.
Она колебалась. Часть ее души ужасалась при мысли покинуть все такое знакомое и кинуться в неведомый мир. Но другая часть ее души жаждала этого так сильно, что у нее захватывало дыхание. Это почти пугало ее. Это было неправильно, неразумно, не по-византийски. Но голос древней крови звучал в ней все неотступнее – голос крови Василия Македонянина, который из конюха стал императором. Может быть, еще более древней, чем думали. Разве Александр Великий не был царем Македонии?
– Если император узнает, как сильно я хочу уехать, – призналась Аспасия, – он прикажет ночью похитить меня и запереть в келью.
Улыбка Феофано была быстрой, как молния, и так же ослепительна.
– Тогда он узнает, как отчаянно ты сопротивляешься, как хочешь остаться здесь, даже согласна расстаться с подругой.
– Умница, – сказала Аспасия.
Оказывается, она изо всех сил сжимала руки в кулаки. Усилием воли она разжала их. Они были холодны и дрожали. От страха, да. Но и от радости. Она стояла на краю пропасти. Наконец она решилась прыгнуть. И это была безумная радость.
Среди всех событий у нее не было времени искать пропавшего посла. Лиутпранда не было на приемах, где послов представили их будущей королеве. На одной из последних встреч, когда все уже были знакомы, Аспасии, наконец, представилась возможность обменяться несколькими словами с одним из послов. Аспасия узнала, что Лиутпранд был болен.
– Теперь уже не так тяжело, – добавил посол, увидев выражение ее лица, – но он не может вставать с постели.
Она хотела продолжать расспросы, но ее собеседника окликнули, и разговор прервался.
Конечно, она увидела бы его при отплытии. Это совсем скоро: завтра пир, церемония прощания, а на следующее утро, если будет на то воля небес, они уже будут на борту корабля. Стоило ли разыскивать его сейчас, когда на ней висело столько забот и хлопот.
Но как это не было похоже на Лиутпранда: оставаться в постели, когда была возможность так много сделать, увидеть и со столькими поссориться. Послать было некого, и она отправилась к нему сама, оставив дворец и все его хлопоты. Были кое-какие неотложные дела, но она поручила их самой рассудительной из горничных Феофано и на время выбросила все из головы. В простом темном плаще и вдовьем покрывале она была похожа на служанку. Она вышла из дворца так просто, как будто стала невидимкой.
За большими бронзовыми воротами она остановилась. Ярко светило солнце, дул резкий ветер, выбивая слезы из глаз. Город шумел и наступал на нее. По дороге шли люди, вьючные животные тащили повозки и фургоны, на носилках несли важных господ. Она видела, слышала и чувствовала так много сразу, что ослабела. Она не выходила за эти ворота с тех пор, как был убит Деметрий, и, как все обитатели дворца, видела Город только с высоты стен и башен. Она успела забыть, как он прочен и реален.
Она удерживала покрывало, которое хотел сорвать и унести ветер. Она не могла заставить себя стронуться с места. Ей казалось, Город сейчас проглотит ее. Надо вернуться, найти кого-нибудь и послать с письмом. Но она собрала все свое мужество, перевела дыхание и пошла. До дома, где остановились западные послы, было недалеко. Вниз по Срединной дороге, через Форум Константина, по узкой извилистой улочке с цистерной в конце, а за цистерной – дом, похожий на все большие дома в этом городе: гладкие стены без окон, железные ворота. С улицы он имел неприветливый, замкнутый вид, зато внутри был роскошен. Это было совсем не похоже на тот скверный сарай, в который Никифор запихнул предыдущее посольство и который так поносил Лиутпранд. Это был дворец, дом для почетных гостей, говоривший о благоволении императора.
Привратник, как и вся обслуга дома, состоял на службе у императора. Он почтительно приветствовал Аспасию как посланницу из дворца и позвал другого слугу, помоложе, проводить ее. Мальчик не был болтлив. Нельзя было понять, нравится ему человек, о котором она спрашивает, или нет; он ничего не сказал и о здоровье Лиутпранда. Однако, видимо, запрещения на встречи с ним не было, и это был добрый знак.
У дверей, к которым пришла Аспасия, стоял слуга, которого она помнила по прежним временам. Он ее не узнал в этом скромном вдовьем наряде, под покрывалом. Это был пожилой смуглый человек с суровым лицом римлянина, не расположенный беседовать с женщинами, особенно с византийскими. Он встретил ее хмурым взглядом, а слуге, сопровождавшему ее, буркнул что-то грубое на варварской итальянской латыни. Аспасия достаточно знала ее, чтобы понять.
– Это еще что? Разве не было сказано, чтобы господина не беспокоили?
– Госпожа пришла из дворца, – объяснил слуга на правильном греческом. – У нее есть известие для епископа Кремонского.
– Тогда пусть она отдаст его мне, – отвечал ему страж Лиутпранда тоже по-гречески, хотя и не так правильно. – У моего господина осталось не так много времени в этом мире, чтобы расходовать его на пустяки.
– И как же ты распорядишься им? – проговорила Аспасия на латинском. – Отложишь на потом?
Оба уставились на Аспасию. Она бросила на них негодующий взгляд.
– Он умирает?
Слуга Лиутпранда стоял неподвижно, с мрачной гримасой на лице.
– А тебе что за дело?
– Это мое дело, если я его считаю моим. – Она выпрямилась. – Скажи своему хозяину, что царевна Аспасия желает видеть его.
Все-таки царственное величие действует на людей. Вопреки своему желанию итальянец почтительно склонился перед ней и сделал, как ему было приказано.
Он вернулся с еще более мрачным выражением лица. Сопровождая ее, он держался за ее спиной, вплотную к ней, как будто она могла представлять опасность для его хозяина.
Там было только две комнаты, внешняя и внутренняя. Когда они вошли в первую, один священник молился, другой что-то читал по книге. Они поклонились вошедшей Аспасии. Во внутренней комнате находился еще один священник. Комната была маленькая, но уютная, окно с решетчатым переплетом, стены украшены мозаикой, изображавшей виноградные лозы. Священник, казалось, занимал собой все ее пространство. Он был настоящий ломбардец, крупный, светловолосый, голубоглазый варвар, которого легко можно было представить в отряде варягов.
Аспасия долго приучала себя не шарахаться при виде варягов. Они даровали Деметрию быструю смерть: милосердную, как сказали бы они. Но каждый раз, когда она видела их, она слышала звук топора, рассекающего плоть.
Этот ломбардец, в черной сутане, с тонзурой священника, не убивал людей. Выражение его костистого веснушчатого лица было мягким, голос звучал негромко и ласково.
– Моя госпожа, – сказал он на вполне приличном греческом, – очень любезно с вашей стороны посетить нас.
– Наоборот, это очень глупо, – перебил его другой голос, который был хорошо ей знаком, хотя звучал он хрипло и слабо. Он прервался приступом кашля. Священник мгновенно бросился к нему, склонился над постелью, приподнял его осторожно, как ребенка, и поддерживал, пока он откашливался. Едва прокашлявшись, он заговорил, спокойнее, но все равно с раздражением:
– Зачем ты явилась сюда? Неужели тебе нечего делать во дворце?
– Я рада видеть тебя, мой старый друг, – сказала Аспасия, улыбаясь, хотя ей хотелось плакать. Когда она видела Лиутпранда в Золотом зале, он был худ и бледен, но по сравнению с тем, во что он превратился теперь, он показался бы здоровяком. На щеках пылал болезненный лихорадочный румянец. Лихорадка вызвала и блеск в его глазах. Дыхание было прерывистым и хриплым.
К кровати придвинули стул. Она села и взяла Лиутпранда за руку. Она стала тонкой, как птичья лапка, тонкой и холодной, совсем бессильной.
– Разве это вежливо, – спросила она, – не передать мне ни единого слова, даже приветствия? Разве мы не были друзьями?
– Вот именно, что были, – отвечал Лиутпранд.
– Ах, вот как ты оправдываешь свою гордыню? Лихорадку я видела и прежде. Скоро тебе полегчает, и тогда все будет иначе.
– Вряд ли, – сказал Лиутпранд. – Я так долго не проживу. Мне уже не видать Италии. Я бы рад увидеть хотя бы корабль, на котором мое тело отправится домой.
– Ерунда, – сказала Аспасия, хотя к горлу подступил комок.
В глазах его мелькнула прежняя ирония.
– Хватит, – проговорил он едва слышно, – утешать меня. Я всегда уважал тебя за умение быть правдивой, что большая редкость для женщины, а тем более для византийки. Я умираю и знаю об этом. Я надеялся, что ты узнаешь, когда все кончится.
– Почему ты не хотел видеть меня?
– Не очень приятно видеть, как ты льешь слезы.
Она была готова заплакать, но так возмутилась, что слезы высохли.
– Ты бы и не увидел их. Я византийская царевна. По правде говоря, я готова задушить тебя от злости. Мы потеряли столько дней бесед, А теперь времени почти не осталось.
Он не спорил. Казалось, он рассердился не меньше, чем она.
– Похоже, мне от тебя никак не отделаться.
– До тех пор, пока я сама не позволю от себя отделаться.
Она нахмурилась, плотнее уселась на стуле, крепче сжала его руку. У него не было сил и желания освободиться.
Наступила тишина. Хотя в обоих еще бурлила запальчивость, постепенно затапливаемая горем, в тишине этой было что-то умиротворяющее. Хотя Лиутпранду и не хотелось в этом признаваться, он был рад приходу Аспасии.
– Итак, – сказал он, помолчав, – малышка Феофано выходит за нашего принца. Говорят, она стала красавицей. Она все такая же обманчиво милая, как прежде?
– Даже больше, – ответила Аспасия. – Она хотела этого и добилась.
– Конечно. Мы ни разу не назвали ее имени, иначе все было бы слишком очевидно, но мы прибыли именно за ней.
Аспасия кивнула. Она так и подумала, когда узнала, что Лиутпранд прибыл с посольством.
– Я слышал, – сказал он, – о твоем муже. Старый Никифор получил, что заслужил. Деметрию не стоило ждать, чтобы убедиться в этом.
Суровые слова. Жестокие, если бы их сказал кто-нибудь другой. Но Лиутпранд не выказывал словами сочувствие. Оно было в его взгляде.
– Да, – ответила Аспасия. – Ему не стоило ждать. Он поступил глупо. И поплатился за это.
Тонкие пальцы сжали ее руку.
– Я скажу ему об этом, когда встречусь с ним, – сказал Лиутпранд.
Аспасия засмеялась сквозь слезы.
– Сделай это. Он всегда любил тебя, хотя ты часто приводил его в замешательство.
– Неужели? Я думал, он привык.
– Ему хватало для воспитания терпения и одной меня, – сказала Аспасия. Она поднялась. Ломбардец проявил необыкновенное терпение, но она чувствовала, что он устал. Прилив сил, вызванный ее приходом, иссякал. Рука Лиутпранда была холодна, жизнь покидала его. Ей не удержать его. Он больше не вернется. Все события, которые она запоминала, чтобы поделиться с ним, когда он вернется; прочитанные ею книги, которые были бы интересны ему; все стремительные словесные баталии, в которых никто не может сравниться с ним… Как он может умереть? Он был ее другом, и она только что убедилась в этом.
Он не должен знать, как она малодушна. Она улыбнулась ему и наклонилась, чтобы поцеловать в лоб. Он был обжигающе сух.
– Я приду завтра, – сказала она. – Благослови меня!
Ее слова не могли обмануть его, но у него не было сил спорить. Она склонила голову. Слабой рукой он благословил ее.
Она вышла. Может быть, слишком быстро. Вслед ей раздался новый приступ кашля и встревоженные голоса. Она хотела вернуться. Но что это изменит? Он только рассердится, особенно если увидит ее слезы.
Она расправила плечи и поправила покрывало. Гордо, как подобает царевне, она направилась во дворец.
6
Аспасия не смогла сдержать обещания. К утру Лиутпранд умер. В глубине души она знала, что это случится, и была уверена, что и он это знал.
Его люди оплакивали его, но события развивались так, как он хотел и как указал в своем завещании. Аспасия могла теперь сделать для него не больше, чем любой из его друзей. Хмурясь, она удерживала готовые пролиться слезы и занималась делами, которые так или иначе были связаны с предстоящим отъездом.
Она провела день, как в тумане. Все было серо, пусто, окрашено печалью. Она говорила, когда было нужно, даже улыбалась. Никто не замечал, что она думает о другом. Наверное, она умела притворяться лучше, чем ей казалось.
Когда отслужили обедню, Феофано была готова к своему последнему пиру при византийском дворе. Она знала, что Лиутпранд умер, обронила слезинку или две, но, как и у Аспасии, у нее не было времени горевать. К тому же ломбардец был больше другом Аспасии, чем ее. Перед ней открывался целый новый мир, а старый ускользал, оставаясь в прошлом. Стоя перед зеркалом в одеждах царевны, которая станет королевой, она думала о том, что покидает и куда отправляется, чувствуя, как бурное волнение преодолевает в ней печаль и страх.
Аспасия тоже была взволнована. Как обычно, она надела вдовье платье, но оно было великолепным – из узорного шелка, расшитое серебром и черным жемчугом. Новая служанка Феофано сделала ей изящную прическу, не слишком сложную, как и подобает дочери императора. Сегодня вечером Аспасия решила быть ею.
Император принимал западное посольство с большим почетом: в одном из лучших больших залов, где огромный золотой стол был окружен девятнадцатью ложами, колонны и стены блистали золотой росписью, а посуда подавалась тоже золотая. Император сидел в центре верхнего стола, замыкавшего нижний как перекладина буквы «тау», в белоснежных и пурпурных одеждах, с императрицей по левую руку и главой посольства по правую. Феофано занимала почетное место рядом с императрицей с женской стороны стола; Аспасия села рядом с ней. Никто не осмелился возразить, даже дамы, которые претендовали на это место. Все помнили, кто она.
Аспасия сидела спокойно, с аппетитом ела: она не теряла аппетит, как бы тяжело ни было на сердце. Лиутпранд был бы рад видеть, как его люди сидят рядом с императором, что бы он о нем ни думал. Никифор не оказывал западным послам такого почета. Он приглашал их, да, но в меньший зал и усаживал в самом конце нижнего стола, рядом со слугами. Как говорил Деметрий, чтобы преподать им урок. Чтобы они поняли, что их король слишком много себе позволил, присвоив титул императора Запада.
Иоанн был мягче. Он нуждался в том, что мог дать ему Запад, а, может быть, хотел им показать, в каком мире жила Феофано и что она приносит в жертву для блага их принца.
Аспасия, рожденная для пурпура, видела все это как будто со стороны. Так много золота, так много блеска в свете ламп. Блюдо появлялось за блюдом в соответствии с церемонией, сложной, как литургия в храме Святой Софии. Слуги мелькали, как тени, молчаливые, безупречные, незаметные. Ангельское пение императорского хора, музыка флейт и арф, танцоры, мимы, изображавшие старинную комедию. Очень старинную. Она была написана, когда Афины были молоды.
Знали ли они вообще об Афинах, эти варвары из западных стран? Рим когда-то владел ими, верно, но то, что оставили после себя Афины, – это империя, несвязанная с земными законами, это империя духа.
– Кто-то должен их учить, – подумала Аспасия вслух, но так тихо, что никто ее не услышал. Рядом с ней проплыла одна из трех огромных чаш, отлитых из золота и таких тяжелых, что они были подвешены на золотых канатах к потолку, и слуга направлял их по специальному пути от одного гостя к другому. Слуга, одетый в странное, по-императорски роскошное платье, был еще удивительнее этого механизма. Аспасия выбрала из груды орехов и фруктов апельсин и подождала, пока слуга очистит его для нее. В Германии нет апельсинов, А как там будет – кто знает? Такой роскоши, как здесь, не будет. Нигде в мире больше нет такой роскоши.
Женщины за столом щебетали, как птицы. Гул более низких мужских голосов вызвал в памяти образ моря. Завтра она будет плыть по морю. Впервые с тех пор, как она родилась, она покинет стены Города.
Она вздохнула. Внезапно ей захотелось уйти, оставить все это, оказаться на свободе.
Придворные пиры тянулись долго, и этикет дозволял незаметно выходить и так же незаметно возвращаться. Аспасия тихонько поднялась, воспользовавшись перерывом в танцах, когда многие вышли и искали нужную дверь. На мгновение она остановилась в коридоре, прислонившись к стене и закрыв глаза.
Открыв их, она увидела слугу, стоявшего перед ней с полоскательницей и полотенцем. Вода в полоскательнице пахла лимоном. Она позволила слуге освежить себя.
Она знала, что должна вернуться. Но медленно пошла в сторону туалетных. Навстречу шли люди, спешившие в зал.
Один из них остановился. Аспасия узнала его, хотя все еще была как в тумане. Священник Лиутпранда. Он выглядел усталым и грустным, но лицо его посветлело при виде Аспасии.
– Госпожа, – обратился он к ней.
– Святой отец, – ответила Аспасия. – Это он поручил тебе прийти сюда?
Священник грустно улыбнулся. – Он приказал. Я сижу на его месте, хотя я его и недостоин. Я пытаюсь получить от всего этого удовольствие. Он бы так и сделал.
– А потом пошел бы домой и все это безжалостно описал в своей книге.
Священник засмеялся, но тут же, будто провинившись, оборвал смех.
– Он говорил, что ты хорошо понимала его. Не было никого, сказал он, кто так, как ты, видел его насквозь и все ему прощал.
– Подобное стремится к подобному, – обронила Аспасия.
– И он так говорил, – ответил священник. Он спохватился, что-то вспомнив. – Он оставил кое-что для тебя.
– Его последняя воля? Я знаю: мне уже принес посланный.
– Не только это, – сказал священник. Он достал из-под мантии что-то, завернутое в шелк. – Он хотел, чтобы ты сохранила это на память. «Священники умеют молиться, – говорил он, – а женщины – оплакивать. Скажи дочери императора, чтобы она вспоминала меня таким, каким я был, и улыбалась».
Подарок Лиутпранда оказался увесистым. Аспасия, даже не разворачивая, поняла, что это такое. Он оставил ей свою книгу.
Священник пытался улыбнуться, но глаза его были полны слез. Она, утешая, погладила его по плечу. Это было уместно, хотя он был в два раза больше ее.
– Я тоже его любила, – сказала она.
– Я… вижу, – он говорил с трудом. – Меня зовут Гофрид. Если тебе что-то будет нужно, если мир, куда ты и твоя царевна направляетесь, покажется вам совсем чужим, вспомни обо мне.
Он поспешно отошел. Аспасия проводила его взглядом. Она почувствовала его искренность. Странные эти варвары: так быстро способны подарить свою дружбу. Надо помнить об этом, раз уж ей придется жить среди них.
Она содрогнулась при мысли, где ей придется жить. Крепко прижала к груди подарок Лиутпранда. Осязаемая весомость книги почему-то успокоила ее. На мгновение ей показалось, что он рядом, со своим злым языком, острым взглядом и ужасным нетерпением. Он был не святой, он был Лиутпранд.
Достойная эпитафия. Она прикрыла подарок широким рукавом и поспешила вернуться на императорский пир.
Хотя Аспасия много читала о морских путешествиях и мысленно готовилась к новой обстановке, она была взволнована неожиданными ощущениями, которые испытала, очутившись на палубе. Даже когда корабль еще был в тихой гавани, все кругом качалось и потрескивало; Аспасия никак не могла свыкнуться с мыслью, что под досками палубы, на которой она стояла, не было тверди, не было земли, опоры, а была только колеблющаяся, ненадежная вода. Что она почувствует, когда корабль выйдет на широкий простор Средиземного моря, оставалось только гадать.
Но она не боялась. Пока еще позади были стены Города, впереди виднелись стены Галаты, а внизу, у устья Золотого Рога, высилась гряда башен, охранявших Город от всего мира. На рассвете все это останется позади, а впереди будет бескрайний морской простор. Люди, которым довелось плавать в далекие края, рассказывали ей, какой страх вызывает бесконечное пространство, когда земля уходит из-под ног, а впереди открывается беспредельность.
Ей хотелось испытать это. Она стояла на корабле, как тень в тени блистательной Феофано. Город еще высился рядом, но она чувствовала себя уже разлученной с ним. Капитан отдал непонятные приказы на итальянском, и команда убрала канаты, которые привязывали их к земле. Набережная была запружена людьми, они кричали что-то: многие пришли посмотреть на царевну, уезжавшую на Запад. Но корабль уже стал отдельным миром.
Одна из горничных всхлипывала под своим покрывалом. Остальные переживали разлуку в безмолвной печали. Уезжавшие не отрывали глаз от отдалявшегося города: крыши, стены, террасы поднимались все выше, будто стремились уйти вместе с дымом от тысяч жаровен и печей к горестно-голубому небу, и казалось, что в неумолчном шуме можно уловить биение пульса величайшего в мире города.
Аспасия неотрывно смотрела на удаляющийся город. Множество чувств теснилось в ее груди. Она здесь родилась, здесь была счастлива, здесь страдала. Сейчас рвалась ее связь с прошлым. Что она здесь оставляла? Только клочок земли за городской стеной, которая приняла тело Деметрия. Теперь за могилой присмотрят другие, ей уже никогда не заплакать над могильным камнем, жалуясь на судьбу. Но разве она не унесет его в своем сердце?
Ветер холодил ее щеки, обжигая там, где текли слезы. Город туманился, отдалялся и расплывался в дымке.
Феофано была спокойна. Она стояла неподвижно, пока корабль шел по Золотому Рогу до мрачных башен возле узкого пролива Босфора. Там их подхватило течение, и, подняв паруса, корабль поймал ветер. Слева виднелись острые скалы и пологие склоны, тронутые первой весенней зеленью; справа высились стены Константинополя, казалось, поднимавшиеся из моря. Купола Святой Софии парили в вышине, бесплотные, казавшиеся несколькими лунами. Священный дворец сиял в кольце стен, ускользал, растворялся вдали.
Когда последний угол стены остался позади и скрылся, Феофано, наконец, повернулась и позволила увести себя в скрипучий сумрак каюты. Каюта была низкая, темная, пахла дегтем и солью, но была обставлена достойно королевы. Служанки, потерявшие родные места, были рады отвлечься среди шелков, вышивки, резной и инкрустированной мебели. Они искали утешения, суетясь вокруг своей госпожи, которая молча переносила их внимание.
Они никак не могли успокоиться. Чтобы прекратить раздражавшую ее суету, Аспасия нетерпеливо сунула одной книгу, остальным – шелка и иголки для вышивания и зажгла лампу, качавшуюся под потолком. За привычным рукоделием они немного успокоились, только Феба продолжала тихо всхлипывать. «Хорошо хоть, – подумала Аспасия, – что никто не страдает от морской болезни. Пока. Люди говорили, что Мраморное море обычно бывает спокойным. Сегодня оно таким и было, благодарение небу. Некоторые женщины были бледны, но, наверное, это от переживаний; главное, все успокоились».
Но Феофано была уж очень спокойна. Аспасия наблюдала за ней, даже не стараясь притвориться, что занята рукоделием. Феофано тоже сидела в бездействии. Казалось, она прислушивается к чтению – читали что-то безобидно-скучное, приличествующее высокородным женщинам. Руки лежали на коленях. Лицо было неподвижным, словно лик на иконе. Глаза опущены, и какое выражение таилось в них, увидеть было невозможно.
Когда она была ребенком, энергия била в ней через край, она была веселой. Когда она так изменилась?
Когда, повзрослев, решила, что должна стать королевой. Она видела, что произошло с ее матерью, она знала, какой ценой приходится платить за власть, но она все равно хотела власти.
Может быть, на Западе она снова научится смеяться. Византийские императрицы не смеялись, в отличие от германских королев. Германские мужчины смеяться умели: Аспасия слышала их громкий свободный смех под солнцем и ветром. Они были рады оставить слишком большой, слишком могучий, слишком городской Город. Они возвращались домой.
Феофано тоже слышала их смех: она напряглась, губы ее сжались. Аспасия коснулась ее руки. Она была холодна как лед.
– Знаешь, Аспасия, – пробормотала Феофано, – мне хочется…
– Вернуться?
Феофано резко мотнула головой.
– Нет. Не обратно. И не вперед. Просто стоять на месте и не двигаться ни на запад, ни на восток. – Она засмеялась, но смех ее был невесел. – Я боюсь, Аспасия.
– Я тоже, – призналась Аспасия.
– Ты? – удивилась Феофано. – Ты же никогда ничего не боялась. А я шарахаюсь от теней. Я хотела быть смелой, Аспасия. Я собиралась завоевать мир, стать императрицей, заставить королей склониться к моим ногам. Но когда пришла пора действовать, мне хочется спрятаться под одеяло и вообще не высовывать носа. – Она взглянула прямо в лицо Аспасии. Глаза ее не походили сейчас на глаза испуганной лани. Они смотрели мрачно. – А вдруг я возненавижу его, Аспасия?
Об этом было страшно и подумать.








