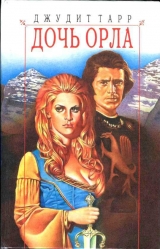
Текст книги "Дочь орла"
Автор книги: Джудит Тарр
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
– Неужели он должен лежать на полу, как собака! Ты, ты и ты – возьмите его, поднимите! Несите его в кровать.
Они подняли императора, как им было приказано, и понесли его в его комнаты. Он был еще жив, хотя это длилось недолго. Когда его проносили мимо Аспасии, она поразилась неземному спокойствию его лица. Он был похож на изваяние надгробия.
Оттон Саксонский, король германцев, император Италии и Германии, император Священной Римской Империи, умер в своей постели, когда закатилось солнце. Он умер с уверенностью, что Бог присмотрит за миром, который он покидал. Его жизнь прошла хорошо и кончилась хорошо.
Оттон-младший Саксонский, король германцев, наконец ставший настоящим императором Италии и Германии, вышел из тени своего великого отца. Ему предстояло осознать, что значит быть свободным.
Сначала он был совершенно потерян. Он был словно оглушен и мог только покорно подчиняться тому, что делала его мать. Она рассылала послания со скорбной вестью, отдавала распоряжения о траурной мессе, готовила траурный кортеж, который должен был сопровождать гроб с телом императора в Магдебург, где он желал быть похороненным. Младший Оттон должен был сопровождать гроб.
Но постепенно он приходил в себя, становился таким, каким был в Кведлинбурге. Наконец он стал осознавать, что он император. Один и единственный.
Впрочем, был некто, кто был с этим не согласен. Во время траурной мессы он не поднимал головы. Но Аспасии был слишком знаком блеск, который она видела в глазах Генриха Баварского. Она не могла его не узнать и не понять его смысл. Она видела этот блеск слишком часто в Византии в глазах знатных вельмож и лиц царской крови. Высоко вознесенные, они томились желанием стать еще выше. Это была жажда власти, и Аспасия знала, как она опасна.
Теперь, когда император Оттон Великий был мертв, Генрих Баварский будет претендовать на его трон. Он не особенно-то и скрывал свои намерения. Но Оттон пренебрег предостережениями Аспасии.
– Генрих всегда был завистлив, – сказал он ей. – Но он не безумец, он не станет тянуться за тем, чего ему никогда не достать.
Аспасия рада была бы поверить в это. Но она не могла обмануться, слишком много она знала о власти. Может быть, это знала не она, а кровь, которая текла в ее жилах, – кровь царей, кровь владык. Она видела, что Генрих Баварский одержим жаждой власти и трона.
День, когда великий Оттон упокоился в своей гробнице, а Оттон-младший был возведен на трон, Магдебург отметил большим торжеством. Прощание со старым императором сменилось чествованием нового. Мрачная траурная скорбь скоро уступила место пьяному веселью. По кругу пошло разливанное море вина. Новый император задавал тон, напиваясь основательно и долго в память отца и еще основательней и дольше в честь обретенной свободы.
Когда Феофано поднялась, чтобы покинуть зал, он поднялся вместе с ней, тяжело опираясь на нее. Если она и была недовольна, она этого не показывала.
– Рим, – сказал он ей, но достаточно громко, чтобы слышали все в зале. – Новый Рим. Мы создадим его, ты и я, и наш сын после нас.
Она залилась румянцем под краской, которую несколько часов назад так тщательно накладывала Аспасия.
Оттон засмеялся и звучно поцеловал ее.
– Пошли, начнем! – Он сгреб ее в охапку, покачнувшись, поскольку Феофано была женщина не из миниатюрных, и вынес из зала под восторженный рев пьяных гостей.
Аспасия явно не уследила. Она уже давно подумывала ускользнуть, но не могла этого сделать, пока ее госпожа оставалась в зале. Ее уход предполагалось сделать торжественным, оставив императора предаваться разгулу вместе с другими мужчинами.
Феофано в зале уже не было, когда Аспасия, наконец, пробралась к выходу. Исмаил разъярится. Он запретил им пытаться зачать сына так скоро после тяжелых родов. Но Оттон явно не расположен прислушиваться к доводам если не врача, то хотя бы здравого смысла. Матильда снова была больна. Великий император умер. Продолжение королевского рода юный Оттон ставит под угрозу.
Она вздохнула и смирилась с неизбежностью. За запертой дверью они делали то, что должна делать королевская чета, и так, как должна это делать королевская чета. Как ученица врача, Аспасия не могла это одобрить, но, как царственная византийка, она все прекрасно понимала.
Герцог Генрих уже ждал ее у поворота. Он оказался там не случайно и не пытался сделать вид, что это случайность. Он прислонился к стене в своей алой одежде, так неприятно дисгармонировавшей с ее любимым багрянцем, и уперся длинной ногой в противоположную стену, загораживая ей путь.
Она неохотно остановилась. Она не боялась его, она никогда его не боялась, хотя это было неразумно: он был гораздо сильнее и не смущался в средствах.
– Господин, – произнесла она четко и холодно, – позвольте мне пройти.
– Возможно, – отвечал он. Он скрестил руки и пристально ее разглядывал. Прямо над головой у него висел светильник. В его свете волосы Генриха приобрели оттенок чеканного золота. Аспасия подумала, что же он может видеть в ней сейчас, кроме рассерженной тени.
Но, что бы он ни видел, ему это явно нравилось.
– Ты очень хороша сегодня, – сказал он.
– Я устала сегодня, – бросила Аспасия резко. – Чего ты хочешь? Не подождет ли это до утра?
– Нет, – отвечал Генрих. – Что бы ты сделала, если бы я утащил тебя в одно укромное местечко, позвал бы священника и женился бы на тебе еще до восхода солнца?
– Я бы воткнула тебе твой собственный нож под ребро, – сказала Аспасия.
Она так бы и сделала. Она его не боялась, даже теперь. Коридор позади нее был свободен. Вряд ли ей удастся убежать от него, но, если она закричит, наверняка прибежит стража.
Он, должно быть, прочитал это на ее лице – ей стало стыдно, что ее мысли так легко читать! Он засмеялся и покачал головой.
– Там сзади нет стражи. Я им дал денег, чтобы они пошли выпить королевского вина.
Может быть, он лгал. Может быть, нет. Она была готова бежать, но удержалась.
– Ты не похож на человека, обезумевшего от страсти.
– Внешность обманчива, – ответил Генрих.
– Только не твоя. – Аспасия оглядела его прищурившись. – Мы не будем сейчас вспоминать о твоей жене. Допустим, что ты свободен, чтобы утащить меня и жениться на мне – силой, потому что иначе тебе меня не заполучить. И что же ты рассчитываешь получить от этого? Конечно, не трон. Ты можешь претендовать на него по праву крови, без всякой моей помощи.
– Но царственная дама, – сказал он, – византийская дама, дочь императора, Багрянородная – какая союзница для короля!
– Какой сильный враг!
Он продолжал улыбаться, как будто ожидал, что она скажет именно это.
– Не могу поверить, что у тебя нет честолюбия.
– Потому что все византийцы без конца плетут заговоры, чтобы стать царями?
– И царицами. – Он выпрямился. Он был гораздо выше и шире ее. – Подумай об этом. Собственный трон, империя, которой можно управлять так, как тебе заблагорассудится. Разве тебе никогда не хотелось этого?
– Нет, – ответила Аспасия, – и почему ты думаешь, что сможешь получить империю?
Он презрительно скривил губы.
– Ты знаешь этого щенка и еще спрашиваешь? Посмотри на него! Если он не цеплялся за материнские юбки, так плелся вслед за отцом. У него никогда не было ни одной собственной мысли.
– Он еще удивит тебя, – сказала Аспасия.
– Вряд ли, – возразил Генрих. – Он как кукла на нитках. Мать дергает его сюда, его жена дергает его туда. Он послушен тому, кто дернет сильнее. И, пока он так мотается взад и вперед, я потребую трона, который должен быть моим.
– Это мятеж, – сказала Аспасия.
– И ты будешь кричать караул?
Аспасия стояла в его тени, видя блеск его глаз. Он нависал над ней угрожающе, но она не желала бояться. Она обдумывала его вопрос, не обращая внимания на его нетерпение. Наконец она сказала:
– Нет, думаю, не стану. Он не захочет слушать, а моя госпожа не захочет услышать.
– Значит, ты все же хоть немного меня любишь, – заявил он, – и позволишь мне поступать, как я хочу.
– Позволю, чтобы тебя повесили без моей помощи.
Генрих слушал это так же невнимательно, как Оттон слушал ее предостережения насчет Генриха.
– Я все это припомню, – сказал он, – когда стану королем германцев.
– Этому не бывать, – ответила Аспасия.
Но он уже ушел. Удивительно было, что такой крупный мужчина может двигаться так быстро и бесшумно. Он оставил после себя запах вина и шерсти, а главное, резкий, как запах крови, дух честолюбия и тщеславия.
Король германцев, подумала она. Не римский император. Возможно, младший Оттон не обладал величием, но он, по крайней мере, метил высоко, в самый Рим. Генрих, как глупый мальчишка, хотел прельстить византийскую царевну жалким троном маленькой дикой страны.
А если бы он мечтал о новом Риме?.. И если бы не было Исмаила?..
Нет, подумала она. Хоть это и достойно осуждения, хоть это и странно для женщины ее происхождения, но она не хочет сидеть на троне, особенно рядом с Генрихом Баварским. Однако Генрих явно намеревается смутить покой Оттона своим мятежом.
Она, наконец, легла в постель, но сон долго не шел к ней. К своему удивлению, она даже немного поплакала: может быть, о себе и о том, что у нее уже нет надежды на будущее; может быть, о том, что великий Оттон умер, а его сыну предстоит бороться за свой трон. Может быть, даже о Генрихе, который при других обстоятельствах мог бы стать королем германцев, но никогда, по мелкости души, не стал бы императором Рима.
Младший Оттон был незначительным человеком по сравнению со своим отцом и слишком хорошо сознавал это. Но он хотя бы мог смотреть чуть дальше родных полей и лесов. Он, как и его отец до него, как царственная Византия, видел прежнее величие империи. Он видел Рим таким, каким он был, и таким, каким он будет, если захочет Бог.
– Вот почему, – сказала она себе в темноте задолго до рассвета, – вот для чего я приехала сюда. Не править, не быть королевой. Построить новый Рим.
Генрих никогда не поймет этого. Оттон, каким бы он ни был слабаком, игрушкой в руках женщин и тенью своего отца, не только понимал это. Он намеревался это осуществить.
Часть II
ИМПЕРАТРИЦА РИМА
Германия, 978–980 гг.
16
Оттон стал взрослым.
И в самом деле, думала Аспасия, глядя со своего места за спиной императрицы в зал, в Кведлинбурге, этот неопытный, обидчивый мальчик, который так отчаянно желал стать императором, теперь был мужчиной, пусть еще очень молодым: невысокий, худощавый, он восполнял этот недостаток исходившей от него силой. Он чувствовал себя уверенно под тяжестью короны, рожденный, чтобы носить ее.
Оттон стал взрослым и большим, а его долголетний соперник, напасть его королевства, как будто съежился и стал меньше. Он стоял на коленях у ног Оттона в позе кающегося грешника, но каждая линия его тела выражала непокорность.
Генрих, бывший герцог Баварский, пожелавший стать королем Германии, знал, что расплата достойна его прегрешений. Но его самомнение было несокрушимо.
– Да, – сказал он достаточно громко, чтобы все слышали. – Да, я восстал против моего императора, не скажу, моего законного императора. Потому, что если бы был какой-то закон, он был бы на моей стороне – на стороне внука правившего короля, а не этого сына выскочки.
Двор не взорвался возмущением. Оттон строго запретил выражать свои чувства, и его друзья следили, чтобы никто не нарушал тишины. Но поднялся гул. Пять лет Генрих боролся за трон, на который не имел права; два года он вел открытую войну, раздирая королевство на части, чтобы назвать себя королем.
Теперь он был схвачен, его союзники стояли в оковах позади него: трое Генрихов, Генрих-подстрекатель, Генрих Каринтийский, Генрих, епископ Аугсбургский, и Болеслав Богемский, отличающийся именем, хотя и варварским, но единственным в своем роде. Больше им ждать было нечего. Всем им еще очень повезет, если им удастся сохранить головы на плечах после всего, что они совершили против своего законного повелителя.
Аспасия не чувствовала к ним жалости. Варвары, и только. И Генрих самый худший из них. Византиец знал бы, как избавиться от неудобного императора, не прибегая к такой глупости, как война.
Генрих хотел было сделать ее частью своего мятежного плана, но она отвергла его. Теперь он, казалось, не видел ее и даже не знал, что она стоит в тени своей госпожи. Возможно, он забыл ее. Возможно, он слишком зол на себя за то, что он выбрал именно ту женщину, которая еще пять лет назад знала, что он придет к такому концу.
Феофано слегка пошевелилась на своих подушках. Лицо под сияющей диадемой было безмятежно. Шелковые одежды почти скрывали ее беременность.
Она не взглянула на Аспасию. И больше не двигалась. Аспасия перестала беспокоиться. Ни одна из беременностей Феофано не протекала особенно тяжело; а теперь, в четвертый раз, она чувствовала себя так хорошо, как только это возможно для женщины в положении. Но ведь всякое может случиться. Трижды она рожала дочерей: хрупкую Матильду, угасшую летом после смерти великого Оттона; Софию, настолько же крепкую, насколько сестра была хилой; маленькую Аделаиду с пшеничными волосами. На этот раз, если угодно Богу, будет сын.
Генрих, которого люди уже прозвали Сварливым, заговорил снова, ободренный молчанием:
– Я сдаюсь тебе, братец, вынужденно и никак иначе. Вернешь ты мне мое герцогство?
Среди вельмож, ближайших к королю, один стоял в напряженном ожидании. Это был тоже Оттон, другой двоюродный брат короля, ставший герцогом Баварским после изгнания Генриха. Он был немного похож на своего тезку, высокий, худощавый молодой человек со слабым подбородком, которого не могла скрыть его светлая борода. Стоявший рядом с ним человек что-то шептал ему; губы его напряженно сжались.
Император внимательно посмотрел на своего склочного брата. Выражение его лица было мрачно, почти угрюмо. Он был сейчас очень похож на своего отца.
Генрих замер. Краски покинули его лицо. Быстрым нервным движением он вздернул подбородок.
– Нет, – сказал Оттон спокойно, но достаточно громко, чтобы всем было слышно. – Я не верну тебе герцогство. Ты лишился прав на него, когда потянулся за моей короной.
– По какому праву твоей? – спросил Генрих.
Оттон слегка покачал головой.
– Ты, похоже, никогда не успокоишься? – Он не стал ждать ответа. – Мы объявляем тебя бунтовщиком и изменником. Мы обвиняем тебя в мятеже.
Генрих сжал челюсти. Его сообщники стояли неподвижно в своих оковах. Глаза епископа были закрыты, по лицу стекал пот. Только Болеслав казался спокойным. Может быть, он не понимал тщательного придворного выговора Оттона. Может быть, ему было все равно. Он уже успел договориться с Оттоном и получил, что мог: свободу после окончания этого суда, с условием, что он покинет Германию и никогда больше не восстанет против германского короля.
Ему нечего было бояться, кроме унижения от стояния здесь, побежденным и в цепях. У других дела были хуже. Оттон отказался разговаривать с кем-либо из них.
– Я не заключаю сделок с мятежниками, – сказал он. – Что сделаю, то и сделаю.
Он глядел на них с высоты своего трона, может быть, наслаждаясь своей властью над ними, а может быть, и нет. Его руки на подлокотниках высокого кресла побелели в суставах. Он заговорил:
– Мы судим вас. Мы призываем вас вспомнить, что мы руководствуемся милосердием и справедливостью, не забывая, что вы наши родственники, рожденные в благороднейших семьях Германии, и были прежде нашими друзьями. За ваши преступления против короны вы должны были бы умереть. Но, поскольку вы наши родственники, а убийство родственников – тяжкий грех, мы не прибегнем к высшей мере. Тебя, господин епископ, мы отдадим на суд твоих братьев, и они приговорят тебя по своей воле. А вас, чьи царства в этом мире, вас, кто захотел подняться выше, чем допускает Бог и право рождения, мы приговорим к тому, что подсказывает нам наше милосердие. Генрих, бывший герцог Каринтии, Генрих, бывший герцог Баварский, наш двоюродный брат, сам себя провозгласивший врагом нашего королевства, вы доказали, вне всяких сомнений, что не можете мирно жить в этом государстве. Государство не желает вас. Уходите: вы изгнаны. Пусть ваша нога никогда не ступает на нашу землю, иначе вас ожидает смерть.
Епископ открыл глаза. В них не было видно облегчения. Он видел лица прелатов, стоявших возле императора, и они не обещали ему ничего хорошего.
Его сообщники встретили приговор в оцепенении. Аспасия, взглянув на Сварливого, заметила искру холодного смеха в его глазах. Он склонил голову, но в этом движении не было покорности.
– Мы благодарим вас, – сказал он, – за ваше исключительное милосердие.
Мягкотелость, говорил его тон. Глупость.
Оттон чуть улыбнулся.
– Ты так считаешь, братец? Я рад. Но ты вряд ли будешь благодарить меня, когда я скажу до конца. Ты изгнан, но не куда тебе заблагорассудится. Мой господин епископ Утрехтский любезно согласился предоставить тебе пристанище под своим присмотром и под своей августейшей защитой до тех пор, пока я не сочту нужным избавить его от этого бремени.
Аспасия чуть не рассмеялась. Генрих стоял как громом пораженный. Двор, после мгновения недоверчивого молчания, разразился восторженными криками.
Конечно, было важно отделаться от него. Но Оттон разрешил проблему совсем по-византийски. Он избежал греха убийства родственника и угрозы кровавой междоусобицы, но и устранил опасность нового мятежа. Правда, Генрих прежде уже сбегал из заключения: он вырвался из Ингельхайма, чтобы поднять последнее и самое мощное из своих восстаний. Но Утрехт был очень надежен, а его епископ безупречно предан императору. На этот раз, Бог даст, Генрих останется там, куда его поместят.
– Останется, – сказала Феофано. Голос ее звучал спокойно, как верное обещание.
Аспасия перестала на мгновение расплетать ее тяжелые косы.
– Это ты уговорила его величество?
Феофано вздохнула, выгнула ноющую спину.
– Какая разница, чье это решение?
– Никакой, – согласилась Аспасия.
Феофано полуобернулась, слегка нахмурившись. Аспасия улыбалась. Через мгновение Феофано уже смеялась, не слишком долго, не слишком беззаботно, но достаточно искренне.
– На самом деле, – сказала Феофано, – я хотела, чтобы он казнил, по крайней мере, главаря. Но он отказался. «Мой отец никогда не убивал родственников, – сказал он, – и я не буду».
– Странно, – протянула Аспасия, – насколько он стал ценить своего отца после того, как старик умер.
– Разве так бывает не всегда? – Феофано рассматривала себя в зеркале. Аспасия видела, как оно отражает бледную красоту Феофано и ее саму тенью у самого края.
Феофано опустила зеркало. Слух у нее был тоньше, чем у Аспасии: через мгновение и Аспасия услышала голоса снаружи.
Они звучали сдержанно. Но разговор шел не дружеский.
Феофано сидела неподвижно, даже когда ссорящиеся влетели в комнату и оказались перед ней. Впереди был Оттон. Без короны, придворное платье заменила простая туника, которую он обычно носил дома; лицо его пылало. Он остановился посреди комнаты и резко обернулся.
– Нет, нет, нет! Ты понимаешь? Нет!
Императрица Аделаида вышла следом, совершенно не обращая внимания на то, что кто-то может слышать их спор. Она была выше и массивней своего сына. Она грозно нависала над ним.
– Ты не послушаешься своей матери?
Оттон покачнулся, словно от удара, но устоял.
– Ты моя мать. Но я император.
– По какому праву?
Она повторила слова Генриха прямо в лицо Оттону. Он побелел.
Феофано поднялась. Она делала это медленно, чтобы привлечь к себе все взгляды. Так обучают византийских цариц. Напрасно: эти двое не замечали никого, кроме себя. Но в ее арсенале было и другое оружие. Она сказала:
– Добрый вечер, мой господин и моя госпожа.
Оттон вздрогнул, как олень. Аделаида обратила всю силу своего гнева против Феофано.
– Конечно, это добрый для тебя день, лишивший моего сына последнего разума.
Феофано подняла бровь.
– И как же, по-вашему, это мне удалось?
– Она тут ни при чем! – У Оттона был такой вид, как будто он готов кого-нибудь прикончить. – Моя госпожа тут ни при чем! Это ты готова лишить меня трона и посадить на него двоюродного братца!
Аделаида внезапно остыла.
– Может быть, он и заслуживает этого. Разве ты совершил что-нибудь, достойное твоего отца?
Что бы там ни было, Оттон был ее сыном. Он тоже остыл, остыл и успокоился.
– Это изменнические слова.
– Это правдивые слова, – сказала она. – Здесь не твоя любимая Византия. У нас не бывает династий. Трон достается тому, кто больше всех достоин занять его.
Оттон засмеялся резким, почти истеричным смехом.
– Сколько же заплатил тебе братец, чтобы ты предала собственного сына? Или это просто ядовитая ревность, поскольку моя жена – моя императрица, и ее советы достойны внимания?
На щеках Аделаиды запылали безобразно яркие пятна.
– Значит, ты не сделаешь, как я прошу?
– Я не откажусь от моей императрицы, сколько бы дочерей она ни принесла мне. Я не буду твоей игрушкой, не буду плясать под твою дудку. Хотя ты мне и мать, – сказал Оттон.
Феофано слушала с завидным самообладанием. Она прекрасно знала, чего добивается Аделаида от сына: у нее везде были свои глаза и уши. Она также прекрасно знала, что мать-императрица просила за мятежников, уговаривая сына вернуть Сварливому его герцогство. Может быть, Аделаида действительно верила, что иначе мира в королевстве не добиться. Конечно, ее неприязнь к Феофано выросла уже почти до ненависти, ненависти, вскормленной острой ревностью, поскольку Феофано не нуждалась в чьих-либо советах и учила Оттона поступать так же.
Теперь заговорила Феофано, как могла мягко:
– Конечно, мать может соперничать с женой сына за власть над ним. Это естественно и, может быть, даже неизбежно. Но предавать сына ради его врагов – это скверно.
– Я не… – начала Аделаида.
Феофано оборвала ее:
– Мы знаем, что это было. Или это называется верностью императору, когда открыто идут к его врагам и обещают им всю возможную помощь?
– Я поступила так в память о моем покойном муже. Мой сын, который жив, – мой сын связался с сыном изменника, отдал ему Баварию, вместо того, кому она принадлежит…
– Вместо того, кто потерял ее, восстав против своего законного повелителя? – Феофано смотрела на нее широко раскрытыми темными глазами, вся воплощенное наивное недоверие. – Ты так ненавидела принца Людольфа? Он был твоим пасынком, английским львенком и, действительно, поднял восстание против своего отца. Но отец простил его. Если бы он не умер, он бы стал императором. Ты хотела свергнуть своего собственного сына, потому что он осмелился жить в дружбе с сыном Людольфа?
– Не из одной лишь дружбы он отдал этому щенку герцогство Баварское. – Голос Аделаиды был полон яда.
Глядя на нее, Аспасия думала об ее доброй славе, заслуженной набожностью и длинным списком благих дел. То была действительно одна из сторон ее личности. А здесь проявлялась другая. Такая злобная ревность и ни капли сочувствия к женщине, которая учила ее сына думать своей головой. На теперешнем этапе женской войны все сошлось вместе.
– Этот щенок, – сказал Оттон не так ядовито, но с не меньшей яростью, – предан короне. Он с полным правом мог бы быть императором, как старший сын старшего сына императора Оттона. Он согласился, что Бог не пожелал этого; он служит мне, как герцог, слуга и друг. А тот, кто так нравится тебе, сын младшего сына, наследник бесконечной и бесплодной ссоры, – неужели ты думаешь, что он может стать послушным? Он бы мог, я уверен. Но его мать, как ни посмотри, еще худшая ведьма, чем ты.
От неожиданности Аделаида прямо задохнулась.
– Как ты смеешь…
– Как ты смеешь, – повторил Оттон. Позади него был стул. Он сел на него. С прямой спиной, с гордо поднятой головой, как на трон. – Ты моя мать, и я долго терпел твои выходки. Заметь, я не называю их изменой. Ты видишь, что из этого получилось. Господь на моей стороне. Покоришься ли ты воле Бога?
– Бог никогда не хотел, чтобы ты отнял у своего родственника то, что принадлежало ему, и отдал сыну мятежника.
Оттон слегка улыбнулся.
– Мой родственник, как ты его называешь, не просто сын мятежника – он сам мятежник, причем неисправимый. – Он покачал головой. – Оставь это, мама. Ты примкнула не к той стороне; ты проиграла. Я не передумаю.
– Не ты думаешь, – сказала Аделаида, – пока здесь сидит эта чужестранка, улыбается притворно и плетет свои сети.
Феофано заговорила очень любезно:
– Ты никогда не одобряла того, что твой муж выбрал для сына невесту из Византии. Это было разумно: византийка слишком хорошо знает, что такое императрица, и никогда не поддастся твоей власти.
– И будет вливать яд в его уши. – Аделаида набросилась на нее почти с удовольствием, удовольствием, о котором давно уже мечтала, но не могла себе позволить. – Он был любящим сыном, пока ты не настроила его против меня.
– Может быть, его не нужно было настраивать. Может быть, он уже устал от того, что ты всегда лезешь не в свое дело.
– Лезу не в свое дело? – Аделаида взвилась от ярости. – Лезу не в свое дело? Я была императрицей и матерью, а он просто ребенком в короне!
– Не просто ребенком, – возразила Феофано, – даже тогда. Теперь он мужчина; и, поскольку он не хочет оставаться в пеленках, ты отвергаешь его и обращаешься к его врагам. Ты плохая мать, плохая королева и изменница, достойная позора.
Аделаида ударила ее по лицу с размаху, так сильно, что голова ее дернулась.
Аспасия рванулась вперед, исполненная гнева. Рука Феофано удержала ее. Она покачала головой. След удара горел на ее щеке ярко, как кровь. Лицо побелело, как кость.
– Нет, Аспасия. Если ее стоит убить, это сделаю я или мой господин.
Он сидел неподвижно, потрясенный. Она улыбнулась ему. Улыбнулась нежно, как ребенок.
– Я думаю, – сказала она, – что ее бывшее величество утомлена всей этой смутой. Войны, мятежи, бесконечные путешествия двора – конечно, мой господин, нужно освободить ее от этого, чтобы она могла обрести душевный мир. Посмотри, как она расстроена: говорит, не думая, действует, не взвешивая, бьет, не сдерживаясь. В одиночестве или в обществе христовых невест она, может быть, обретет покой.
Аделаида зашла слишком далеко, ударив Феофано. У нее хватало ума, чтобы понять это.
Она не пыталась оправдываться. Это было по-королевски. «Жаль, – подумала Аспасия, – что она не совладала с собой раньше».
– Да, – сказал Оттон, тем же тоном, что Феофано. – Она очень огорчена заботами и ссорами в нашем королевстве. Некоторое время отдыха, возможно, исцелит ее: в Божьем доме, если она не возражает, или в человеческом доме, если такова будет ее воля. Главное, за пределами этого королевства, если оно так досадило ей.
Как мало ни любила Аспасия старую императрицу, на миг она испытала сочувствие. Оттон всегда был мягок с матерью, можно даже сказать, податлив. Тем тверже он стал теперь.
Так нужно было поступить с ней давно. Аспасия изгнала сочувствие из своего сердца; это было нетрудно, коль дело зашло так далеко. Аделаида не из тех, кто будет плакать и жаловаться.
Аделаида выпрямилась.
– Хорошо, – согласилась она. – Поступай, как знаешь. Я уеду туда, где не буду тебе досаждать.
– Куда?
Это была ошибка, но Оттон еще не вполне освоился в своем новом качестве.
Мать его не воспользовалась преимуществом. Может быть, она надеялась, что он еще размякнет; но она знала, что сама уже никак не может на него влиять.
– Домой, – сказала она. – В Бургундию. Мой брат жалуется, что слишком редко видит меня. Он будет рад.
Оттон кивнул равнодушно.
– Я не стану, – сказала Аделаида, – поднимать новый мятеж против тебя. Даю тебе слово.
Щеки Оттона потемнели. Но он произнес достаточно спокойно:
– Я принимаю его. Скоро ли ты поедешь?
Она заморгала. «Ага, – подумала Аспасия, – она хотела сыграть слабостью против слабости». Но Оттон не поддался. Она попалась в свою ловушку, ее гордость затянулась на ее шее, как петля.
– Завтра, – сказала она. Голос ее звучал безжизненно.
– Так скоро? – Он прервал себя. – Да. Завтра.
Она склонила голову. Потом поклонилась, утопая в пышных юбках. Ни объятий, ни поцелуев. Оттон их и не желал. Он хотел быть императором; он и стал императором.








