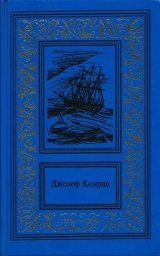
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 52 страниц)
– Я слышал это двадцать… сто двадцать раз про вашу дочь. Расскажите, про ту – ту – др – другую, Аи – ссу…
– Про нее? О! Мы оставили ее здесь. Долгое время у нее было тихое помешательство. Отец очень о ней заботился. Мы отвели ей жилье в моем дворе. Она бродила, ни с кем не разговаривая, и лишь при виде Абдуллы впадала в бешенство и начинала кричать и проклинать. Часто она пропадала, и все мы должны были идти ее искать, потому что отец беспокоился за нее. Мы находили ее в разных местах; раз в заброшенной усадьбе Лакамбы, иногда просто бродящей в кустах. Любимым местом ее был берег маленького ручья. Мы всегда сначала искали ее там. Почему она так любила его – не понимаю! И как трудно было увести ее оттуда. Приходилось прямо силой тащить ее. С течением времени она становилась спокойнее. Все же мои люди страшно боялись ее. Но Найна приручила ее. Девочка от природы бесстрашна и все делала по-своему, подходила к ней, дергала за платье и приказывала ей то да сё, как всем. В конце концов Аисса полюбила ребенка. Ничто не могло устоять перед Найной. Однажды, когда мой маленький чертенок убежал и упал в воду с пристани, Аисса бросилась в воду и мигом вытащила ее. Я чуть не умер от испуга. Теперь она живет с моей прислугой, но делает, что вздумается. Пока я буду иметь горсть риса и кусок ситца в складе, она ни в чем не будет нуждаться. Вы видели ее. Она подавала обед вместе с Али.
– Как? Эта сгорбленная ведьма?
– А! – сказал Олмэйр. – Они скоро стареют здесь. А длинные туманные ночи, проведенные в джунглях, губят всякое здоровье. Вы скоро сами убедитесь в этом.
– От… отвратительно, – прорычал путешественник.
Он задремал. Олмэйр сидел у перил, глядя на голубое сияние лунной ночи. Лес, неизменный и мрачный, казалось, висел над водой, слушая непрекращающийся шепот реки; а над ним темной стеной гора, на которой Лингард похоронил своего пленника, черной округлой массой выделялась на серебристой бледности неба. Олмэйр долго смотрел на ясно очерченную вершину, как бы стараясь сквозь темноту и даль определить форму столь дорого стоившего ему могильного камня. Повернувшись, он увидел своего гостя, который спал, положив руки на стол, а голову на руки.
– Послушайте! – крикнул он, ударяя по столу ладонью.
Натуралист проснулся и, выпрямившись, тупо смотрел на него.
– Я хочу знать, – продолжал Олмэйр очень громко, стуча по столу, – Вы, читавший столько книг, скажите мне… почему случаются такие проклятые вещи? Вот я! Никому не сделал зла, жил честно… а какой-нибудь негодяй, рожденный в Роттердаме или другом каком проклятом месте на том конце света, приезжает сюда, обкрадывает своего хозяина, убегает от жены, разоряет меня и Найну – он разорил меня, это факт – и умирает от руки дикарки, в действительности ничего про него не знающей. Какой в этом смысл? Где ваше провидение? Какая от этого польза? Мир – надувательство! Надувательство! Почему я должен страдать? Что сделал я, чтобы так обращались со мной?
Выкрикнув все свои вопросы, он замолчал. Человек, который должен был быть профессором, сделал большое усилие, чтобы внятно произнести слова:
– Мой дорогой друг, разве вы… вы не видите, что сам… самый ф… факт вашего сущест… вования в… вреден… Я всех вас люблю… люб… лю…
Он упал на стол и закончил свое замечание неожиданно протяжным храпом.
Олмэйр пожал плечами и снова отошел к перилам. Он пил свой собственный, продаваемый им джин очень редко, но когда пил, то довольно было совсем ничтожного количества, чтобы восстановить его против всей системы мира. И теперь, перс гнувшись через перила, он безобразно орал в темноту, обраща ясь к далекой и невидимой плите привозного гранита, на которой Лингард начертал о милостях господних и об освобождении Виллемса.
– Отец был неправ – неправ! – кричал он, – Я хочу, чтобы ты страдал за это. Ты должен страдать. Где ты, Виллемс? Эй? Эй… Там, надеюсь, где для тебя милосердия нет!
– Нет, – шепчущим эхом откликнулись встревоженные леса, река и горы; но Олмэйр, ожидавший ответа со склоненной на бок головой и с внимательной, пьяной улыбкой на губах, не понял его смысла.
Негр с «Нарцисса»
I
Мистер Бэкер, старший подшкипер шхуны «Нарцисс», одним движением перешагнул из своей освещенной каюты в темноту шканцев. Над головой его, в пролете кормы, ночной вахтенный пробил две склянки. Было девять часов. Мистер Бэкер спросил, обращаясь к кому-то над собой:
– Все на палубе, Ноульс?
Человек, прихрамывая, спустился с лестницы и ответил, как бы соображая:
– Кажется, что так, сэр. Все наши старые ребята налицо, да и куча новых притом же. Должно быть, что все тут.
– Скажите боцману, чтобы он созвал всю команду на корму, – продолжал мистер Бэкер, – и велите какому-нибудь юнге принести сюда хорошую лампу. Я хочу сделать команде перекличку.
На корме главной палубы было темно; но у середины судна две полосы яркого света, вырываясь через открытый люк бака, разрезали мрак тихой ночи, окутывавшей корабль. Оттуда доносился гул голосов и в освещенных дверях у левого и правого борта мелькали движущиеся силуэты людей. Они внезапно появлялись, очень черные и плоские на фоне света, точно вырезанные из листа жести, и тотчас же исчезали. Судно было готово к отплытию. Плотник вогнал последний клин в рейки и, бросив вниз свой молоток, с чрезвычайно глубокомысленным видом отер с лица пот, как раз в ту минуту, когда пробило пять склянок. Палубы были вымыты, брашпиль смазан и приготовлен к подъему якоря; большой буксирный канат длинными петлями тянулся вдоль одного из бортов. Один конец его был поднят и свешивался через поручни в ожидании буксирного парохода, который должен был скоро подойти к «Нарциссу», шумно пыхтя, разрезая воду, горячась и дымя в чистой и прохладной ясности раннего утра. Капитан был на берегу. Он набирал там новых матросов, чтобы пополнить свою команду. А офицеры, покончив со своими дневными обязанностями, держались в стороне, радуясь возможности немного передохнуть. Вскоре после наступления темноты береговые лодки начали подвозить к судну отпускных из прежней команды и новых матросов. Азиаты-лодочники, одетые в белое, еще задолго до того, как при стать к сходням, свирепо требовали со своих пассажиров плату за перевоз. Лихорадочный пронзительный восточный говор бо ролся со спокойными властными голосами подвыпивших моря ков, отвечавших на наглые требования и низкую алчность пло щадной руганью. Лучезарная, усыпанная звездами, безмятеж ность восточной ночи разрывалась на грязные лоскутья крика ми ярости и жалобными воплями; борьба шла из-за сумм в прс делах от пяти анн до пол рупии. И экипажи всех стоявших в то время в Бомбейской гавани судов сразу узнали, что на «Нар цисс» прибыла новая команда.
Одуряющий шум постепенно затих. Лодки перестали подходить по три и по четыре вместе; они приставали поодиночке, распространяя вокруг глухое жужжание недовольства, которое тотчас же обрывалось возгласом: «Ни гроша больше! Провали вай к дьяволу», – вылетавшим из уст какой-нибудь темной фигуры с длинным мешком за спиной, взбиравшейся нетвердыми шагами по трапу. В баке новички, не присаживаясь и покачиваясь среди перевязанных веревками ящиков и узлов с постельными принадлежностями, знакомились со старыми матросами, а те, сидя друг над другом на двух ярусах нар, окидывали своих будущих товарищей критическими, но доброжелательными взорами. Две лампы заливали бак сильным и резким светом. Твердые шлемы, надевавшиеся при спуске на берег, были сдвинуты на затылки или валялись на палубе среди цепных канатов. Отстегнутые белые воротники торчали по обеим сторонам красных физиономий; большие руки в белых рукавах жестикулировали, рычащие голоса упорно гудели, составляя непрерывный фон для взрывов смеха и хриплых окриков:
– Эй, братец, вот тебе койка, занимай…
– С какого корабля будешь?
– Знаю его!
– Три года назад в Пэджет Саунде…
– Сказано тебе, эта койка соскакивает…
– Ну-ка, подсоби поднять сундучок…
– Не прихватил ли кто-нибудь из вас, ребята, бутылочку с берега?
– Угости, брат, табачком…
– Как не знать, еще шкипер с него опился до смерти…
– Шикарный был молодчик…
– Любил пополоскаться изнутри, вот что…
– Нет…
– Эй, придержите-ка языки, ребята…
– Говорю вам, на этой шхуне умеют жилы выматывать из бедного матроса…
Маленький паренек, по имени Крейк, а по кличке Бельфаст, стал неистово ругать судно, привирая из принципа, просто, чтобы дать новой команде о чем пораздумать. Арчи сидел на своем морском сундучке раздвинув колени и терпеливо пришивал к синим штанам белую заплатку. Матросы в черных куртках и стоячих воротниках, смешиваясь с босоногими, голорукими людьми в цветных, открытых на волосатых грудях рубахах, толкались посреди бака. Группа то колыхалась на месте, в облаке табачного дыма, то вдруг, под влиянием внезапно усиливавшейся толкотни, откатывалась в сторону. Все говорили разом, ругаясь через каждые два слова. Русский финн в желтой рубахе с розовыми полосками мечтательно смотрел вверх из-под нависшей копны волос. Два юных гиганта с миловидными детскими лицами – скандинавы – помогали друг другу стлать постель, молчаливо и мирно улыбаясь в ответ на бурю благодушной ругани и беззлобных проклятий. Старый Сингльтон, старейший матрос первой статьи на этом корабле, сидел в сторонке на палубе под самими лампами. Его мощная, обнаженная по пояс грудь и огромные бицепсы были сплошь покрыты татуировкой, точно у какого-нибудь каннибальского вождя. Белая кожа у него блестела, как атлас, между синими и красными узорами; голая спина его опиралась о пятку бушприта. Перед своим большим загорелым лицом он держал в вытянутой руке книгу. Очки и почтенная белая борода делали его похожим на какого-нибудь первобытного ученого патриарха, воплощение варварской мудрости, сохраняющего безмятежное спокойствие среди богохульной суеты жизни. Старик был глубоко погружен в чтение и его огрубелые черты принимали, когда он переворачивал страницы, выражение живейшего любопытства. Он читал «Пельгейма». Популярность Бульвера Литгона на баках кораблей, совершающих рейсы на юг, очень характерное и своеобразное явление. Какие мысли пробуждают его утонченные и явно неискренние сентенции в простых душах этих взрослых детей, населяющих мрачные странствующие по морям ящики? Какой смысл открывают их грубые неискушенные умы в изысканном многословии его страниц? Какое находят возбуждение? Забвение? Успокоение? Загадка! Есть ли это очарование непонятного? Обаяние невозможного? Или, быть может, рассказы его, словно каким-то чудом, открывают перед ними новый ослепительный мир среди царства низости и нечистоты, грязи и голода, горя и разврата, которое со всех сторон подступает к самому краю целомудренного океана, составляя все, что они знают о жизни, единственное, с чем сталкиваются на берегах эти пожизненные пленники моря? Загадка!
Сингльтон, который совершал рейсы на юг с двенадцатилетнего возраста и за последние сорок пять лет прожил на берегу не больше сорока месяцев (так мы установили по его бумагам), старик Сингльтон, который со спокойным удовлетворением хорошо пожившего человека, хвастался тем, что в промежутках между расчетом на одном корабле и отплытием на другом он никогда не мог отличить на берегу дня от ночи, – старина Сингльтон сидел невозмутимо среди гула голосов и криков, читая по складам, в состоянии очень близком к трансу, – «Пельгей ма». Он ровно дышал всякий раз, когда его почерневшие руки переворачивали страницу, огромные мускулы слегка вздувались под гладкой белой кожей плеч. Белые усы, запятнанные стекав шим по длинной бороде табачным соком, закрывали губы, ко торые двигались в беззвучном шепоте. Большие глаза присталь но смотрели из-за блеска очков в черной оправе. Против стари ка на барабане брашпиля сидел в позе скорчившейся химеры корабельный кот, уставившись зелеными глазами на своего друга. Он готовился, казалось, прыгнуть к нему на колени через согнутую спину матроса второй статьи, сидевшего у ног Сингльтона. Юный Чарли был очень худ, шея у него была длинная и тощая, позвоночник выступал цепью маленьких холмиков под поношенной рубахой. Лицо уличного мальчишки, преждевременно созревшее, проницательное и ироническое с глубокими складками, спускавшимися вниз от углов рта, низко пригибалось к костлявым коленям. Он старался связать из куска старого каната узел – талрепа. Мелкие капли пота выступали на его выпуклом лбу. Время от времени он издавал сильное сопение, искоса поглядывая при этом беспокойными глазами на старого матроса, хотя тот и не думал обращать внимания на юношу, ворчавшего над своей работой.
Шум все увеличивался. В удушливой жаре бака маленький Бельфаст, казалось, весь кипел шутливой яростью. Глаза его плясали; на багровом лице, напоминавшем комическую маску, зиял, причудливо гримасничая, черный рот. Полураздетый человек, стоя перед ним, держался за бока и, откинув голову, хохотал до слез. Другие смотрели, выпучив от удивления глаза. На верхних нарах люди курили свои коротенькие трубки и покачивали голыми коричневыми ногами над головами товарищей, которые, растянувшись внизу на сундуках, прислушивались к гвалту, улыбаясь кто тупо, кто презрительно. Из-за белых краев коек высовывались головы с смеющимися глазами; но тела тонули во мраке нар, напоминавших узкие ниши для гробов в белой освещенной покойницкой.
Голоса гудели все громче. Арчи, сжав губы, сосредоточился еще глубже, как будто уменьшился в объеме и упорно шил, молчаливый и старательный. Бельфаст кричал, как вопящий дервиш:
– Вот я и говорю ему, значит, ребята: «Прошу прощения, сэр, – это я говорю второму подшкиперу этого судна, – прошу прощения, сэр, – в министерстве были, должно быть, выпивши, когда они выдавали вам аттестат». – «Да, как ты смеешь, ты…» – кричит он и кидается на меня, точно взбесившийся бык… весь как есть в белом с ног до головы. Я ничего не говорю, хватаю свое ведерко с дегтем и бац – окатываю его всего как есть, с белой физией и белым костюмом… «Вот, говорю, получай, – я как-никак матрос, а ты кто? Бездельник, говорю, ты, шкиперский подголосок, пятая собачья нога, вот кто ты!» Видели бы вы, братцы, как он пустился наутек. Деготь так начисто и ослепил его… ей-ей…
– Брешет он все, ребята. Никакого он дегтя не выливал. Я был при этом, – крикнул кто-то.
Оба норвежца сидели рядом на ящике, невинно озираясь по сторонам круглыми глазами, безмятежные и похожие друг на друга, словно пара влюбленных птиц на жердочке; но русский финн среди гвалта, резких выкриков и раскатистого смеха оставался неподвижным, вялым и мрачным, точно глухой человек, лишенный позвоночника. Рядом с ним Арчи улыбался своей иголке. Один из новичков, широкоплечий малый с сонными глазами, воспользовавшись временным затишьем, насмешливо обратился к Бельфасту:
– Удивляюсь я, как это хоть один подшкипер уцелел до сих пор с этаким парнем на борту; уж, верно, теперь они присмирели, после того как ты занялся их укрощением, братец.
– Известно присмирели! – взвизгнул Бельфаст. – Эх, если бы только мы держались покрепче друг за дружку… Они всегда хороши, когда их прижмешь к стенке. Будь они прокляты, подлецы…
Он брызгал слюной, размахивал руками, затем вдруг расхохотался и, вынув из кармана плитку черного табаку, откусил от нее с забавной напускной свирепостью.
Другой новичок, с косыми глазами и длинным желтым лицом, все время слушавший, разинув рот, в тени канатного ящика, вдруг вставил визгливым голосом:
– Ну, это во всяком случае обратный рейс. Худо ли, хорошо ли, я сумею постоять за себя, пока не доберусь домой, а уж на ногу себе наступить не позволю. Я им покажу.
Все головы повернулись к нему. Только матрос второй статьи и кот по-прежнему не проявляли никакого интереса. Щуплый паренек с белыми ресницами стоял, уперев руки в боки. Он имел такой вид, будто прошел уже через все унижения и жестокости, какие только существуют на свете, будто его уже били по щекам, пинали ногами, валяли в грязи, царапали, оплевывали, обливали нечистотами. И он, улыбаясь с видом человека, застрахованного от всех зол и бед, обводил взором окружающие лица. Его уши пригибались вниз под тяжестью проломленной твердой шляпы, а разорванные полы черного пальто спускались бахромой на икры его ног. Он расстегнул две последние уцелевшие пуговицы и все увидели, что на его теле нет рубахи. По какой-то несчастной особенности этого человека даже жалкие лохмотья, которые, казалось, никому не могли принадлежать, имели на нем такой вид, точно он где-то украл их. Шея у него была длинная и худая, веки красные, вокруг челюстей висели редкие волосы; сутулые, опущенные плечи напоминали надломленные крылья птицы. Вся левая сторона туловища была облеплена засохшей грязью, из чего следовало заключить, что он недавно ночевал в мокрой канаве. Чтобы спасти свое хи лое тело от окончательного разрушения, он сбежал с американского судна, на которое отважился поступить в минуту безумного легкомыслия. Около двух недель он протолкался на берегу в туземном квартале, выпрашивая рюмочку, голодая, ночуя на кучах мусора, бродя под солнцем точно жуткий выходец из царства кошмара. Он продолжал стоять среди бака, отвратительно улыбаясь, в внезапно воцарившейся тишине. Этот чистый белый бак был теперь его убежищем; здесь он мог лодырничать, валяться, спать, есть и проклинать пищу, которую он ел; здесь он мог развернуть свои таланты по части увиливания от работы, плутовства и попрошайничества; здесь он наверно найдет человека, которого можно будет взять лестью, и жертву, которую удастся застращать, – и здесь же он пожнет плоды всего этого. Все они знали, что он за человек. Есть ли на земле уголок, где не был бы знаком этот зловещий свидетель неизменного торжества лжи и наглости? Молчаливый матрос с длинными руками и крючковатыми пальцами, куривший лежа на спине, повернулся на своей койке, хладнокровно осмотрел новичка и пустил к двери, через его голову, длинную струю прозрачной слюны. Все они знали, что это за тип. Это был один из тех, кто не умеет управлять рулем, не умеет сплеснивать, кто увиливает от работы в темные ночи, кто, взобравшись наверх, как безумный, цепляется обеими руками и ногами за реи, осыпая бранью ветер, дождь, темноту; один из тех, кто клянет море в то время, когда другие работают. Такие люди последними уходят на работу и первыми возвращаются с нее. Они почти ничего не умеют делать и не желают делать того, что умеют. Это излюбленные чада филантропов. Симпатичные и достойные существа, которые чрезвычайно точно осведомлены о своих правах, но совершенно не знакомы с мужеством, выносливостью, сознанием долга, преданностью и молчаливой товарищеской верностью, связывающей воедино судовую команду. Это независимые отпрыски разнузданной вольности трущоб, питающие непримиримую ненависть и презрение к суровому труженичеству моря.
Кто-то крикнул ему:
– Как тебя звать?
– Донкин, – ответил он, оглядываясь с наглой веселостью.
– А кто ты будешь? – спросил другой голос.
– Да такой же моряк, как и ты, старина, – ответил тот, и тон его, несмотря на явное желание выразить сердечность, прозвучал наглостью.
– Будь я проклят, если ты, черт возьми, не смахиваешь больше на какого-нибудь погоревшего кочегара, – последовал в ответ убежденный шепот.
Чарли поднял голову и пропищал резким голосом: – «Он настоящий мужчина и моряк», – затем, утерев нос рукой, прилежно нагнулся снова над своей иголкой. Несколько человек! рассмеялись. Во взглядах остальных продолжало сквозить недоверие. Новичок-оборванец разгневался.
– Нечего сказать, славно вы встречаете на баке товарища, – прорычал он, – люди вы, или так людоеды бессердечные?
– Не снимай с себя рубашки по первому слову, товарищ, – крикнул Бельфаст, вскакивая перед ним в одно и то же время пламенный, угрожающий и добродушный.
– Уж не слеп ли этот болван? – спросил ничем не смущающийся оборванец, с деланным изумлением оглядываясь по сторонам, – не видит он что-ли, что на мне нет рубахи?
Он вытянул перед собой крест-накрест обе руки и с драматическим видом потряс лохмотьями, прикрывавшими его кости.
– А знаете почему? – продолжал он очень громко. – Проклятые янки хотели выпустить мне кишки, оттого что я стоял за свои права, как полагается. Я англичанин, вот я кто. Ну, они, ясное дело, ополчились на меня, и мне пришлось удрать. Вот и вся штука. Не видали вы что ли никогда человека в крайности? Что же это в самом деле за проклятущий корабль такой? Я до смерти измучен, у меня ничего нет – ни мешка, ни постели, ни рубахи, ни одного лоскуточка, кроме того, что на мне. Однако у меня хватило мужества утереть нос этим янки, а вот посмотрим, хватит ли у вас великодушия, чтобы пожертвовать товарищу пару старых штанов?
Он знал, как завладеть простодушными чувствами этой толпы. Все тотчас же выразили ему свое сочувствие, в форме шутки, пренебрежения или воркотни; затем оно приняло форму подарков. Кто-то запустил в него одеялом, за ним последовала пара сапог, упавших к его грязным ногам; с криком «держи!» – свернутая пара штанов, отяжелевшая от пятен дегтя, ударила его в плечо. А он невозмутимо продолжал стоять посредине, и белая кожа его рук и ног, просвечивая сквозь фантастический узор лохмотьев, говорила о связывающем их общечеловеческом родстве. Порыв великодушия затопил колеблющиеся сердца волной сентиментальной жалости. Их умиляла собственная готовность облегчить нужду товарища. Раздавались крики: «Так и быть, снарядим тебя, старина!» Бормотание: «Никогда не встречал еще парня в такой крайности… бедняга… у меня вот завалялась старая фуфайка… не пригодится ли тебе?., возьми, дружище!..»
Эти дружеские возгласы наполняли бак. Он обходил койки, шлепая своими босыми ногами, и собирал вещи в груду, ища глазами новых подачек. Бесчувственный Арчи небрежно подбросил в кучу старую суконную фуражку с оторванным козырьком. Старый Сингльтон, погруженный в блаженное царство вымысла, продолжал читать, не обращая ни на что внимания. Чарли с бессердечностью юности провизжал:
– Если тебе потребуются медные пуговицы для нового мундира, у меня найдется парочка!
Грязный объект всеобщей благотворительности пригрозил юноше кулаком:
– Я выучу тебя держать бак и чистоте, молокосос, – злобно прорычал он, – не беспокойся, узнаешь скоро, как обращаться с матросом первой статьи, щенок неученый.
Он бросил на него злобный взгляд, но, заметив, что Сингльтон закрыл книгу, тотчас же зашмыгал своими глазками-бусинками по койкам.
– Займи-ка вон ту койку у двери, она будет поприличней, – посоветовал Бельфаст.
Послушавшись совета, Донкин сгреб свои подарки в охапку, прижал весь ворох к груди и осторожно взглянул на русского финна, который с отсутствующим видом стоял рядом, быть может, созерцая одно из тех видений, которые преследуют сыновей его расы.
– Пропусти, чухна, – сказала жертва американской жестокости. Финн не пошевельнулся, не услышав.
– Проваливай же, черт возьми, – крикнул Донкин, отталкивая его локтем. – Убирайся, олух ты глухонемой. Убирайся, говорят тебе!
Финн пошатнулся, пришел в себя и молча посмотрел на говорившего.
– Этих проклятых иностранцев нужно во как держать, – объявил баку любезный Донкин, – Попробуй только дать им волю, так все четыре лапы на стол и положат сразу.
Он швырнул все свое имущество на пустую койку и, учтя одним зорким взглядом весь риск предприятия, подскочил к финну, который продолжал стоять все так же задумчиво и уныло.
– Ты у меня узнаешь, как колодой на дороге стоять, – заорал он. – Всю морду расшибу, головотяп проклятый!
Большинство матросов уже лежало на койках, так что пол бака был в полном распоряжении ссорящихся. Драка, затеянная несчастным Донкином, вызвала интерес. Он плясал в своих лохмотьях, гримасничал и кривлялся перед изумленным финном, прицеливаясь на расстоянии в его тяжелое спокойное лицо. Раздалось несколько ободряющих возгласов. «Дай ему раз – Уайтчепель!», [20]– и матросы уселись поудобнее на своих койках, чтобы следить за боем. Другие кричали: «Заткнись… сунь-ка лучше голову в свой мешок…» Снова поднялся гвалт. Но сверху вдруг посыпались тяжелые удары вымбовкой по палубе. Они прогудели в баке, точно выстрелы из маленькой пушки. Затем за дверью раздался голос боцмана, повелительно подчеркивавший слова:
– Оглохли вы там, что ли? На корму! Перекличка всей ко– | манде!
На минуту все замерло, затем пол бака скрылся под босыми ногами, зашлепавшими по доскам, когда люди стремительно соскочили со своих коек. Одни отыскивали шапки, погребенные под сброшенными одеялами; другие, зевая, стягивали пояса штанов, третьи торопливо выколачивали о деревянную обшивку недокуренные трубки и засовывали их под подушки.
– Что это еще за новости? Так нам и не дадут никогда передохнуть? – завопил Донкин. – Если на этом корабле такие порядки, придется изменить их… предоставьте уж мне… я живо…
Никто на баке не обращал на него внимания. Люди украдкой проскальзывали через дверь по двое и по трое; подобная привычка почему-то у всех матросов коммерческих судов – они никогда не выходят из дверей просто, как делают это береговые жители. Сторонник реформ последовал за ними. Сингльтон вышел последним, натягивая на ходу куртку. Он выступал с величественным и патриархальным видом, высоко неся свою голову закаленного жизнью мудреца над телом старого атлета. Один Чарли остался сидеть в ослепительно освещенном пустом помещении, между двумя рядами железных звеньев, исчезавших в узкой полосе мрака перед ним. Он изо всех сил стягивал концы, спеша закончить свой узел. Вдруг он вскочил на ноги, запустил веревкой в кота и бросился за черным, который помчался от него, перепрыгивая через канатные зажимы, задрав вверх свой вытянутый хвост.
После яркого освещения и духоты бака, безмятежная чистота ночи окутала моряков своим ласкающим теплым дыханием: оно струилось под бесчисленными звездами, трепетавшими над верхушками мачт тончайшим облаком сияющей пыли. По направлению к городу черная вода прорезалась дорожками света, мягко изгибавшимися на едва заметной ряби, словно пучки волокон, уносимые течением к берегу. Вдалеке рядами горели огни, как бы выставленные напоказ между громоздящимися зданиями, а по другую сторону гавани темные холмы высоко изгибали свои черные хребты, на которых тут и там, как искра, упавшая с неба, сверкала звезда. Вдалеке, у входа в доки, ослепительным холодным светом сияли на высоких столбах электрические фонари, словно пленные призраки каких-то злобных лун. На разбросанных по рейду судах царила полная тишина. Их темные громоздкие очертания призрачно выступали при слабом свете якорных огней, напоминая какие-то странные монументальные сооружения, покинутые людьми на вечный покой.
Перед дверью каюты мистер Бэкер делал перекличку команде. Пробираясь нетвердыми шагами мимо грот-мачты, они видели перед собой на корме его круглое широкое лицо и лист белой бумаги, который он держал перед собой. Из-за плеча подшкипера выглядывала заспанная физиономия юнги, который, опустив веки, держал в вытянутой руке светящийся шар лампы. Не успело шлепанье босых ног затихнуть на палубе, как подшкипер уже начал выкликать имена. Он произносил их отчетливо, торжественным тоном, как бы приобщая эту перекличку к тоскливому одиночеству, бесславной и скрытой борьбе или, пожалуй, еще более мучительной необходимости сносить мелкие лишения и исполнять опостылевшие обязанности. Как только подшкипер произносил чье-либо имя, кто-нибудь из матросов отвечал: «Здесь» или «есть, сэр» – и, отделяясь от темной массы голов, ясно выступавшей над черной линией правого борта, входил босыми ногами в круг света; затем, сделав несколько бесшумных шагов, снова исчезал в тени левых шканцев. Они отвечали различным тоном: некоторые глухим бормотанием, другие ясными звонкими голосами, а кое-кто, точно усматривая во всей этой церемонии личное оскорбление, и просто грубо. На коммерческих судах, где понятие иерархии развито слабее и где все чувствуют себя равными перед равнодушной безграничностью моря и настоятельной необходимостью работать, дисциплина не так строга, как на военных кораблях.
Мистер Бэкер ровным голосом выкликал:
– Хаензен, Кемпбель, Смит, Вамимбо… Ну, что там, Вамимбо, почему вы не отвечаете? Вечно приходится два раза вызывать вас!
Финн издал, наконец, непонятное ворчанье и, выступив из толпы, перешел через полосу света, мечтательный и равнодушный, сохраняя все тот же вид сомнамбулы. Подшкипер начал читать быстрее. Крейк, Сингльтон, Донкин.
– Господи Иисусе! – невольно вырвалось у него, когда Донкин появился в полосе света. Он остановился и обнажил в злобной улыбке бледные десна и длинные верхние зубы.
– Что-нибудь там не в порядке у меня, мистер подшкипер? – спросил он с оттенком дерзости в подчеркнутой простоте тона.
На обеих сторонах палубы раздались смешки.
– Ладно, проходите, – проворчал мистер Бэкер, пронизывая нового матроса упорным взглядом голубых глаз. Донкин вдруг исчез из света в темной группе прошедших через перекличку людей. Там его встретили одобрительным похлопыванием по спине и шепотом лестных замечаний:
– Молодчина! Не боится…
– Уж этот-то покажет им, увидишь, что покажет.
– Ну, прямо, что твой петрушка… А приметил ты, как подшкипер выкатил на него зенки? Умора!
– Ну, будь я проклят, если когда-нибудь…
Последний матрос перешел в темноту; наступило минутное молчание, покуда подшкипер проверял список.
– Шестнадцать, семнадцать, – бормотал он, – тут одною не хватает, боцман? – произнес вслух мистер Бэкер.
Боцман – крупный человек, смуглый и бородатый, стоял рядом с подшкипером.
– На носу никого не осталось, сэр, – произнес он грохочущим басом, – я осмотрел все. Его, по-видимому, нет на борту. Может быть, явится еще до рассвета.
– Может, явится, а может, и нет, – вставил подшкипер. – Не могу разобрать этого последнего имени… сплошная клякса… Ну, ладно, ребята, ступайте вниз.
Смутная неподвижная группа людей зашевелилась, рассыпалась и двинулась вперед.
– Уэйт, [21]– крикнул сильный звонкий голос.
Все остановились. Мистер Бэкер, успевший уже отвернуться и зевнуть, стремительно обернулся, так и не закрыв рта. Наконец он выпалил свирепым голосом:
– Что это значит? Кто это крикнул? Что…
Но тут он заметил у борта чью-то высокую фигуру. Она приближалась и расталкивала толпу, направляясь тяжелыми шагами к полосе света на шканцах. Затем звучный голос снова произнес «Уэйт!». Фонари осветили фигуру мужчины. Он был очень высок ростом и голова его тонула наверху в тени спасательных лодок, стоявших на рострах над палубой. Белые глаза и зубы отчетливо блестели, но лицо исчезало в тени, так что разглядеть его было совершенно невозможно. Руки у незнакомца были большие и как будто в перчатках.








