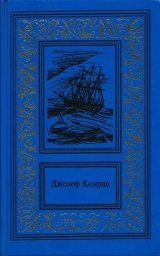
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
– Ни одно судно не плавало так хорошо, – сказал он им убежденно после минуты тягостного молчания. У него дрожали губы и он, видимо, искал подобающих выражений для этого надгробного слова. – Бриг наш был мал, да надежен, и я никогда за него не беспокоился. Он был крепкий. В прошлый рейс я брал с собой в плавание жену и двоих ребят. Ни одно судно не продержалось бы столько времени при таком шторме, какой трепал его изо дня в день, пока мы две недели назад не потеряли мачты. А его только сильно потрепало и больше ничего, поверьте мне. Он держался бог знает сколько времени, но не могло же это длиться вечно. И так уже долго продержался… Хорошо, что это кончилось. Еще ни одно судно не шло ко дну в такую чудную погоду.
Да, он сумел произнести надгробное слово своему кораблю, этот потомок древних мореплавателей, которым для существования, не грешившего избытком человеческих добродетелей требовалось на берегу только одно – твердая земля под ногами. Заслуги предков, мудрых мореходов, и простота собственного сердца подсказали ему слова этой прекрасной надгробной речи. В ней было все, что полагается – благочестивая вера, должная хвала благородному покойнику, поучительный перечень его заслуг. Пока судно его жило, капитан любил его. Но оно страдало – и он был рад, что оно нашло, наконец, успокоение. Прекрасная речь! И ортодоксальная притом по своей верности основному догмату моряков: «Суда все хороши». Кто живет морем, для того это от начала до конца должно оставаться символом веры. Украдкой поглядывая на капитана, я думал о том, что некоторые люди, пожалуй, по чести и совести достойны произносить надгробную хвалу верности кораблей в жизни и смерти.
Капитан сидел рядом со мной, сложив руки на коленях, и не произнес больше ни слова, не шевельнулся, пока не упала на шлюпку тень от парусов нашего корабля. Только громкое «ура», которым приветствовали на нем возвратившихся с призом победителей, заставило капитана поднять голову, и его хмурое лицо осветилось бледной улыбкой кроткого снисхождения.
Улыбка достойного потомка древних мореходов, чья дерзкая отвага не оставила следов величия и славы на водах океана, завершила круг моего посвящения. Бездонная глубина наследственной мудрости была в этой грустной улыбке, и детски наивным торжеством показались мне после нее веселые приветственные крики. Наша команда кричала «ура» с таким безграничным доверием. Честные души! Как будто можно когда-нибудь быть уверенным в победе над морем, которое предало столько кораблей с большим именем и столько гордых людей, похоронило столько неуемных стремлений к славе, могуществу, богатству, величию!
Когда я подвел шлюпку под тали, капитан нашего корабля в чудесном настроении перегнулся через перила, свесив красный покрытые веснушками руки, и крикнул мне из глубины своей бороды саркастическим тоном философа-циника:
– Значит ты все-таки не потопил шлюпку и привел ее обратно, а?
Сарказм был обычной манерой капитана, и в защиту можно сказать одно – что сарказм был не напускной, а искренний. Впрочем, это не делало его приятнее.
– Да. Привел ее в порядке, сэр, – отвечал я. И милейший капитан мне поверил. Он не способен был увидеть признаки моего «посвящения». А между тем я вернулся уже не тем юнцом, который сегодня утром спускал шлюпку, горя нетерпением вступить в состязание со смертью и завоевать приз – жизнь девяти человек.
Да, другими глазами глядел я теперь на море. Я узнал, что оно способно предать благородный пыл юности так же беспощадно, с таким же равнодушием к добру и злу, как предало бы самую низкую алчность и самый высокий героизм. Моей прежней веры в благородство и великодушие моря как не бывало. Я видел его теперь таким, как оно есть, – знал, что оно способно играть людьми, пока окончательно не сломит в них дух, и до смерти замучить крепкие суда. Ничто не трогает полной злобных замыслов души его. Для всех открытое и никому не верное, оно пускает в ход свои дивные чары для того, чтобы губить самое прекрасное. Любить его тяжело. Оно не знает верности данному обещанию, верности в беде, долгой дружбы и преданности. Оно постоянно сулит очень много. Но единственный путь к обладанию тем, что оно сулит, – энергия. Энергия ревнивая, не знающая сна и покоя, энергия и стойкость человека, стерегущего заветное сокровище в своем доме.
КОЛЫБЕЛЬ МОРЕПЛАВАНИЯ
XXXVII
Колыбель мореплавания и искусства морских сражений, Средиземное море, с именем которого связаны представления о славе и приключениях, этом общем наследии всего человечества, особенно дорого сердцу моряка. В этом море протекло раннее детство кораблей. Моряк смотрит на него с таким чувством, какое, вероятно, вызывает у человека детская в старом-престаром доме, где учились ходить бесчисленные поколения его семьи. Я говорю «его семьи», потому что в известном смысле все моряки – дети одной семьи: все они прямые потомки того предприимчивого волосатого предка, который, сев верхом на неотесанное бревно и гребя толстым суком, совершил первое каботажное плавание в закрытой бухте под восторженные крики всего своего племени. Да, моряки – братья. Остается лишь пожалеть о том, что члены морского братства, поколения которого учились в этой громадной детской ходить по палубе, не раз занимались здесь тем, что резали друг друга. Но, видно, такие крайности в жизни неизбежны. Не будь у людей склонности к убийству и другим неправедным действиям, история не знала бы героизма. Это мысль утешительная. И, кроме того, беспристрастно обозревая ряд кровопролитий, мы приходим к заключению, что значение их ничтожно. Вспомним все – от Саламина до Акциума, от Лепанто и Нила до морской резни при Наварине, не говоря уже о других, менее крупных вооруженных столкновениях. И что же? Вся кровь, героически пролитая в Средиземном море, не запятнала ни единым алым следом густую лазурь его классических вод.
Вы мне можете возразить, что битвы решали судьбу человечества. Однако вопрос, хорошо ли они ее решали, остается открытым. Вряд ли стоит об этом толковать. Весьма вероятно, что если бы битва при Саламине никогда не произошла, мир имел бы такой же точно облик, как сейчас, – облик, созданный влиянием посредственности и близорукими усилиями людей. На протяжении всей длинной цепи тяжких страданий, несправедливости, позора и насилий наибольшую власть над народами земли всегда имел страх – тот страх, который дешевая риторика легко превращает в ярость, ненависть и стремление к насилию. Самый невинный, простодушный страх послужил причиной многих войн. Конечно, я говорю не о страхе перед войной, ибо с эволюцией идей и чувств война стала, в конце концов, представляться людям какой-то полумистической эффектной церемонией с торжественным ритуалом и предварительными заклинаниями. Представление об истинной сущности войны утрачено народами. Понимать, в чем подлинный характер, этика и сила войны, может только человек с убором из перьев на голове, с продетым в нос кольцом или, еще лучше, с татуировкой на груди и спиленными зубами. К сожалению, вернуться к этим простым украшениям невозможно. Мы прикованы к колеснице прогресса. Возврата нет. И, в довершение наших бед, цивилизация, так много способствовавшая комфорту и украшению наших тел и развитию ума, сделала законное убийство – войну – ужасно, бессмысленно дорогим занятием.
Правительства всех стран подошли к вопросу об улучшении вооружения очень нервно, поспешно, необдуманно, тогда как правильный путь лежал у них перед глазами и нужно было спокойно и решительно пойти по этому пути: изобретателей соответствующей категории следовало вознаградить с достойно щедростью, как того требовала справедливость, за их ученые труды и ночные бдения, а тела этих господ разнести на клочки при помощи усовершенствованных ими взрывчатых веществ орудий. Проделать это нужно было публично и как можно огласить – из соображений простой осторожности. Таким образом, умерили бы пыл исследователей в этой области, не нарушив священных прав науки. Но наши вожди и повелители не захотели спокойно поразмыслить и не вступили на этот путь. Сторонник государственной экономии не может не испытывать чувства острой горечи при мысли о том, что во времена о при Акциуме (а сражались там не более не менее, как за господство над миром), флот Октавия Цезаря и флот Антония, включая сюда и Египетский дивизион, и галеру Клеопатры с пурпурными парусами, стоили, вероятно, меньше, чем два нынешних военных корабля, или, выражаясь современным книжным жаргоном, две боевые единицы. Но сколько ни употребляй этот неуклюжий жаргон, невозможно скрыть хорошо проверенных фактов, которые удручают всякого ученого экономиста. Вряд ли Средиземное море когда-нибудь еще увидит сражение с более крупными последствиями, чем имела битва при Акциуме. Но когда наступит время для следующей великой исторической битвы, дно Средиземного моря обогатится сокровищем, еще там невиданным: некоторым количеством железного лома, который обошелся дороже золота обманутому населению островов и материков нашей планеты.
XXXVIII
Счастлив, кто, подобно Улиссу, странствовал и переживал приключения. А для путешествий с приключениями нет более подходящего моря, чем Средиземное, которое древним казалось безграничным и полным чудес. И оно в самом деле было тогда таким: ибо это мы, люди, побуждаемые смелостью нашего ума и неугомонностью сердца, творим все чудеса и всю романтику мира.
Только для моряков Средиземного моря пели златокудрые сирены среди черных скал над шипящей белой пеной, и таинственные голоса слышались во мраке над бегущей волной, голоса грозные, манящие или пророческие, как голос, услышанный в начале христианской эры капитаном африканского судна в Сиртском заливе, где тихие ночи полны странного шепота и летающих теней. Голос окликнул капитана по имени и повелел ему идти и возвестить людям, что умер великий Пан. И великая легенда Средиземного моря, о которой поется в старых народных песнях, о которой важно повествует история, – живет до их пор в нашей памяти, чарующая и бессмертная.
Таинственное и страшное море, по которому странствовал хитроумный Улисс, на котором поднимали бурю разгневанные боги Олимпа, море, укрывавшее на своих островах свирепость диковинных чудовищ и хитрости необычайных женщин, дорога героев и мудрецов, воинов, пиратов и святых, будничное, прозаическое море карфагенских купцов и место развлечений римских цезарей, – это море чтит каждый моряк; ведь именно здесь родился тот дух смелого вызова великим водам земного шара, который и есть основное в профессии моряка. Уйдя отсюда на запад и на юг, как юноша, покидающий родительский дом, он нашел дорогу в Индию, открыл берега нового материка, и, наконец, пересек необъятный Тихий океан, щедро усеянный группами островов, далеких и таинственных, как плеяды звезд на небе.
Первое стремление людей к мореплаванию приняло конкретную форму в Средиземном море, где нет приливов и отливов, нет скрытых мелей и предательских течений, как будто кто-то умышленно очистил его в нежной заботе о начинающих мореходах. Крутые берега Средиземного моря благоприятствовали пионерам мореплавания в одном из самых дерзких предприятий человеческих. Это волшебное море классических приключений ведет человека осторожно от мыса к мысу, от бухты к бухте, от острова к острову – и вперед, в заманчивую ширь океанов за Геркулесовыми Столбами.
XXXIX
Очарование Средиземного моря сохранилось в незабываемом аромате моей пролетевшей молодости, и до сих пор это море, на котором одни только римляне властвовали неоспоримо, имеет для меня всю прелесть юношеской романтики.
Первую в моей жизни рождественскую ночь в море я провел при сильном шторме в Лионском заливе. Наше старое судно стонало и скрипело каждым шпангоутом, прыгало по крутым волнам, пока мы не довели его, запыхавшееся и здорово потрепанное, до подветренного берега Мальорки, где сильная рябь, предвестница бури, бороздила гладь залива под грозовым небом.
Мы – или, вернее сказать, мои товарищи, так как я до тех пор раза два только и видел соленую воду, – весь тот день вели судно вдоль берега, и я впервые в жизни с любопытством юности слушал, как поет ветер в парусах. Этим монотонным и вибрирующим звукам суждено было проникнуть мне в сердце, войти в плоть и кровь, и с тех пор они целых два десятилетия постоянным аккомпанементом сопровождали все мысли мои и действия, звучали неотвязным укором мирному очагу, вплетались в мирные сны, которые снятся под надежным кровом из балок и черепицы.
Ветер был попутный, но в тот день мы не вышли в открытое море. Наша посудина (не смею называть ее судном, второй раз за полчаса) дала течь. Вода просачивалась в нее со всех сторон, обильно, дружно, как в дырявую корзину. Я с увлечением принимал участие в общей суматохе, вызванной этим бедствием (последним признаком дряхлости у наших славных кораблей), мало беспокоясь о причинах и последствиях его. Позднее, в зрелые годы, я склонен был объяснять его тем, что почтенная наша старуха, устав от нескончаемо долгого существования, попросту зевала от скуки во все свои швы. Но в то время мне это не приходило в голову. Мне вообще тогда многое еще был понятно, и меньше всего я понимал, что я делаю на этой galère.
Помню, мой дядя (совершенно как в комедии Мольера) задал мне этот вопрос – буквально теми же словами, но не через лакея, как у Мольера, а в письме, посланном издалека. Снисходительно-насмешливый тон письма плохо скрывал трогательное, прямо-таки отцовское беспокойство обо мне. Я, кажется, пытался внушить дяде мое решительно ни на чем не основанное убеждение, что Вест-Индия ожидает моего прибытия. Я чувствовал, что должен попасть туда. Это был какой-то мистический зов, таинственное влечение. Но трудно было связно изложить такие мотивы моего решения дяде, человеку безграничен доброты, но и неумолимой логики.
Дело, вероятно, было в том, что, не обладая хитростью коварного грека, обманывавшего богов, любившего удивительных женщин, вызывавшего кровожадные тени, я, однако, мечтал начать свою собственную, еще неведомую Одиссею, которая, как полагается, должна была раскрыть мне ряд чудес и ужасов лишь по ту сторону Геркулесовых Столбов. Надменный океан не разверзся, чтобы поглотить меня, дерзкого, но «корабль», на котором я плыл, нелепая древняя галера моей безумной фантазии, расколдованная старая посудина, проявлял сильную склонность разинуть все свои швы и наглотаться соленой воды сколько влезет. Это был бы конец, если и менее грандиозный, то во всяком случае столь же катастрофический.
Однако катастрофы не произошло. Я остался жив и видел на чужеземном берегу юную чернокожую Навзикаю с веселой свитой дев, несших корзины с бельем к светлому ручью, в который гляделись верхушки стройных пальм. Яркие краски широких одежд, падавших красивыми складками, и золотые серьги в ушах придавали варварское великолепие этой группе девушек, легко выступавших в ливне дрожащих солнечных лучей. Белизна зубов ослепляла больше, чем блеск драгоценных камней в их ушах. Покрытая тенью ложбина освещалась их улыбками. Они держали себя свободно и смело, как принцессы, но – увы! – ни одна из них не была дочерью какого-нибудь черного царя. Такова уж моя злосчастная судьба, что я самую чуточку – всего на двадцать пять столетий – опоздал родиться и живу в мире, где короли вымирают со скандальной быстротой, а те немногие, что остались, усвоили себе самые заурядные манеры и обычаи обыкновенных миллионеров. И, разумеется, в конце XIX века я мог надеяться, что увижу особ королевской фамилии, несущих на головах корзины с бельем к светлому ручью под тенью пальм. Тщетная надежда! И если я не спрашивал себя, стоит ли жить, когда в жизни так мало возможностей и так много разочарований, так это только потому, что передо мной встали тогда другие неотложные вопросы. Некоторые из них и доныне ждут ответа.
Звонкие голоса и смех пышно одетых дев спугнули многочисленных колибри, и от трепетавших в воздухе хрупких крыльев верхушки кустов казались повитыми разноцветным туманом.
Нет, то не были принцессы. Их громкий смех, наполнявший жаркую, поросшую папоротником лощину, был как-то бездушно-прозрачен, как смех диких обитателей тропических лесов. И, следуя примеру некоторых осторожных путешественников, я ушел незамеченный и вернулся (это было немногим благоразумнее) на Средиземное море, море классических приключений.
«ТРЕМОЛИНО»
XL
Да, мне было суждено там, в этой школе предков-мореплавателей, научиться жить жизнью своего корабля и полюбить море любовью слепой, как часто любят в юности, но самозабвенной и всепоглощающей, какой только и может быть истинная любовь. Я ничего от него не требовал – даже приключений. В этом я, быть может, проявил больше интуитивной мудрости, чем высокого самоотречения: ибо никогда приключения не происходят «по заказу». Тот, кто отправляется специально на поиски приключений, попадет лишь в мертвый штиль, если только он не любимец богов или герой из героев, как благородный рыцарь Дон-Кихот Ламанчский. А мы, простые смертные, смиренные духом, готовые всегда более чем охотно пропустить злых великанов и пройти мимо честных мельниц, мы встречаем приключения, как ангелов с неба. Они сваливаются на нас, терпеливых и покладистых, совершенно неожиданно. По обычаю незваных гостей они часто являются не вовремя. И мы охотно даем им пройти мимо, не понимая, какую великую милость посылает нам судьба. А через много лет, на середине жизненного пути, оглядываясь на события прошлого, которые, как толпа друзей, смотрят печально вслед нам, спешащим к неведомым темным берегам, – мы иногда замечаем в этой серой толпе какой-нибудь образ, излучающий свет, как будто он вобрал в себя все сияние нашего уже сумеречного неба. И по этому сиянию мы иногда узнаем призраки настоящихприключений, некогда приходивших к нам и встреченных, как непрошеные гости.
Если Средиземное море, эта почтенная (хотя иногда и жестокая, и капризная) нянька всех мореплавателей, качало мою колыбель, то достать колыбель, необходимую для этой процедуры судьба поручила случайной компании безответственных молодых людей (все они были старше меня), которые, словно пьянея от солнца Прованса, растрачивали жизнь свою по примеру героев бальзаковской Histoire des Treize в пустом веселье, скрашенном лишь примесью романтики «плаща и шпаги».
Судно, служившее мне «колыбелью» в те годы юности, построено было на реке Савоне знаменитым кораблестроителем, оснащено на Корсике другим славным человеком и в документах называлось «тартана [5]в 60 тонн». На самом же деле это была отличная «balancelle» с двумя короткими мачтами, наклоненными вперед, и двумя изогнутыми реями, такой же длины, как парус. Настоящее дитя Латинского моря. Ее два огромных треугольных паруса напоминали заостренные крылья на легком теле морской птицы. Да и самое судно было похоже на птицу и не плыло, а летело по морю, едва касаясь воды.
Называлось оно «Тремолино». Как это перевести? «Трепещущий»? Что за имя для отважнейшего из корабликов, когда-либо нырявших в сердитой пене! Правда, я чувствовал ночью и днем, как он дрожит под моими ногами, но эта дрожь была от крайнего напряжения его неизменной отваги. За свою короткую, но блестящую жизнь «Тремолино» не научил меня ничему, но дал мне все. Ему я обязан пробуждением во мне любви к морю. Вместе с дрожью маленького быстрого тела «Тремолино» и песней ветра в его треугольных парусах море проникало мне в сердце с какой-то ласковой настойчивостью и подчинило мое воображение своей деспотической власти. Тремолино! Доныне стоит мне произнести вслух или даже написать это имя, – и смешанное чувство, робость и блаженство первой страсти, теснит мне грудь.
XLI
Мы вчетвером составляли (если употребить термин, который в наше время известен в любом кругу общества) «синдикат», владельцев «Тремолино». Синдикат весьма любопытный и по составу своему интернациональный. Все мы – бог знает почему! – были ревностные роялисты белоснежного легитимистского оттенка. В каждой компании обычно есть кто-нибудь, кто по возрасту или опыту и уму является авторитетом для других, и он определяет коллективный характер всей компании. Думаю, что вы получите достаточное представление о нашей коллективной мудрости, если я скажу, что самый старший из нас был очень стар, невероятно стар – ему было около тридцати лет! – и он любил с величавой небрежностью заявлять, что «живет своим мечом». Это был джентльмен из Северной Каролины (инициалы его Д. М. К. Б.) и, насколько я знаю, он действительно «жил своим мечом». Он и умер от меча – позднее, сражаясь на Балканах, сражаясь в рядах не то сербов, не то болгар, хотя и те и другие не католики и не джентльмены, – по крайней мере в том возвышенном, но узком смысле, какой он придавал слову «джентльмен».
Бедный Д. М. К. Б.! «Американец, католик и дворянин» – так он любил характеризовать себя в минуты лирических излияний. Интересно знать, водятся ли еще в Европе такие джентльмены с энергичным лицом, изящным и легким телом, аристократической осанкой, чарующими светскими манерами и мрачным «роковым» взором, – джентльмены, которых кормит их меч? Родные Д. М. К. Б., кажется, разорились во время гражданской войны и лет десять, а то и больше, скитались по Старому Свету.
Вторым по возрасту и мудрости в нашей компании был Генри Ц., который взбунтовался против непреклонной строгости своих родных, прочно обосновавшихся, если память мне не изменяет, в одном из респектабельных предместий Лондона, – и вырвался на свободу. Уважая авторитетное мнение родни, он всем новым знакомым кратко рекомендовался «беспутным шалопаем». Никогда я не видывал более простодушный экземпляр блудного сына!
Впрочем, его родные время от времени милостиво посылали ему немного денег. Влюбленный в юг, в Прованс, в его людей, его жизнь, его солнце и поэзию, узкогрудый, высокий и близорукий Генри бродил по улицам и переулкам, уткнув бледный нос и рыжеватые усики в раскрытую книгу, и его длинные ноги далеко опережали туловище. Такая у него была привычка – читать на ходу. Как он ни разу не свалился с обрыва или с набережной в воду, или не слетел с лестницы, – для меня остается загадкой. Карманы пальто у него всегда оттопыривались, набитые карманными изданиями разных поэтов. Когда он не был занят чтением Вергилия, Гомера или Мистраля в парках, ресторанах, на улицах и в тому подобных общественных местах, он сочинял сонеты (на французском языке) глазам, ушам, подбородку, волосам и другим видимым прелестям одной нимфы по имени Тереза. Честность обязывает меня сказать, что то была дочь некой мадам Леоноры, хозяйки маленького кафе для матросов в одном из самых узких переулков старого города.
Никогда еще такая очаровательная головка с лицом точеным, как античная гемма, и нежно-розовым, как лепесток цветка, не украшала девичьего тела – у Терезы, увы, несколько короткого и полного. Наш Генри с наивностью ребенка и тщеславием поэта читал ей в кафе свои стихи. Мы ходили с ним туда очень охотно, чтобы хоть услышать смех божественной Терезы и полюбоваться ею (под бдительным оком мадам Леоноры, ее матери). Тереза смеялась очень мило – не столько над сонетами, которые она не могла не оценить, сколько над говором бедняги Генри, и в самом деле весьма своеобразным, напоминавшим птичьи трели, если птицы когда-нибудь поют заикаясь и в нос.
Третьим членом нашего «синдиката» был Роже де ля С., провансалец с наружностью скандинава, белокурый и ростом шесть футов, как подобает потомку древних скандинавов, рыскавших по морям. Властный, язвительно остроумный и всех презиравший, он носил в кармане трехактную комедию, а в груди – сердце, разбитое безнадежной любовью к прекрасной кузине, которая вышла замуж за богатого торговца шкурами и салом. Роже бесцеремонно водил нас к ним в дом завтракать. Я восторгался ангельским терпением этой доброй женщины. Муж ее был человек миролюбивый, с большим запасом добродушия, которое он распространял и на нас, «друзей Роже». Я подозреваю, что в глубине души он бывал ужасно шокирован этими нашествиями. Но у них был карлистский салон, и поэтому нас, карлистов, принимали любезно. Здесь усердно обсуждалась возможность восстания в Каталонии в пользу Rey neto, который только что перешел тогда Пиренеи.
У дона Карлоса, вероятно, было много самых оригинальных сторонников (такова общая участь всех претендентов на престол), но среди них не было никого экстравагантнее и фантастичнее владельцев «Тремолино», которые обычно собирались в одной из таверн на набережной старого порта. Древний город Марсель, наверное, со времен первых финикиян не видал такой странной компании судовладельцев. Мы встречались, чтобы обсудить и наметить план действий перед каждым рейсом «Тремолино». В наших операциях участвовал и один банкирский дом – весьма солидное учреждение… Однако боюсь, как бы не наболтать лишнего! Замешаны тут были и дамы (нет, право, я боюсь быть нескромным!), дамы всех сортов: одни в таком возрасте, когда уже не возлагаешь надежд на принцев, другие – молодые и полные иллюзий.
Одна из наших знакомых дам удивительно забавно передразнивала в тайных беседах с нами разных высокопоставленных особ, к которым она беспрестанно мчалась в Париж для переговоров об участии в нашем деле – Por el Rey! Ибо дама была карлистка и притом баскской крови. В выражении ее задорного лица было что-то львиное (в особенности когда она распускала волосы), а в груди у нее билось ветреное сердечко воробья, наряженного в красивые парижские перья, которые имели обыкновение скандальным образом слетать с нее в самые неожиданные моменты.
Она так замечательно подражала одному очень видному парижскому сановнику, что слушатели (если они были молоды и не знали забот) покатывались со смеху. Она уморительно представляла, как он стоит в углу комнаты лицом к стене, чешет затылок и только бормочет «Рита, вы меня погубите». У этой Риты был дядя, священник маленького горного прихода. Так как я был единственный член синдиката, плававший на «Тремолино», то мне обычно поручали передавать от Риты смиренные и нежные письма этому старому дяде. Письма я должен был доставлять арагонским погонщикам мулов – они всегда в указанное время дожидалась «Тремолино» неподалеку от залива Роз и честно переплавляли письма в глубь страны вместе с различными запретными товарами, которые тайно выгружались на берег из трюма «Тремолино».
Ну, вот, недаром я боялся, что в конце концов проболтаюсь насчет обычного содержимого моей морской «колыбели»: так оно и вышло! Но оставим это. И если кто-нибудь цинично заметит, что я, видно, был в то время многообещающим юношей, – что ж, все равно. Для меня одно важно – чтобы не пострадало доброе имя нашего «Тремолино», и я утверждаю, что корабль всегда неповинен в грехах, проступках и безумствах людей, плавающих на нем.
XLII
«Тремолино» не был виноват в том, что «синдикат» так полагался на ум, ловкость и осведомленность доньи Риты. Она «в интересах дела» снимала на Прадо небольшой домик с мебелью. Она всегда снимала домики для кого-нибудь – для больных или несчастных, для ушедших со сцены артистов, проигравшихся дочиста игроков, спекулянтов, которым временно не везло, – все это были vieux amis, старые друзья, как она объясняла заискивающим тоном, пожимая красивыми плечами.
Трудно сказать, был ли дон Карлос тоже в числе этих «старых друзей». В курительных рассказывали много неправдоподобного. Я знаю только то, что раз вечером, когда я неосторожно вошел в гостиную Риты, после того как новость о большом успехе карлистов дошла до ушей верующих, меня кто-то вдруг обхватил за шею и вокруг пояса и вихрем закружил по комнате под грохот опрокидываемой мебели и звуки вальса, который напевало теплое контральто.
Когда после трех туров вокруг комнаты меня выпустили из туманивших голову объятий, я неожиданно для себя самого сел прямо на пол, на ковер. В такой далеко не эффектной позе и застал меня вошедший Д. М. К. Б., элегантный, корректный и суровый, в белом галстуке и открытой крахмальной манишке. Я нечаянно подслушал, как в ответ на его вопросительный взгляд, вежливо-зловещий и долгий, донья Рита прошептала с некоторым смущением и досадой:
«Vous êtes bête, mon cher. Voyons! Ca n'a aucune conséquence.» [6]
Я был очень доволен тем, что «ровно ничего не значу» для нее, и так как имел уже в то время некоторый жизненный опыт, то не растерялся.
Поправляя воротничок, я развязно сказал, что зашел проститься, так как сегодня ночью ухожу в море на «Тремолино». Хозяйка, еще немного запыхавшись и чуточку растрепанная, обратилась к Д. М. К. Б. язвительным тоном и пожелала узнать, когда же он на «Тремолино» или другим путем отправится, наконец, в штаб принца. Она осведомилась с иронией, не намерен ли он сидеть здесь и ждать до самого вступления принца в Мадрид. Таким образом, умело соединив такт со строгостью, мы с ней восстановили спокойную атмосферу в комнате и я ушел от них около полуночи, после нежного примирения.
Сойдя вниз, в гавань, я обычным тихим свистом подал сигнал «Тремолино» с конца набережной. Это был наш условный знак и padrone, бдительный Доминик, всегда слышал его. Он молча поднимал фонарь и освещал мне дорогу по узкой доске нашего примитивного трапа. «Итак, мы отчаливаем», – говорил он тихо, как только нога моя ступала на палубу. Я был всегда вестником внезапных отплытий, но ничто в мире не могло застать врасплох Доминика. В его густых черных усах (которые он каждое утро завивал щипцами в парикмахерской на углу), казалось, всегда пряталась улыбка. Но, я думаю, никто никогда не видел формы его губ. Наблюдая медлительную, невозмутимую серьезность этого широкоплечего мужчины, можно было подумать, что он ни разу в жизни не улыбнулся. В глазах светилась беспощадная ирония, как у человека, чрезвычайно много видевшего в жизни. А манера слегка раздувать ноздри придавала бронзовому лицу Доминика удивительно наглое выражение. Это было единственное движение в лице всегда осторожного и серьезного южанина. Черные волосы слегка курчавились у висков. На вид ему было лет сорок, и он много плавал по Средиземному морю.
Хитрый и бессердечный, он мог бы соперничать в находчивости со злосчастным сыном Лаэрта и Антиклеи. Если он на своем суденышке не искушал дерзостью самих богов, то только потому, что боги Олимпа мертвы. И уж, конечно, ни одной женщины Доминик не испугался бы. Даже одноглазый титан не имел бы ни малейшего шанса внушить страх Доминику Кервони с Корсики – заметьте, не с Итаки – и ни один король, потомок королей, тоже.








