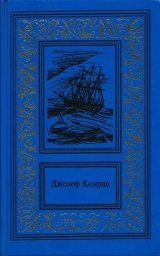
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 52 страниц)
В ту ночь впервые мирный и цветущий Самбир увидал огни вокруг «Каприза» Олмэйра. То были фонари с лодок, развешанные матросами на веранде, где оба офицера производили дознание, пытаясь установить степень достоверности рассказа Бабалачи. Бабалачи снова сделался важной персоной. Он был красноречив и убедителен, призывал небо и землю в свидетели своей правдивости. Нашлись и другие свидетели. Махмуд Банджер и многие другие были подвергнуты подробному допросу, длительному и скучному, затянувшемуся до позднего вечера. Послали нарочного за Абдуллой; тот отговорился дряхлостью лет, но прислал Решида. Махмуд вынужден был предъявить браслет и с бешенством и горечью увидел, как лейтенант положил его к себе в карман в качестве одного из вещественных доказательств смерти Дэйна, которые надлежало представить по начальству вместе с официальным рапортом комиссии. Перстень Бабалачи был отобран для той же надобности; но опытный государственный муж с самого начала примирился с этой потерей. Ему не жаль было потерять кольцо, лишь бы убедить белых людей. Удалось ли это? Он серьезно задавал себе этот вопрос, когда одним из последних собрался домой по окончании процедуры. Он не был вполне уверен в этом. Впрочем, хотя бы они поверили только на одну ночь – и то он уже успеет спровадить Дэйна подальше от их рук и тем обезопасит и себя. Он поспешно удалился, часто поглядывая назад, потому что опасался, что за ним будут следить, но ничего подозрительного не услыхал и не увидел.
– Десять часов, – заметил лейтенант, поглядев на часы и зевая. – Воображаю, каких любезностей я наслушаюсь от капитана по возвращении. Пренеприятная история.
– Правда ли все это? Как вы думаете? – спросил его младший товарищ.
– Правда ли? Все это правдоподобно – но и только. Впрочем, если бы даже оказалось, что тут одно сплошное вранье, то что же мы можем сделать? Будь у нас дюжина лодок, мы могли бы обыскать все протоки и ручьи; да и то мало вышло бы толку. Этот сумасшедший пьяница совершенно прав, – мы недостаточно прочно владеем побережьем. Эти люди что хотят, то и делают. Повешены ли наши гамаки?
– Да, я приказал боцману распорядиться на этот счет. А странная это парочка, – сказал младший офицер, махнув рукой в сторону дома Олмэйра.
– Гм! Действительно странная! Чего вы ей там наговорили? Я почти все время возился с отцом.
– Уверяю вас, что я был вполне корректен, – горячо запротестовал тот.
– Ладно, ладно, не волнуйтесь. В таком случае, она просто не терпит корректности. Я уж думал, что вы позволили себе какие-нибудь нежности. Помните, что мы находимся в служебной командировке.
– Ну, разумеется. Никогда этого не забываю. Был холодно – вежлив – и только.
Они еще посмеялись немного, а потом вместе принялись расхаживать по веранде, так как спать им еще не хотелось. Луна украдкой всплыла над деревьями и во мгновение ока превратила реку в поток сверкающего серебра. Лес выступил из темноты и стоял, мрачный и задумчивый, над блестящей водой. Ветерок замер, воцарилось спокойствие.
Как истые моряки, оба офицера молча шагали взад и вперед. Расшатанные доски равномерно колыхались под их шагами, сухим своим треском нарушая глубокую тишину ночи. В ту минуту, как они снова поворачивали назад, младший из них остановился и насторожился.
– Вы слышали? – спросил он.
– Нет, – сказал другой. – А что?
– Мне показалось, что раздался крик. Совсем слабый. Мне даже думается, что это был женский голос. В том вон доме. А! Вот опять! Слышите?
– Нет, – сказал лейтенант, прислушавшись, – Вам, молодежи, вечно чудятся женские голоса. Ложитесь-ка лучше спать, вам уж и то сны снятся. Спокойной ночи.
Луна поднималась все выше и выше, а теплые тени все уменьшались и уходили подальше, словно прячась от ее холодного, безжалостного света.
ГЛАВА Х
– Наконец-то оно закатилось, – сказала Найна матери, указывая на холмы, за которые зашло солнце. – Слушай, мать. Я сейчас еду в ручей Буланджи, и если я не вернусь…
Она запнулась, и что-то похожее на сомнение затмило на минуту огонь скрытого возбуждения, который пылал в ее очах и озарял ясное бесстрастие ее лица отблеском могучей жизни в течение всего этого долгого, бурного дня – дня радости и тревоги, надежды и ужаса, смутной скорби и неясного упоения. Покуда сияло ослепительное солнце, под которым любовь ее родилась и вырастала во всепокоряющее чувство, ее решение поддерживалось в ней таинственным шепотом желания; это желание наполняло ее сердце нетерпеливым ожиданием темноты, знаменовавшей собой конец опасностей и борьбы, начало счастья, завершение любви, полноту жизни. Наконец-то оно закатилось! Короткие тропические сумерки погасли прежде, чем она успела испустить глубокий вздох облегчения; и вдруг теперь мгновенный мрак наполнился грозными голосами, призывавшими ее броситься очертя голову навстречу неизвестности, быть верной своим собственным побуждениям, отдаться страсти, ею самой вызванной и взлелеянной. Он ждал! В безлюдье уединенной поляны, в безбрежном молчании лесов, он одиноко ждал ее, он, беглец, дрожащий за свою жизнь. Равнодушный к опасности, он ждал ее. Только ради нее он вернулся сюда; и вот теперь, когда приближался для него миг награды, она смущенно спрашивала себя, что означало это леденящее душу сомнение в ее собственной воле, в ее собственном желании. Она превозмогла себя и стряхнула страх, вызванный мимолетной слабостью. Он должен получить свою награду. Ее женская любовь и честь победили трепетное сомнение в неведомой будущности, сторожившей ее во мраке реки.
– Нет, ты не вернешься, – пророчески молвила миссис Олмэйр. – Без тебя он не уедет, а если он останется здесь, то… – она махнула рукой в сторону огней «Каприза», и недоговоренная фраза замерла в угрожающем шепоте.
Обе женщины сошлись за домом и теперь медленно направлялись вдвоем к ручью, где были привязаны все лодки. Дойдя до живой изгороди кустарников, они разом остановились. Миссис Олмэйр взяла дочь за руку, тщетно стараясь заглянуть ей в лицо. Когда же она хотела заговорить, то первые ее слова были заглушены подавленным рыданием, странно звучавшим в устах этой женщины, изо всех человеческих страстей знавшей, по-видимому, только гнев и ненависть.
– Ты уезжаешь, чтобы стать великой царицей, – сказала она наконец совершенно уже твердым голосом, – и если ты будешь умна, то приобретешь могущество, которое продлится много лет и которого ты не утратишь даже в старости. Чем я была в жизни? Вечной рабой и варила рис для мужа, лишенного доблести и разума. Увы! Воин и вождь подарил меня человеку, не бывшему ни тем, ни другим. Горе, горе!
Она тихо заголосила, оплакивая погибшие возможности убийств и злодеяний, которые выпали бы ей на долю, если бы судьба соединила ее с родственным ей по духу существом. Найна склонилась над тощей фигурой миссис Олмэйр и при свете звезд, высыпавших посмотреть на эту странную разлуку, внимательно разглядывала ее сморщенные черты, глубоко вглядывалась в ее впалые глаза, прозревавшие ее собственную будущность при свете долгого и тяжелого опыта. Как и встарь, она снова поддалась обаянию экзальтированных и пророчески уверенных материнских речей. Эти свойства, вместе с присущими ей припадками исступления, немало способствовали тому, что за миссис Олмэйр упрочилась репутация колдуньи.
– Я была рабой, а ты будешь царицей, – продолжала миссис Олмэйр, глядя прямо перед собой. – Только помни всегда, в чем сила и в чем слабость мужчины. Трепещи его гнева, дабы видел он страх твой, покуда светит день, но смейся в душе, ибо он – раб твой после заката солнца.
– Раб! Он! Владыка жизни! Ты не знаешь его, мать.
Миссис Олмэйр снизошла до презрительного смеха.
– Ты говоришь, как безрассудная белая женщина, – воскликнула она, – Что ты знаешь о мужском гневе и мужской любви? Видала ли ты, как спят мужи, утомленные убийством? Испытала ли ты когда-нибудь объятие могучей руки, умеющей глубоко вонзить кинжал в бьющееся сердце? Да что там говорить! Ты – белая женщина, тебе бы только молиться богу-женщине!
– Зачем так говорить? Я так долго слушала тебя, что забыла свою прежнюю жизнь. Если бы я действительно была белой, разве я стояла бы здесь, готовясь к бегству? Мать, я вернусь в дом и в последний раз взгляну в лицо моего отца.
– Нет, – яростно возразила миссис Олмэйр. – Нет, он спит теперь пьяным сном, а если ты вернешься, он может проснуться и увидать тебя. Нет, он никогда больше не увидится с тобой. Когда ты была малюткой, а ужасный старик отнял тебя у меня, ты помнишь…
– Это было так давно! – прошептала Найна.
– Но я-то помню, – страстно продолжала миссис Олмэйр. – Мне хотелось еще раз взглянуть на тебя. Он отказал. Я слышала твой плач и бросилась в реку. В то время ты была его дочерью, теперь ты – мое дитя. Ты никогда больше не войдешь в тот ном, ты никогда больше не перейдешь через этот двор. Нет, нет!
Она повысила голос почти до крика. По ту сторону ручья зашелестела трава. Обе женщины уловили этот шорох и некото– |юе время прислушивались в безмолвном испуге.
– А я все-таки пойду, – сказала Найна осторожным, но явственным шепотом. – Какое мне дело до твоей ненависти или мести?
И она двинулась к дому, но миссис Олмэйр вцепилась в дочь, стараясь удержать ее.
– Стой, ты не пойдешь туда, – твердила она, задыхаясь.
Найна нетерпеливо оттолкнула мать и подобрала юбки, готовясь бежать, но миссис Олмэйр забежала вперед и стала к дочери лицом, раскинув руки.
– Еще один только шаг, – воскликнула она, быстро переводя дыхание, – и я закричу. Ты видишь освещение в большом доме? Там сидят двое белых людей, разъяренных тем, что им не удалось пролить кровь твоего возлюбленного. А в этих темных домах, – продолжала она уже спокойнее и указала в сторону поселка, – мой голос пробудит людей, которые проводят воинов оранг-бланда к тому, кто ждет тебя.
Ей не видно было лица дочери, но белая фигура молча и нерешительно стояла перед ней в темноте. Миссис Олмэйр ухватилась за свой шанс на успех.
– Откажись от своей прежней жизни! Забудь! – заговорила она умоляющим голосом, – Забудь, что ты когда-то видела белые лица; забудь их речи; забудь их мысли. Они говорят неправду, они думают неправду, ибо презирают нас, которые лучше их, но слабее. Забудь их дружбу и их презрение, забудь их многочисленных богов. Зачем тебе помнить прошлое, когда вождь народов и воин готов отдать множество жизней – свою собственную жизнь – за одну твою улыбку?
И говоря так, она тихонько толкала дочь к челнокам, скрывая свой собственный страх, волнение, сомнения под потоком страстных речей, не дававших Найне ни времени, ни возможности подумать или противиться, даже если бы ей этого и хотелось. Но ей этого уже больше и не хотелось. Ее мимолетное желание взглянуть напоследок на отца не было вызвано какой-либо сильной привязанностью. Совесть не упрекала ее за то, что она так внезапно покинет этого человека, чувства которого к себе она не понимала, даже не видела. В ней говорила только инстинктивная привязанность к прежней жизни, давним привычкам, знакомым лицам, та боязнь перед окончательным, которая таится в груди у всякого человека и пресекает в корне множество деяний и поступков как героических, так и преступных. В течение целого ряда лет она жила между матерью и отцом, из которых первая была так сильна в своей слабости, а второй – так слаб там, где мог бы проявить себя таким сильным. Между этими двумя существами, столь несходными, столь враждебными, она стояла равнодушно, испытывая только чувство недоумения и гнева по поводу своего собственного существования. Ей казалось чем-то таким бессмысленным, таким унизительным быть заброшенной в эту деревушку и видеть, как дни один за другим уходят в прошлое, не принося с собой ни надежд, ни желаний, ни цели, которые оправдали бы ту бесконечно томительную жизнь, на которую она была обречена. Она плохо верила в мечты своего отца и не сочувствовала им; зато дикий бред ее матери задевал какие-то ответные струны в самой глубине ее отчаявшегося сердца, и она грезила собственными грезами с упорной сосредоточенностью узника, мечтающего о свободе в стенах своей тюремной кельи. С приходом Дэйна ей открылся путь к свободе, – стоило только повиноваться зарождавшимся в ней новым стремлениям. К ее радостному изумлению, ей казалось, что она читает в его очах ответ на все запросы своего сердца. Теперь ей стали ясны смысл и цель жизни, и перед лицом этой торжественно разоблаченной тайны она с презрением отринула свое прошлое с его унылыми думами, горькими чувствами и слабенькими привязанностями, поблекшими и погибшими от соприкосновения с пламенной страстью. Миссис Олмэйр отвязала челнок Найны и с трудом выпрямилась, держа в руке канат и глядя на дочь.
– Скорее, – сказала она, – уезжай, пока луна еще не взошла и на реке темно. Я боюсь невольников Абдуллы. Негодяи часто бродят по ночам и могут заметить и проследить тебя. В челноке два весла.
Найна подошла к матери и робко и легко коснулась губами ее морщинистого лба. Миссис Олмэйр презрительно фыркнула в ответ на эту ласку, которая, однако, она чувствовала, может, пожалуй, вызвать такой же ответ.
– Увижу ли я тебя когда-нибудь, мать? – спросила Найна.
– Нет, – отвечала миссис Олмэйр после короткого молчания. – Тебе незачем возвращаться сюда, где суждено умереть мне. Ты будешь жить далеко отсюда, жить в могуществе и славе. Когда я услышу о том, что белые люди изгоняются с наших островов, тогда я пойму, что ты жива и помнишь мои слова.
– Я всегда буду их помнить, – отвечала Найна серьезно, – но в чем моя сила и что я могу сделать?
– Не позволяй ему слишком долго смотреть себе в очи или покоить голову у тебя на коленях, напоминай ему, что мужчина должен прежде всего сражаться, а потом уже отдыхать. Если же он будет медлить, то сама подай ему его меч и прикажи ему идти, как подобает жене могущественного государя, когда приближается враг. Пусть он избивает белых торгашей, приходящих к нам с молитвами на устах и с заряженными ружьями в руках. Ах, – заключила она со вздохом, – они рассеяны по всем морям и по всем берегам; и как их много!
Она повернула челнок по направлению к реке, но продолжала опираться на борт рукой в задумчивой нерешительности. Найна уперлась в берег веслом, готовая оттолкнуться на середину потока.
– Что это, мать? – тихо спросила она, – Слышала ты или нет?
– Нет, – отвечала рассеянно миссис Олмэйр, – Слушай, Найна, – резко прибавила она после небольшой паузы, – впоследствии, кроме тебя, будут и другие женщины…
Подавленный крик раздался в лодке, и весло с грохотом покатилось на дно челнока. Найна выронила его, протянув вперед руки в жесте протеста и отрицания. Миссис Олмэйр упала на колени и перегнулась через борт челнока, приблизив лицо свое к лицу дочери.
– Другие женщины будут непременно, – твердо повторила она. – Я потому говорю тебе об этом, что ты наполовину белая и можешь забыть, что он великий государь и что так оно и должно быть. Скрывай свою злобу, и пусть он никогда не прочтет на твоем лице скорбь, снедающую твое сердце. Встречай его всегда с радостью во взоре и со словами мудрости на устах, ибо к тебе прибегнет он во дни скорби и сомнений. Пока он обращает взор свой на многих женщин, до тех пор твоя власть непоколебима; но если только появится одна, с которой он начнет забывать тебя…
– Я этого не переживу! – воскликнула Найна и закрыла лицо обеими руками. – Не говори так, мать. Это невозможно.
– Тогда, – твердо продолжала миссис Олмэйр, – тогда, Найна, не щади этой женщины.
Ухватившись за борт, она проталкивала челнок в сторону потока.
– Ты, кажется, плачешь? – сурово спросила она у дочери, сидевшей с прижатыми к лицу руками. – Вставай и берись за весло; он довольно ждал. И помни, Найна, – не давай пощады; а если тебе придется наносить удар, то наноси его твердой рукой.
Она собралась с силами и, перегнувшись всем телом над водой, вытолкнула легкую лодочку далеко в реку. Когда же она оправилась от сделанного ею усилия, то напрасно пыталась отыскать глазами челнок; он исчез, точно растворился в белом тумане, нависшем над теплыми водами Пантэя. Миссис Олмэйр постояла еще на коленях, прислушиваясь; потом тяжело вздохнула и поднялась на ноги. Две слезы медленно скатились по ее увядшим щекам. Она поспешила отереть их прядью своих седых волос, точно стыдясь самой себя, но так и не смогла подавить другого глубокого вздоха; у нее было тяжело на сердце, и она сильно страдала, так как не привыкла к таким нежным переживаниям. На этот раз ей почудилось, что она слышит легкий шум, как бы отголосок своего собственного вздоха, и она замерла на месте, напрягая слух, чтобы уловить малейший шорох, и с опасением поглядывая на окружающие ее кусты.
– Кто там? – спросила она дрогнувшим голосом, в то время как ее воображение населяло речной берег какими-то призрачными видениями, – Кто там? – повторила она чуть слышно.
Ответа не было. Только река продолжала уныло и однозвучно журчать за белым покровом, то повышая голос на минуту, то снова понижая его до тихого плеска разбивающихся о берег струек.
Миссис Олмэйр покачала головой, словно отвечая на свои собственные мысли, и торопливо пошла прочь от кустов, зорко осматриваясь по сторонам. Она направилась прямо к кухонному навесу, так как заметила, что остатки огня тлеют там ярче обыкновенного, точно кто-то подбросил на них свежего топлива в течение вечера. Ей навстречу поднялся Бабалачи, сидевший на корточках в теплом сиянии, и вышел к ней в тень.
– Уехала она? – быстро спросил озабоченный сановник.
– Да, – отвечала миссис Олмэйр, – А что делают белые люди? Когда ты оставил их?
– Думается мне, что они теперь уже спят. Хоть бы они никогда не просыпались! – с жаром воскликнул Бабалачи. – О, это сущие дьяволы! И какого шума они наделали из-за этой злосчастной падали! Главный вождь дважды замахнулся на меня и грозил привязать меня к дереву. Привязать к дереву! Меня! – повторял он, колотя себя в грудь рукой.
Миссис Олмэйр язвительно расхохоталась.
– А ты кланялся и просил пощады! Мужи, владеющие оружием, иначе вели себя во дни моей молодости.
– А где они теперь, мужи твоей юности, безумная ты женщина? – сердито возразил Бабалачи. – Перебиты голландцами! Ага! Но я еще и не так проведу их. Настоящий мужчина знает, когда надо сражаться, а когда мирно лгать. Не будь ты женщиной, ты и сама бы это знала.
Но миссис Олмэйр не слушала его. Она нагнулась вперед, протянула руку и, казалось, прислушивалась к какому-то шороху за навесом.
– Какие странные звуки, – прошептала она с явным беспокойством. – В воздухе носятся звуки скорби, как будто кто-то вздыхает и плачет. Я уже слышала это на берегу реки; и вот сейчас опять.
– Где? – спросил Бабалачи дрогнувшим голосом. – И что ты слышала?
– Где? Совсем поблизости. Точно кто-то протяжно вздохнул. Как жаль, что я не сожгла бумагу над трупом прежде, чем его зарыли.
– Да, – согласился Бабалачи. – Но белые люди сразу же бросили его в яму. Но ведь ты знаешь, что смерть постигла его на реке, – весело прибавил он, – его призрак может окликать челноки, но не смеет показываться на суше.
Миссис Олмэйр, выгнувшая шею, чтобы заглянуть за угол навеса, втянула голову обратно.
– Там никого нет, – сказала она успокоенным тоном. – Не пора ли боевой лодке раджи отправляться к лесной поляне?
– Я дожидался ее здесь, потому что сам туда поеду, – объяснил Бабалачи, – Но я, пожалуй, переправлюсь на ту сторону и посмотрю, что их там задержало. А когда ты приедешь? Раджа согласен укрыть тебя.
– Я переправлюсь через реку еще до рассвета, я не хочу оставлять здесь моих долларов, – молвила миссис Олмэйр.
Они расстались. Бабалачи пересек двор по направлению к ручью, чтобы отвязать свой челнок, а миссис Олмэйр медленно пошла к дому, поднялась по дощатому скату, прошла через заднюю веранду и вступила в коридор, ведший на переднюю площадку; однако в дверях она еще раз оглянулась на пустой и безмолвный двор, озаряемый теперь лучами восходящего месяца. Но не успела она скрыться, как неясная фигура вынырнула из – за стволов банановой рощицы, промчалась через освещенное луной пространство и упала в тени у подножия веранды. Могло показаться, будто то мелькнула тень от облака, – так скор и бесшумен был ее бег, если бы не след, легший по потревоженной траве, перистые стебли которой долго еще качались и дрожали в лунном сиянии, прежде чем снова застыли в неподвижном сверкании, подобно серебристому узору, вышитому по темному фону.
Миссис Олмэйр зажгла светильник из кокосового ореха, осторожно приподняла красную занавесь и посмотрела на своего мужа, заслонив свет рукой. Олмэйр развалился в кресле; одна рука его свисала вниз, другой он прикрыл нижнюю часть лица, как бы защищаясь от какого-то невидимого врага, ноги он вытянул прямо перед собой и спал тяжелым сном, не чувствуя на себе враждебного взгляда, изучавшего его. Опрокинутый стол валялся у его ног среди груды разбитых бутылок и посуды. Можно было подумать, что здесь недавно происходила отчаянная борьба. Это впечатление усиливалось видом стульев, разбросанных по всей веранде и своими беспорядочными и жалкими позами напоминавших пьяных. Только большая качалка Найны, неподвижно черневшая на своих высоких полозьях, возвышалась над хаосом раскинутой мебели, с неизменным достоинством и терпением поджидая свою госпожу.
Взглянув в последний раз с ненавистью на спящего, миссис Олмэйр прошла за занавесью в свою собственную комнату. Две летучих мыши, ободренные темнотой и спокойствием, снова начали молчаливо носиться около головы Олмэйра. Долгое время ничто не нарушало глубокой тишины дома, кроме тяжелого дыхания спящего и тихого звона серебра в руках готовящейся к побегу женщины. Месяц стоял высоко над ночным туманом, и в его возрастающем свете все предметы на веранде резко выделялись черными теневыми пятнами со всем откровенным безобразием беспорядка; героически-огромная карикатура на спящего Олмэйра появилась за его спиной на грязной стенной штукатурке с фантастически преувеличенными подробностями. Недовольные летучие мыши отправились искать более темного местечка; выползла ящерица на свет, двигаясь короткими, пугливыми бросками; ей понравилась белизна скатерти, и она застыла на ней в бездыханной неподвижности, которая походила бы на смерть, если бы не мелодичные призывы, которыми она обменивалась с другим, менее смелым товарищем, прятавшимся во дворе в мусоре. Потом в коридоре заскрипели половицы, ящерица скрылась, а Олмэйр беспокойно задвигался и начал вздыхать; мало-помалу от бесчувственного небытия пьяного сна через тревожную полудремоту он переходил к пробуждению. Под гнетом кошмара голова Олмэйра закачалась из стороны в сторону. Небеса опустились на него, подобно тяжелой мантии, и их складки, усеянные звездами, влачились далеко под ним. Звезды над ним, звезды вокруг него; а из толпы созвездий у его ног до него доносился лепет, полный мольбы и слез, и скорбные лица мелькали перед ним среди ярких клубов света, наполнявших бесконечное пространство внизу. Как избавиться от назойливых и жалобных воплей и от неподвижных печальных взглядов этих столпившихся вокруг него лиц? Олмэйру казалось, что он задыхается под давящей тяжестью миров, навалившихся на его ноющие плечи. Только бы уйти! Но как? Если он пошевельнется, то ступит в ничто и погибнет в грохочущем крушении того мироздания, которому служит единственной опорой. Что говорят голоса? Они молят его сойти с места. Зачем? Чтобы двинуться навстречу гибели? Едва ли! Бессмысленность всего этого возмутила его. Он тверже уперся ногами обо что-то и напряг мускулы, героически решившись пронести свою ношу до самого конца веков. И проходили века этого нечеловеческого подвига, и бешено носились вкруг него миры, а горестные голоса продолжали все так же жалобно шептать, моля его уступить, отказаться, пока не поздно, и, наконец, таинственная сила, возложившая на него гигантскую задачу, видимо, решила погубить его. Он с ужасом почувствовал, как неодолимая рука трясет его за плечо, а хор голосов звучит все громче и громче, отчаянно моля поспешить, поспешить, пока не поздно. Он чувствовал, что скользит, теряет равновесие, что кто-то тащит его за ноги, что он падает. Он тихо вскрикнул. От ужасов погибающего мироздания он перешел в состояние полусна, над которым все еще продолжали тяготеть чары его видений.
– Что? Что такое? – пробормотал он сквозь сон, не двигаясь и не открывая глаз. Он все еще чувствовал тяжесть в голове и не решался поднять веки. В ушах его раздавались звуки молящего шепота. – Сплю я еще или нет? Почему я слышу голоса? – сквозь сон рассуждал он сам с собой. – Я все еще не могу опомниться от этого ужасного кошмара. Я был очень сильно пьян. Кто это трясет меня? Я все еще сплю. Надо открыть глаза и покончить со всем этим. Я все еще не вполне проснулся, это ясно.
Он сделал усилие, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, и прямо перед собой увидел лицо, уставившее на него неподвижные белки глаз. Он снова зажмурился в недоуменном ужасе и выпрямился в кресле, дрожа всем телом. Что это было за видение? Разумеется, плод его собственного воображения. Его нервы испытали накануне сильное потрясение; да к тому же он еще и напился. Он ничего больше не увидит, если соберется с духом и посмотрит опять. Он сейчас посмотрит, только вот придет в себя, успокоится немного. Вот так. Ну, а теперь посмотрим.
Он взглянул. Женская фигура, вся облитая стальным светом, стояла на дальнем конце веранды лицом к нему и умоляюще протягивала к нему руки; а в пространстве, отделявшем его от этого навязчивого призрака, звучали речи, поражавшие его слух набором каких-то мучительных фраз; он не мог понять их смысла, хотя и напрягал для этого все силы своего мозга. Кто говорил с ним по-малайски? Кто убежал? Почему поздно – и для чего? Что значили эти слова любви и ненависти, так странно переплетавшиеся между собой, эти вечно повторявшиеся имена – Найна, Дэйн; Дэйн, Найна? Дэйн был мертв, а Найна спала, не подозревая переживаемого им сейчас ужаса. Неужели он вечно будет мучиться, наяву и во сне, днем и ночью? Что значит все это?
Он громко выкрикнул последние слова. Призрачная женщина попятилась от него и отступила назад к двери; раздался крик. Выведенный из себя тем, что не в силах был понять сущности своего мучения, Олмэйр бросился на привидение; оно увернулось от него, и он со всего размаху ударился о стену. Быстрее молнии он повернул назад и яростно устремился вслед убегающей, пронзительно кричащей фигуре; крики ее еще больше усиливали его гнев. Он гнался за ней, перепрыгивал через мебель, бегал вокруг опрокинутого стола и наконец загнал ее в угол за качалкой Найны. Они метались то вправо, то влево; кресло отчаянно качалось между ними; она вскрикивала каждый раз, как он протягивал руку, чтобы схватить ее, а он сквозь крепко стиснутые зубы бросал бессмысленные ругательства. О, что за адский шум! Голова его готова была расколоться на куски. Этот шум убьет его! Шум необходимо прекратить! Безумное желание удавить это вопящее создание заставило Олмэйра с размаха броситься через кресло и отчаянно вцепиться в фигуру; они вместе покатились на пол в облаке пыли, среди обломков кресла. Под тяжестью Олмэйра последний вопль замер слабым клокотанием, и Олмэйру наконец стало легче, наступила тишина.
Он вглядывался в женское лицо, лежавшее под ним. Это была живая, настоящая женщина. И он знал ее. Что за наваждение! Ведь это же Тамина! Он вскочил на ноги, стыдясь своего бешенства, и в замешательстве отирал себе лоб. Девушка с трудом поднялась на колени и обняла его ноги с безумной мольбой о пощаде.
– Не бойся, – сказал он, поднимая ее. – Я ничего тебе не сделаю. Но зачем ты приходишь ко мне в дом ночью? Если же тебе необходимо было прийти, то почему ты не отправилась за занавеску, где спят женщины?
– Комната за занавеской пуста, – отвечала Тамина, тяжело переводя дыхание после каждого слова. – В твоем доме, туан, нет больше женщин. Прежде чем разбудить тебя, я дождалась, чтобы ушла старая мэм. Но мне нужны не твои женщины, а ты сам.
– Старая мэм? – переспросил Олмэйр, – Ты говоришь о моей жене?
Она кивнула головой.
– Но разве ты боишься моей дочери? – продолжал Олмэйр.
– Неужели ты не слышал меня? – воскликнула она. – Ведь я же долго говорила с тобой, покуда ты лежал здесь с закрытыми глазами! Она тоже ушла.
– Я спал. Разве ты не умеешь разобрать, когда человек спит, когда нет?
– Иногда, – отвечала Тамина, понизив голос, – иногда дух витает близ спящего тела и слышит. Я долго говорила с тобой, прежде чем дотронуться до тебя, и я говорила негромко, чтобы дух не испугался внезапного шума и не покинул тебя в добычу вечному сну. Я только тогда взяла тебя за плечо, когда ты начал бормотать непонятные для меня слова. Так, значит, ты ничего не слышал и ничего не знаешь?
– Я ничего не слыхал из того, что ты говорила. Расскажи все сначала, если ты хочешь, чтобы я что-нибудь понял.
Он взял ее за плечо и повел ее по веранде ближе к свету. Она не сопротивлялась. Она ломала руки с таким выражением скорби, что ему начало становиться страшно.
– Говори же, – сказал он, – Ты нашумела так, что могла бы разбудить даже мертвых; а между тем ни одна живая душа не пришла, – прибавил он тревожным шепотом, – Уж не лишилась ли ты вдруг языка? Да говори же! – повторил он.
После недолгой борьбы с ее дрожащих уст хлынул целый поток слов, и она поведала ему о любви Найны и о своей собственной ревности. Несколько раз он бросал на нее гневные взоры и приказывал ей замолчать; но он не властен был остановить эти звуки, лившиеся, как ему казалось, горячей волной, бушевавшие у его ног и поднимавшиеся жгучими волнами все выше и выше вокруг него; они затопляли его сердце, жгли его губы точно расплавленным свинцом, затмевали ему зрение, обжигали, смыкались над его головой, убийственные, безжалостные. Когда она заговорила об обмане, жертвой которого он сделался в тот самый день, о смерти Дэйна, он взглянул на нее так грозно, что она смутилась на мгновение и оробела; но он тут же отвернулся; лицо его внезапно утратило всякое выражение, и он окаменевшим взглядом уставился куда-то в речную даль. Ах, река! Его старый друг и враг! Она всегда говорила с ним одинаковым голосом, из года в год протекая перед ним, принося то удачу, то разочарование, то счастье, то страдание на своей изменчиво неизменной поверхности сверкающих струй и крутящихся водоворотов. Много лет подряд он прислушивался к ее бесстрастному, успокаивающему лепету, порой он звучал ему как песня надежды, порой как гимн торжества или ободрения; чаще всего она пела ему об утешении, говорила о грядущих лучших годах. Столько лет! Столько лет! Теперь же, под аккомпанемент все того же лепета, он прислушивался к медленному и тяжкому биению своего сердца, внимательно прислушивался, удивляясь правильности его ударов. Он машинально принялся считать их. Раз, два. Но к чему считать? Все равно со следующим ударом оно должно будет остановиться. Никакое сердце не в состоянии долгое время так страдать и так правильно биться. Эти мерные удары, напоминающие глухой барабанный бой и отдающиеся у него в ушах, скоро должны затихнуть. Но нет – биение продолжается, непрерывное и жестокое. Это уже выше сил человеческих, ну, что же – последний это удар или за ним будет еще другой? Долго ли это продлится, о боже? Его рука бессознательно все сильнее тяготела на плече девушки, и последние слова своей повести она произнесла, припав к его ногам со слезами страдания, стыда и гнева. Неужели месть уйдет от нее? Этот белый человек подобен бесчувственному камню. Нет, видно, поздно, поздно!








