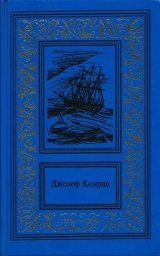
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 52 страниц)
Бабалачи наконец замолчал. Лингард слегка переменил положение и тихо покачал головой. История происшедших в Самбире событий, представленная с точки зрения хитроумного политика, послужила ему как бы руководящей нитью для выхода из лабиринта мрачных мыслей.
– Все это сделало ваше племя, – сказал наконец Лингард, – и вы раскаетесь в этом, прежде чем подуют сухие ветры. Голос Абдуллы приведет сюда голландцев.
Бабалачи неопределенно взмахнул рукой.
– Если я когда-либо и говорил с Паталоло, как старший брат, то это было для вашего добра – и для пользы всех, – с большой серьезностью продолжал Лингард.
– Так говорят все белые, – воскликнул Бабалачи с горечью, – Мы знаем вас. Все вы так говорите, а сами заряжаете ружья и точите мечи. Когда вы готовы, вы говорите слабым: «Повинуйтесь и будьте счастливы или умрите». Странные вы люди, белые. Вы думаете, что правда только в вашей мудрости, в вашей добродетели и вашем счастье. Вы сильнее диких зверей, но не так мудры, как они. Даже черный тигр знает, когда он сыт, а вы не знаете. Он знает разницу между собой и тем, кто может говорить, а вы не знаете разницы между собой и нами, – которые тоже люди. Вы мудры и велики, но всегда будете дураками.
Лингард с любопытством смотрел на возбужденного малайца.
– Ana, апа, что с тобой? – успокоительно протянул он. – Кого я здесь убил? Где мои ружья? Что я сделал? Кого я про глотил?
Бабалачи притих и заговорил с подчеркнутой вежливостью:
– Ты, туан, с моря и больше других походишь на нас. Отто го я и говорю с тобой от чистого сердца… Только лишь один раз море оказалось сильнее морского раджи.
– Ты это знаешь, вот как? – резко сказал уязвленный Лингард.
– Га! Мы слышали про твой корабль, и некоторые порадовались. Но не я. Между белыми чертями – ты человек.
– Трима касси! Благодарю! – сурово сказал Лингард.
Бабалачи опустил глаза со сконфуженной улыбкой, но лицо его сейчас же затуманилось, и он заговорил с печалью в голосе:
– Если бы ты пришел днем раньше, туан, ты бы присутствовал при смерти одного из твоих врагов. Ты бы увидел, как он умирал нищим, слепым, несчастным, и при нем не было сына, чтобы вырыть ему могилу и рассказать другим о его мудрости и доблести. Да, ты бы увидел человека, которого ты победил при Каримате, много лет тому назад – умирающим в одиночестве, если бы не один друг. Ты был бы доволен.
– Нет, – отвечал Лингард, – Я даже не помнил его, пока ты сейчас не упомянул его имя. Вы нас не понимаете. Мы бьемся, побеждаем и забываем.
– Верно, верно, – сказал Бабалачи с вежливой иронией, – вы, белые, так велики, что пренебрегаете памятью о ваших врагах. Нет, нет, – продолжал он в том же тоне: – вы так полны милости к нам, что не хватает места для памяти. О, вы велики и добродетельны! Но мне сдается, что в своей среде вы умеете помнить обиды. Разве не так, туан?
Лингард ничего не сказал. Плечи его незаметно приподнялись. Он положил ружье на колени и рассеянно взглянул на курок.
– Да, – продолжал Бабалачи, снова впадая в грусть, – да, он умер в темноте. Я сидел рядом с ним и держал его руку. Та, которую он проклинал из-за белого человека, тоже была там и плакала, закрыв лицо. А белый ходил по двору и шумел. По временам он подходил к дверям и яростно смотрел на нас, плачущих. Глаза его были злы, и я радовался, что умирающий слеп. Я говорю правду. Я был рад, потому что лучше не видеть глаз белого, когда сидящий в нем дьявол смотрит через них.
– Ты, кажется, сердишься, Бабалачи? – проговорил Лингард по-малайски.
– Нет, я не сержусь, туан, – ответил тот. – За что же мне сердиться? Я простой оранг-лаут и много раз бежал перед вами. Был слугой одного, находился под покровительством другого, давал советы и там и тут за пригоршню риса. Кто я такой, чтоб сердиться на белого? Что такое злоба без права нанести удар? Вы, белые, захватили все: землю, море и право наносить удары. Нам, островитянам, ничего не осталось, кроме вашей справедливости, вашей высокой справедливости, не знающей злобы.
Он встал и, подойдя к двери, вдохнул в себя горячйй воздух со двора, затем снова повернулся к Лингарду, продолжавшему сидеть на ларе. Факел с шумом догорал. Затхлый запах от разбросанных внизу и кругом хижины нечистот становился все тяжелее, затуманивая сознание Лингарда и ослабляя его решимость. Он вяло думал о себе и о человеке, который хотел его видеть, который ждал его. Днем и ночью. Ждал. В голове мелькнула злорадная мысль о том, что такого рода ожидание не могло быть особенно приятным. Ну, пускай ждет. Он его скоро дождется. А на сколько времени? Пять секунд, пять минут… ничего не сказать… сказать что-нибудь. Что? Нет! Только дать ему вглядеться, а там…
Бабалачи внезапно опять заговорил тихим голосом. Лингард заморгал глазами, кашлянул и выпрямился.
– Слушай, – сказал Лингард, – этот человек не такой, как другие белые. Ты это знаешь. Он совсем не человек. Он… Не знаю.
Бабалачи укоризненно поднял руку. Глаза его засветились, а большие, окрашенные в красный цвет губы, раздвинулись в усмешку, обнаружили ряд крепких черных зубов.
– Ай, ай! Не такой, как ты, – заговорил он, – Не такой, как ты, туан, который похож на нас, только сильнее и мудрее. Но и он очень хитер и говорит о тебе без всякого уважения, как все белые, когда говорят друг о друге.
Лингард вскочил как ужаленный.
– Он говорит обо мне! Что он говорит? – вскричал он.
– Э, туан, – возразил невозмутимый Бабалачи, – не все ли равно, что он говорит, если он не человек? Я ничто перед вами – зачем я буду повторять, что говорит один белый про другого? Он хвастался перед Абдуллой, что многому от тебя научился в прошедшие годы. Остальные слова я забыл. Уверяю тебя, туан, забыл.
Лингард прервал его презрительным жестом руки и снова уселся. Бабалачи взглянул на почти догоревший факел, подошел к стене и вдруг отворил широкий плетеный ставень. Облако дыма дрогнуло, и медленная прядь потянулась наружу сквозь образовавшееся отверстие. Факел замигал, зашипел и потух, а тлеющий огарок упал на циновку. Бабалачи поднял его, выкинул за окно. Уголь описал слабеющую дугу красного света и остался лежать на земле, тускло рдея в глубоком мраке. Бабалачи стоял, протянув руку в пустую ночь.
– Вот, – сказал он, – двор белого человека, туан, и его дом.
– Я ничего не вижу, – ответил Лингард, просунув голову в открытое окно, – Слишком темно.
– Погоди, – уговаривал его Бабалачи, – Ты долго смотрел на горящий факел. Ты скоро увидишь. Осторожнее с ружьем, туан Оно заряжено.
– В нем нет кремня. Здесь на сто миль в окружности не найти кремня. Глупо его заряжать.
– У меня есть кремень. Я получил его от одного мудрого и благочестивого человека, который живет в Менанг-Кабау. Он заговорил этот кремень так, что он дает хорошие искры. А ружье славное, бьет далеко и метко. Я думаю, туан, из него отсюда можно было бы попасть в дом белого человека.
– Довольно. Чего ты пристал со своим ружьем? – проговорил Лингард, всматриваясь в темноту. – Не это ли дом – то, что чернеет там впереди!
– Да, это его дом. Он живет в нем по воле Абдуллы и будет жить, пока… Оттуда, где ты стоишь, туан, ты можешь видеть прямо через двор и через изгородь дверь, из которой он выходит каждое утро.
Лингард убрал голову из окна. Бабалачи тронул его рукой за плечо.
– Подожди минутку, туан. Сиди смирно. Утро близко, бессолнечное утро, после беззвездной ночи. Но будет достаточно света, чтобы ты мог увидеть человека, который еще на днях рассказывал, как в Самбире он сделал из тебя ничто.
Он ощутил легкую дрожь под своей рукой, тотчас же отдернул ее и начал шарить по крышке ларя, ища ружье.
– Чего ты там возишься? – с нетерпением крикнул Лингард. – Далось же тебе это поганое ружье! Лучше бы зажег свет.
– Свет! Я говорю тебе, туан, что скоро будет свет с неба, – ответил Бабалачи, нашедший теперь ружье. – Тебе не следует сидеть там, где могут увидеть, – пробормотал он.
– Отчего? – спросил Лингард.
– Белый человек, правда, спит, – тихо объяснил Бабалачи, – но он может выйти раньше обыкновенного, и у него есть ружье.
– А, у него есть ружье? – сказал Лингард.
– Да, короткое ружье, которое дает много выстрелов, как твое. Абдулла принужден был ему дать его.
Лингард не шевелился.
Снаружи тьма как бы побледнела. День наступал быстро, неприветливый и хмурый. Бабалачи тихонько потянул Лингарда за рукав и, когда старый моряк вопросительно поднял голову, указал на дом Виллемса, теперь уже ясно выступающий вправо за большим деревом в ограде.
– Смотри, туан, – сказал он. – Он живет тут. Вот его дверь. Он скоро в ней покажется, с растрепанными волосами и страшной руганью. Он белый и поэтому никогда и ничем не бывает доволен. Мне думается, что он сердится даже во сне. Опасный человек.
– Да, я вижу. Я увижу его, когда он проснется.
– Без сомнения, туан… Если ты останешься на этом месте, он тебя не увидит. Это хорошо. Никто тебя не увидит. Я скроюсь и сам приготовлю лодку. Я бедный человек и должен ехать В Самбир приветствовать Лакамбу, когда он откроет глаза. Если гы останешься здесь, ты легко увидишь человека, который хвастался перед Абдуллой, что был твоим другом в то самое время, когда приготовлялся выступить против тебя. Да, он сговаривался с Абдуллой насчет этого проклятого флага. Лакамба был слеп гагда, а я был обманут. Но, помни, туан, больше всех он обманывал тебя. Этим он хвастал перед всеми.
Он осторожно прислонил ружье к стене у самого окна и тихо прошептал:
№ – Идти ли мне теперь, туан? Будь осторожен с ружьем. Я вставил в него кремень. Кремень чародея, который никогда не изменит.
Глаза Лингарда были устремлены на дверь дома Виллемса. За спиной своей он слышал шаги женщин, покидающих хижину.
Бабалачи тихо кашлянул и таинственно зашептал: | – Не пора ли идти, туан? Не позаботишься ли ты о моем ружье? Ружье бьет далеко и метко, если ты хочешь знать, я вложил в него двойной заряд пороха и три куска свинца. Теперь не уйти ли мне? i Лингард медленно повернулся и посмотрел на него со скучным и недовольным видом просыпающегося человека, которому предстоит новый мучительный день. По мере того как хитрый малаец говорил, брови Лингарда хмурились, глаза его оживлялись, а на лбу выступала тонкая вена, подчеркивавшая его суровый вид. При последних словах своих Бабалачи запнулся и замолчал, смущенный пристальным взглядом старого моряка.
Лингард встал; лицо его прояснилось, и он взглянул на оробевшего малайца неожиданно добродушно. I – Так вот чего ты добиваешься? Ты думаешь, что я приехал, чтоб его убить? А? Ну, говори, верный пес арабского торгаша!
– А то как же, туан? – вскричал Бабалачи, выдав себя в своем волнении, – Как же иначе? Вспомни, что он сделал. Он отравлял наши уши своими россказнями о тебе. Если ты приехал не за тем, чтобы убить его, туан, то или я дурак, или… – Он приостановился и ударил себя ладонью по голой груди, закончил шепотом, в котором слышалось разочарование, – или ты, туан.
Лингард высокомерно посмотрел на него.
– Ты сердишься на своего друга, одноглазый, – сказал он, склонив свое суровое лицо к оробевшему Бабалачи. – Мне сдается, что ты не мало поработал над тем, что произошло в Самбире. А?
– Да погибну я от твоей руки, о Раджа Морей, если я говорю неправду! – вскричал Бабалачи, не скрывая своего волнения. – Ты здесь среди своих врагов. Он – главный из них, Абдулла ничего бы не сделал без него, а я ничего не мог бы сдс лать без Абдуллы. Порази меня и этим ты поразишь всех!
– Кто ты такой, – с презрением вскричал Лингард, – что осмеливаешься называть себя моим врагом! Грязь! Ничтожество! Убирайся! Живо!
Вытолкнув Бабалачи за дверь, он спустился за ним по лесен ке во двор.
– Эта дорога? – кивнув головой по направлению к калитю Виллемса, спросил он.
– Если ты ищешь смерти, то эта, конечно, – ответил Баба лачи, бесстрастным голосом, словно обессилев. – Он там живо, тот, кто уничтожил твоих друзей, кто ускорил смерть Омара кто вступил в заговор с Абдуллой сначала против тебя, затем против меня… Ну, что ж, иди, туан! Иди.
– Я пойду, куда захочу, – с ударением сказал Лингард, – а ты можешь идти к черту, мне тебя больше не нужно. Острова этих морей опустятся на дно раньше, чем я, раджа Лаут, по ступлю по воле хоть одного из вас. Понял? Но вот, что я тебе скажу: мне все равно, что бы вы ни сделали с ним после сегод няшнего дня. И я говорю это потому, что я милосерд.
– Тида! Я ничего не сделаю, – апатично проговорил Бабала чи, покачивая головой с горькой иронией, – Я в руках Абдуллы, и мне все равно, как и тебе. Я многому научился сегодня утром Нигде нет людей. Вы, белые, жестоки к вашим друзьям и мило сердны к врагам. Так ведут себя глупцы.
Он повернулся к реке и, ни разу не оглянувшись, исчез в низкой полосе тумана, подымавшегося над водой. Лингард задумчиво проводил его глазами. Затем, встряхнувшись, он крикнул своим гребцам:
– Эй, вы! Когда вы съедите свой рис, ждите меня с веслами наготове. Слышите?
– Да, туан, – ответил Али.
III– Берегись!
Надтреснутый, дрожащий звук странного голоса удивил Лингарда больше, чем неожиданность этого, неизвестно кем и к кому обращенного предупреждения. Кроме него, насколько он мог видеть, на дворе не было никого. Крик больше не повторился, и зоркий взгляд, которым он окинул туманную даль ограды Виллемса, мог различить одни лишь неодушевленные предметы: большое мрачное дерево, заколоченные окна дома, блестящую бамбуковую изгородь и мокрые кусты.
Обогнув деревья, Лингард должен был приостановиться, чтобы не наступить на небольшую кучку углей. Худая, сморщенная старуха, стоявшая за деревом и смотревшая на дом, внезапно повернулась, вздрогнула и, взглянув на пришельца мутными глазами, сделала слабую попытку скрыться. Подождав некоторое время, он обратился к ней:
– Зачем ты крикнула?
– Явидела, как ты вошел, – прошамкала она, не отрывая лица от костра, – и я крикнула. Так она приказала, – протянула она со вздохом.
– И что ж, услышала она тебя? – ласково и спокойно продолжал Лингард.
Нетерпеливо передернув в ответ плечами, старуха пробормотала себе что-то под нос и заковыляла к куче хвороста.
Проводив ее взглядом, Лингард увидел спускающуюся по сходням из дома Аиссу. Сделав несколько торопливых шагов по направлению к дереву, она, дико озираясь, остановилась; она казалась объятой внезапным ужасом. Голова ее была непокрыта. Синее покрывало, одним концом переброшенное через плечо, окутывало ее с ног до головы, ниспадая плотно прилегающими складками. Черная коса спускалась на грудь. Тесно прижатые к телу, обнаженные, опущенные руки, с вывернутыми ладонями и растопыренными пальцами, слегка приподнятые плечи и откинутое назад туловище придавали ей вызывающий вид женщины, ожидающей удара. Она закрыла за собой дверь дома и в жутких, беловатых сумерках пасмурного утра она казалась Лингарду сотканной из черных испарений неба и зловещих проблесков слабых лучей солнца, тщетно старавшихся проникнуть через сгущающиеся тучи в бесцветную пустоту мира.
Бросив короткий, но внимательный взор на запертый дом, Лингард вышел из-за дерева и тихо направился к ней. Она сделала шаг вперед и, преградив ему дорогу, раскинула руки крестом.
– Дай мне пройти. Я пришел сюда, чтобы поговорить с одним человеком. Уж не прячется ли он? И не тебя ли он послал?
Она шагнула ближе и, протянув руки, почти коснулась ими груди Лингарда.
– Он не знает страха, – тихо проговорила она дрожащим, но ясным голосом. – Мой собственный страх послал меня сюда. Он спит.
– Он довольно спал, – спокойно сказал Лингард. – Я пришел, и ему пора проснуться. Иди и скажи это ему.
Отстранив ее руки, он опять сделал вид, что хочет пройти мимо.
– Не ходи, – воскликнула она и, как подкошенная, упала к его ногам. Неожиданность этого движения заставила Лингарда отступить на шаг.
– Что это значит? – изумленно прошептал он и сейчас же резко приказал: – Встань!
Тотчас же поднявшись, она стала перед ним, послушно и вызывающе, робко и бесстрашно. Лингард продолжал строгим голосом:
– Дай мне дорогу. Ты дочь Омара и должна бы знать, чк i когда мужчины сходятся при дневном свете, женщины должны молчать и покоряться своей участи.
– Женщины! – возразила она с подавленной запальчиво стью. – Да, я женщина. Это ты видишь, раджа Лаут, но видел ли ты мою жизнь? Я тоже слышала… О славный вождь, бывай ший во многих битвах, я тоже слышала голос выстрелов; я тоже умею молча смотреть на разъяренные лица и на сильные руки, подымающие острую сталь. Я видела людей, падающих вокруг меня без крика страха или печали, я оберегала сон обессилен ных беглецов. Я боролась с бессердечным морем, держа на сво их коленях головы умиравших, обезумевших от жажды. Я брала весло из их окоченевших рук и работала им так, что те, кто был со мной, не знали, что умер еще один мужчина. Все это я дела ла. Что ты сделал больше? Такова была моя жизнь. Какова была твоя?
Слова ее и тон заставили Лингарда внимательно прислуши ваться к ним, не без невольного одобрения.
Она тяжело перевела дух, и из ее широко открытых, непод вижных черных глаз, огромных и блестящих, в узком кольце белков, скользнул как бы двойной луч самой души, жадно стрс мясь осветить самые темные замыслы его сердца. После долгого молчания, подчеркивающего смысл ее слов, она шепнула тоном горького сожаления:
– И я склонилась у твоих ног! И я боюсь!
– Ты, – веско отчеканил Лингард, – ты женщина с сердцем, достойным биться в груди мужчины, но все же ты женщина, и тебе я, раджа Лаут, ничего не скажу.
– Подожди, остановись. Я слышала, люди часто говорили о тебе, первом из моряков. Они говорили, что в бою ты глух к стонам людей, но после… Нет, даже в бою ты слышишь голоса женщин и детей. Они говорили это. Теперь, я женщина, я…
– Я белый, – гордо проговорил Лингард, не сводя с нес упорного взгляда, в котором простое любопытство уступало место не то скуке, не то жалости, – и люди, которых ты слышала у костров, говорили правду. За себя тебе нечего бояться. Ты даже теперь можешь уехать со мной и найти убежище в доме Сеида Абдуллы, который той же веры, что и ты. Знай, что ничего из того, что ты скажешь, не изменит моих намерений по отношению к человеку, который спит или прячется в этом доме.
Опять она бросила на него взгляд, подобный удару кинжала, полный не гнева, а желания, пламенного, непобедимого желания проникнуть в его душу, увидеть и понять все: каждую мысль, волнение, намерение; каждый порыв, каждое колебание этого человека, человека, которого можно было убедить, смягчить, умолить, может быть, тронуть или даже, – кто знает? – испугать, если бы только его можно было понять! Она уже давно видела, к чему клонилось дело. Она заметила презрительную, но зловещую холодность Абдуллы; встревоженно, хоть и недоверчиво, она прислушивалась к темным намекам Бабалачи, к его глухим советам покинуть ни на что негодного белого человека, чья участь будет ценой мира, охраняемого мудрыми и благими людьми, которые более не нуждаются в нем. А он, он сам? Она цеплялась за него. Кроме него нет никого. И ничего. Она постарается уцепиться за него навсегда, на всю жизнь! А между тем он далек от нее. И отдаляется с каждым днем, а она следует за ним терпеливо, безнадежно, слепо, через все дебри его души. Но иногда, и очень часто в последнее время – она чувствовала себя как бы заблудившейся в чаще дремучего леса, пробиваясь до тех пор, когда уже некуда идти, затерянная в лабиринте листьев, ветвей, отростков, лиан и ползучих растений и не видя даже почвы под ногами. Она была подобна человеку, потерянному it непроходимой густой чаще, безвыходной и полной неожиданностей; подобна пленнику невидимых сил, молчаливых и разрушительных, опасных и безучастных, непостижимых и могучих. Бывший клерк старого Гедига казался ей таким же далеким, светлым, страшным и необходимым, как солнце, животворящее ее страну, солнце безоблачных небес, ослепляющее и палящее, благотворное и разлагающее, дающее и свет, и благоухание, и чуму. Она наблюдала за ним, зачарованная любовью, зачарованная опасностью. Теперь он был одинок, и она видела это, и ей казалось, что она видит его тайный страх. Возможно ли это? Неужели же он боится? Чего? Не этого ли старого белого человека, который должен был прийти и который пришел теперь? Она слышала о нем давно, с тех пор, как помнила себя. Самые храбрые его боялись! И что теперь на уме у этого старого, старого человека, который смотрит таким сильным взглядом? Что он замышляет сделать с солнцем ее жизни? Погасить его? Увезти его? Увезти навсегда, навсегда и оставить ее во тьме? Не в той шепчущейся, насторожившейся ночной тьме, в которой притихший мир ожидает возвращения солнечного света, а в ночи без конца, могильном мраке, в котором ничто не дышит, ничто не движется, ничто не думает, в последнем мраке безмолвия и холода, без надежды на новый восход.
– Чего ты хочешь? Ты ничего не знаешь. Я должна… – вскричала она.
Он прервал ее.
– Я знаю достаточно.
Она приблизилась и положила обе руки ему на плечи. Озадаченный такой смелостью, он невольно замигал глазами, чувствуя какое-то волнение, пробуждавшееся в нем от ее слов и прикосновения; необычное, глубокое волнение при виде этой странной женщины, этого дикого и нежного существа, хрупкого и сильного, боязливого и решительного, роковым образом ставшего между двумя жизнями – его и того, другого белого, того гнусного негодяя.
– Как можешь ты знать… – продолжала она таким убеди тельным тоном, что, казалось, слова ее лились из самой глуби ны ее сердца, – Как можешь ты знать? Я живу с ним днем и ночью. Я смотрю на него: я слышу каждое его дыхание, слышу каждый его взгляд, каждое движение губ. Я ничего другого не вижу! И даже я не понимаю его. Его! Мою жизнь! Его, который для меня так велик, что его присутствие затмевает сушу и воду и моих глазах.
Лингард стоял, выпрямившись во весь рост, глубоко засунув руки в карманы куртки. Глаза его быстро мигали, так как она говорила очень близко от его лица. Она волновала его, и он чувствовал, что делает усилие, чтобы понять смысл ее слов, сознавая в то же время, что все это ни к чему не приведет.
– Было время, когда я понимала его, – продолжала она. – Когда я лучше его самого знала, чего он хочет. Когда я его чувствовала, держала его… а теперь он исчез.
– Исчез? Как? Убежал? – воскликнул Лингард.
– Исчез для меня, – сказала она, – оставил меня одну. Одну, а я все время около него. И все же одна.
Руки ее соскользнули с плеч Лингарда и безжизненно повисли, как будто ей открылась вдруг в эту минуту ужасающая правда нашего одиночества, непроницаемого, ускользающего и вечного; одиночества, которое окутывает душу каждого человека от колыбели до могилы и, быть может, и за ее пределами.
– А, понимаю. Он отвернулся от тебя, – сказал Лингард. – Ну, чего ж ты хочешь?
– Я хочу, я искала помощи… везде… против людей. Сперва пришли они, невидимые белые, которые несли смерть издалека… а затем он. Он пришел ко мне, когда я была одинока и грустна. Он сердился на своих братьев; он был велик между своими. Сердился на людей, которых я никогда не видела, на тех, среди которых мужчины не знают пощады, а женщины – стыда. Он был одним из них и велик между ними. Ведь он был велик?
Лингард отрицательно покачал головой. Она нахмурилась и торопливо продолжала:
– Слушай. Я увидела его. Я жила с храбрыми людьми… вождями. Когда он пришел, я была дочерью нищего, слепого. Он заговорил со мной, как будто я была светлее солнца, отраднее прохладной воды ручья, у которого мы встретились… говорю тебе, я была всем для него. Я это знаю! Я это видела! Иногда даже вы, белые люди, говорите правду. Я видела его глаза. Я видела, как он дрожал, когда я приближалась, когда я говорила… касалась его. Взгляни на меня! Ты был молод когда-то, раджа Лаут. Взгляни на меня!
С вызывающим видом она пристально посмотрела ему в глаза и вдруг, быстро повернув голову, бросила беглый взгляд, полный смиренного страха, на высоко вздымавшийся позади нее дом, темный, запертый дом, молчаливый и неустойчивый на своих покривившихся сваях.
Лингард также взглянул на дом и с подозрительным видом посмотрел на нее:
– Если он теперь не услыхал твоего голоса, он", должно быть, уже далеко или умер, – проворчал он.
– Он там, – прошептала она, – он там. Он ждал три дня. Ждал тебя день и ночь. И я ждала с ним. Ждала, наблюдая за ним, за его лицом, глазами и губами, прислушиваясь к его словам, которых я не понимала, которые он произносил днем… и ночью, во сне. Я прислушивалась, когда он разговаривал сам с собой, на своем языке. Я хотела узнать, но не могла. Его что-то мучило. Он говорил сам с собой, не со мной. Не со мной!.. Что он говорил? Что он хотел сделать? Боялся ли он тебя… или смерти? Что было у него на сердце? Страх? Злоба?.. Какое нежелание?.. Какая печаль? Он все время говорил. А я не могла узнать. Я заговаривала с ним. Он был глух. Я следовала за ним всюду, стараясь уловить слово, которое я могла бы понять, но мысль его витала в стране его народа – далеко от меня. Когда я трогала его, он сердился, – так!
Она сделала движение, подражая человеку, грубо отталкивающему надоедливую руку, и посмотрела на Лингарда полными слез глазами.
– День и ночь я наблюдала за ним, не видя ничего. На сердце у меня было тяжело, так как дом наш посетила смерть. Я думала, что он боится. Боится тебя! Иногда и меня охватывал страх… Скажи мне, раджа Лаут, знаешь ли ты страх без голоса – страх тишины, страх, который находит на тебя, когда ничего нет вблизи, когда нет ни битвы, ни криков, ни страшных лиц, ни вооруженных рук? Страх, от которого нет избавления?
Передохнув она опять подняла глаза на недоумевавшего Лингарда и торопливо продолжала:
– Я знала, что он не будет сражаться с тобой! Раньше – давно – я два раза уходила от него, чтобы заставить его повиноваться моей воле; заставить его ударить по своему народу и стать моим, – моим! О горе, – рука его солгала, как ваши белые сердца. Она ударила, подталкиваемая мной, и… о стыд… не убила никого! Этот свирепый и лживый удар пробудил только ненависть, но не страх. Все оказалось ложью вокруг меня. Его сила – ложь. Мой народ лгал мне – и ему. И, чтобы встретить тебя, великого, у него не осталось никого, кроме меня. Меня… с моим гневом, болью и слабостью. Только меня! А он и говорить не хочет со мной. Безумец!
Она приблизилась вплотную к Лингарду с диким и скрытным видом помешанного, который хочет сообщить какую-нибудь безумную тайну, одну из тех уродливых, раздирающих, нелепых мыслей, которые, как фантастические, жестокие, печальные чудовища бродят во тьме сумасшествия. Ошеломленный Лингард смотрел на нее, не шевелясь. Она зашептала:
– Он все! Все. Он мое сердце, мой свет, мое дыхание. Уйди… Забудь его… У него нет больше ни храбрости, ни мудро сти… а я потеряла свою силу… Уйди и забудь. Есть другие враги Оставь его мне… Он был когда-то человеком… Ты слишком вс лик. Никто не может устоять против тебя… Я пыталась… Теперь я знаю… Я умоляю о пощаде. Оставь его мне и уходи.
Отрывочные фразы ее мольбы прерывались рыданиями, но Лингард не отводил невозмутимого взгляда от притягивавшего его к себе дома, и в душе его смешивались чувства презрения, злобы и сознания собственного превосходства, делающие человека глухим, слепым и безрассудным перед всем, что ему чуждо.
– Мне пора, – сказал он, не сводя глаз с дома, – Он сам меня позвал… Ты должна уйти. Ты не знаешь, чего ты просишь. Он конченый человек. Иди к своему народу. Покинь его. Он… – конец!
Отскочив от него, с опущенными глазами, она поднесла медленно обе руки к вискам, жестом полным бессознательного трагизма, и тихо заговорила нежным, вибрирующим тоном, как будто размышляя вслух:
– Прикажи ручью не бежать к реке; прикажи реке не нести свои волны к морю. Прикажи громко. Прикажи сердито. Может быть, они и послушаются. Но только я думаю, что ручей не станет слушать. Ручей, спускающийся со склона горы и бегущий к большой реке. Он не обратит внимания на твои слова, как и на гору, которая дала ему жизнь, на землю, из которой он пробивается, разрывая, поглощая и разрушая все, чтобы скорее бежать к реке и потеряться в ней навеки… О раджа Лаут!.. Я не слушаю.
Как бы подталкиваемая невидимой рукой, она медленно и неохотно приблизилась к Лингарду, чтобы шепнуть ему несколько слов, которые, казалось, кто-то с силой вырывал из ее груди.
– Я не пожалела даже моего отца… который умер… Я бы скорее… Ты не знаешь, что я сделала… Я…
– Я дарю тебе его жизнь, – поспешно произнес Лингард.
Они смотрели друг на друга; она, как будто сразу успокоенная, а он задумчиво и тревожно, под влиянием смутного чувства поражения. Неясный голос говорил ему, что если она свершила ради негодяя страшное преступление, до которого тот ее допустил, то он должен умереть – и это было бы только справедливо. Какую тайну хотела она открыть? Он не догадывался, но знал, что надо ее убедить, что для таких людей, как Виллемс, нет ни жалости, ни пощады.
– Пойми, – тихо сказал он, – что я дарю тебе его жизнь не как милость ему, а в наказание.
Она вздрогнула, жадно впивая в себя каждое его слово, и замерла неподвижно.
– Какое наказание? Ты хочешь его увезти? Отнять у меня? Слушай, что я сделала… Это я…
– А, – воскликнул Лингард, смотревший на дом.
– Не верьте ей, капитан Лингард, – крикнул Виллемс, появляясь на пороге, с опухшими веками и обнаженной грудью. Он постоял, ухватившись руками за косяк двери, с диким видом, точно его распяли. Затем вдруг кинулся вниз по затрещавшим дощатым сходням.
Легкая судорога пробежала по лицу Аиссы, и слова, бывшие у нее на губах, упали непроизнесенными, в ее темное сердце; упали к грязь, камни и цветы, которые есть на дне каждого сердца.








