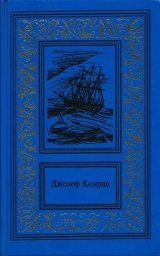
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
ГЛАВА III
Велико значение переговоров, которые ведутся в Лондоне: их влияние простирается на тысячи миль. Неудивительно, что резолюция, принятая в окутанных туманом конторах «Борнейской Компании», помрачила для Олмэйра яркое сияние тропического солнца и подлила лишнюю каплю горечи в чашу его разочарований. В Лондоне отказались от притязаний на эту часть Восточного Побережья, и река Пантэй номинально осталась по – прежнему под владычеством Голландии. Радостное возбуждение царило в Самбире. Невольников спешно убирали с глаз долой в леса и джунгли, на участке раджи подняли флаги на высоких столбах: ожидалось прибытие шлюпок с голландского военного судна.
Фрегат встал на якорь, не доходя до устья реки; шлюпки же поднялись вверх по течению на буксире парового катера, осторожно пробиравшегося среди множества туземных челноков, наполненных ярко разодетыми малайцами. Командующий флотилией офицер с важностью выслушал верноподданнические приветствия Лакамбы, обменялся селямами с Абдуллой и на изысканном малайском языке уверил этих господ в благоволении и дружелюбном расположении великого батавского раджи [14]к правителю и населению образцового Самбирского штата.
Олмэйр со своей веранды наблюдал за всеми церемониями, происходившими на том берегу, слышал пушечную пальбу, приветствовавшую новый флаг, дарованный Лакамбе, и глухой говор зрителей толпившихся вокруг частокола. Дым от выстрелов белыми клубами выделялся на зеленом фоне лесов. Олмэйр невольно сравнил свои собственные мимолетные надежды с этим быстро рассеявшимся дымком. Он не ощущал никакого прилива патриотических чувств при виде всего происходившего, но тем не менее ему пришлось принудить себя к учтивости, когда по окончании официального празднества морские офицеры, составлявшие комиссию, переправились через реку, чтобы посетить одинокого белого человека, о котором они много слышали; вероятно, ими руководило также желание взглянуть на его дочку. В этом отношении их постигло разочарование, так как Найна отказалась выйти к гостям; но они, по-видимому, легко утешились за стаканами джина и сигарами, предложенными им гостеприимным Олмэйром. Удобно развалившись на хромых креслах в тени веранды, в то время как широкая река чуть не кипела под палящими лучами солнца, они огласили маленькое бунгало непривычными звуками европейской речи, шумом, смехом и остротами над толстым Лакамбой, с которым они так усиленно любезничали в это самое утро. Под влиянием товарищеского добродушия молодежи Олмэйр разговорился; возбужденный видом европейских лиц, звуками европейской речи, он открыл сердце отзывчивым незнакомым людям, совершенно не замечая, как забавляла этих будущих адмиралов плачевная повесть об его многочисленных неудачах. Они пили за его здоровье, сулили ему груды алмазов и горы золота, даже уверяли его, что завидуют высокой участи, предстоящей ему. Ободренный такой лаской, седой и простоватый мечтатель пригласил своих гостей осмотреть его новый дом. Они отправились туда вразброд по высокой траве, в то время как команда готовила лодки к обратной поездке по вечерней прохладе. Среди больших пустых комнат, где теплый ветерок, врывавшийся в зияющие окна, тихонько кружил сухие листья и пыль, не подметавшуюся много дней, Олмэйр в белой куртке и цветистом саронге, окруженный сверкающими мундирами, топал ногой, чтобы показать прочность хорошо пригнанных полов, и распространялся насчет красоты и удобств дома. Они слушали и соглашались, пораженные необыкновенной простотой и нелепыми надеждами этого человека, как вдруг Олмэйр, в своем возбуждении, признался, что огорчен неприбытием англичан, «умеющих», по его словам, «развивать страну и умножать ее природные богатства». Это откровенное замечание было встречено дружным хохотом голландских офицеров, и все гурьбой двинулись к шлюпкам; но когда, осторожно пробираясь по расшатанным доскам лингардовской пристани, Олмэйр попытался робко намекнуть главе комиссии на то, что местные голландцы нуждаются в защите против пронырливых арабов, то этот океанский дипломат со значительной миной отвечал ему, что арабы более лояльны, чем голландцы, которые нарушают закон, продавая малайцам порох. Ни в чем неповинный Олмэйр сразу же догадался, что причиной этих слов были вкрадчивые речи Абдуллы и торжественная убедительность Лакамбы, но прежде чем он успел выразить негодующий протест, паровой катер быстро двинулся вниз по течению, увозя за собой вереницу шлюпок, а он остался на пристани с разинутым ртом, полный изумления и гнева. От Самбира ровно тридцать миль до островков той бухты, где стоял фрегат в ожидании возвращения шлюпок. Лодки не дошли еще до середины пути, как взошла луна. Черный лес, мирно дремавший под ее холодными лучами, не раз просыпался в эту ночь от взрывов хохота, вызванных на маленькой флотилии каким-то напоминанием о плачевном рассказе Олмэйра. Морские остроты по адресу горемыки-неудачника перелетали с лодки на лодку; отсутствие его дочери вызвало строгое порицание, а недостроенный дом, воздвигнутый в ожидании неприбывших англичан, по общему приговору легкомысленных моряков окрещен был в ту веселую ночь «Капризом Олмэйра».
После этого посещения жизнь в Самбире надолго вернулась к своему ровному течению, не отмечаемому никакими событиями. Восходящее солнце из-за лесных вершин ежедневно освещало все ту же картину привычной деятельности. Прогуливаясь по тропинке, составлявшей единственную улицу поселка, Найна наблюдала, как мужчины валялись в тени домов на высоких площадках, как женщины усердно толкли рис для дневного пропитания, а голые коричневые дети бегали взапуски по узким тропинкам, ведущим к полям. Джим-Энг, слоняясь у своего дома, приветствовал Найну дружелюбным кивком головы, а потом отправлялся в комнаты к своей излюбленной трубке опия. Старшие дети осмелели после долгого знакомства и, окружив девушку, теребили темными пальцами ее белоснежное платье; они улыбались ей, обнажая блестящие зубы, в ожидании дождя стеклянных бус. Она улыбалась им спокойной улыбкой; но для кого у нее всегда было готово ласковое словечко, это – для одной девушки-сиамки, невольницы, принадлежавшей некоему Буланджи, у которого было множество жен, по слухам весьма сварливых. Вполне достоверная молва говорила, что домашние столкновения в семье этого трудолюбивого землепашца всегда оканчивались тем, что все жены сообща нападали на рабыню – сиамку. Сама девушка никогда не жаловалась, может быть, из осторожности, но, вернее всего, из странной апатической покорности, свойственной полудиким женщинам. С раннего утра ее можно было встретить на тропинках между домами, на берегу реки или на пристанях; на голове у нее был поднос с печеньем, которое ей было поручено продавать, причем она с удивительной ловкостью носила его на голове. От полуденного зноя она обыкновенно укрывалась где-нибудь на усадьбе Олмэйра, часто находя приют в тенистом уголке веранды. Найна иногда звала ее к себе. Сиамка садилась на корточки, поставив перед собой свой поднос. Она всегда готова была улыбнуться Мем-Путай, но появление миссис Олмэйр, даже один только звук ее визгливого голоса – служил для нее сигналом к поспешному бегству.
С этой девушкой Найна нередко беседовала; зато остальные обитатели Самбира почти ни разу не слышали звука ее голоса. Они привыкли к молчаливой фигуре, одетой во все белое, спокойно двигавшейся среди них, привыкли к этому непонятному для них существу из иного мира. Однако, несмотря на всю внешнюю уравновешенность Найны, несмотря на очевидную ее отдаленность от окружающих ее предметов и людей, ее жизнь протекала далеко не спокойно; миссис Олмэйр была так энергична и деятельна, что ее семья не могла наслаждаться ни счастьем, ни даже простой безопасностью. Она возобновила до известной степени сношения с Лакамбой, правда, не непосредственно, так как достоинство этого монаха не позволяло ему показываться вне пределов своей ограды; но посредником между ними служил первый министр правителя, начальник его порта, советник его в финансовых вопросах и вообще главный его фактотум. Этот джентльмен – он был родом из Сулу, – несомненно, обладал качествами государственного мужа, хотя и был лишен личной привлекательности. По правде говоря, он просто-напросто был отвратителен – рябой и кривой на один глаз, к тому же нос его и губы были страшно изуродованы черной оспой. Этот непривлекательный человек часто появлялся в саду у Олмэйра в домашнем костюме, состоявшем из куска розового коленкора, опоясывавшего его чресла. На задворках дома, сидя на корточках на разбросанной повсюду золе, в близком соседстве с чугунным котлом, в котором служанки варили обеденный рис для всего дома под наблюдением миссис Олмэйр, хитрый посредник вел длинные беседы с ней на языке Сулу. О предмете этих бесед можно было догадываться по семейным сценам, разыгрывавшимся потом у домашнего очага Олмэйра.
За последнее время Олмэйр пристрастился к поездкам вверх по реке. Он уезжал на несколько дней кряду в небольшом челноке с двумя гребцами и с верным Али в качестве рулевого. Абдулла и Лакамба, разумеется, зорко следили за каждым его шагом, ибо нет никакого сомнения, что человек, бывший некогда доверенным раджи Лаута, должен был знать множество весьма ценных секретов. Береговое население Борнео свято верит, что в глубине страны есть алмазы баснословной ценности и бесконечно богатые золотые прииски. Все эти сказки приобретают тем больший вес оттого, что доступ внутрь острова чрезвычайно труден, особенно с северо-востока, где малайцы постоянно враждуют с речными племенами даяков или «охотников за черепами». Но, с другой стороны, действительно некоторое количество золота достигает побережья через посредство этих даяков, когда, во время редких перемирий, им случается посещать приморские малайские поселки. На шатком основании подобных фактов и создаются самые фантастические легенды.
В качестве белого человека Олмэйр – как до него Лингард – находился в несколько лучших отношениях с племенами верхнего течения реки. Но даже и его поездки были далеко небезопасны, и нетерпеливый Лакамба всегда с напряженным интересом ожидал его возвращения. Однако раджу каждый раз постигало разочарование. Напрасно фактотум его Габалатян вел длинные беседы с женой белого человека. Сам белый человек оставался непроницаемым, на него не действовали ни убеждения, ни ласки, ни брань; до его души не доходили ни нежные слова, ни пронзительные оскорбления, ни отчаянные мольбы, ни ужасающие угрозы. Желая уговорить мужа войти в союз с Лакамбой, миссис Олмэйр пускала в ход всю гамму человеческих страстей.
В грязном платье, туго завязанном под мышками над ее чахлой грудью, с редкими седыми волосами, свисавшими в беспорядке вдоль ее выдающихся скул, она становилась в просительную позу и пронзительным голосом пространно расписывала все выгоды сближения с таким хорошим и справедливым человеком.
– Почему тебе не пойти к радже? – кричала она. – Зачем тебе возвращаться в леса даяков? Даяков следовало бы всех перебить; но ты не можешь этого сделать, а воины нашего раджи мужественны и храбры. Ты скажешь радже, где находится сокровище белолицего старика. Наш раджа добр! Он нам настоящий дедушка, наш Бату-Безар! Он перебьет этих негодных даяков, и ты получишь половину сокровищ. О Каспар, скажи, где находится клад! Скажи мне! Прочти мне об этом из бумаги старика, которую ты так часто читаешь по вечерам!
В таких случаях Олмэйр только горбил спину под натиском семейной бури, да отмечал паузы в потоке красноречия своей жены тем, что сердито ворчал: «Пошла прочь, никакого клада нет». Выведенная наконец из себя видом его терпеливо-согбенной спины, она кончала тем, что обходила стол с противоположной стороны. Не помня себя от презрения и гнева и подобрав одной рукой платье, она протягивала вперед другую тощую руку с крючковатыми, как птичьи когти, пальцами и изливала быстрый поток презрительных замечаний и горьких проклятий по адресу человека, недостойного войти в союз с доблестными малайскими вождям. Дело обычно кончалось тем, что Олмэйр медленно вставал, держа в руках свою длинную трубку, и, с перекошенным от боли лицом, молча удалялся. Он спускался с лестницы и по густой траве уходил в уединение своего нового дома, еле волоча ноги, изнемогая от страха и отвращения перед этой фурией. А она преследовала его до верхней ступени лестницы, продолжая сыпать безудержной бранью вслед его удаляющейся фигуре. Сцена неизменно оканчивалась пронзительным возгласом, издалека доносившимся до ушей Олмэйра: «Я – твоя жена, Каспар, помни это! Твоя настоящая христианская жена по твоему собственному закону бланда!» Она знала, что это для него было горше всего на свете, что именно об этом он сокрушается всю свою жизнь.
Найна была бесстрастной свидетельницей всех подобных сцен.
Никакого мнения она не высказывала. Казалось, что она глуха, нема, совершенно бесчувственна. Но после того как отец ее укрывался в пустых и пыльных комнатах своего «Каприза», а мать устало садилась на корточки, прислонившись спиной к ножке стола, Найна приближалась к ней с любопытством, оберегая платье от сока бетеля, которым был заплеван весь пол, она глядела на нее так, как смотрят в затихающий кратер вулкана после разрушительного извержения.
После такого рода сцены миссис Олмэйр обыкновенно обращалась к воспоминаниям детства; она повествовала об них монотонным речитативом, бессвязно превознося славу султана Сулу, его великолепие, могущество, доблесть, страх, поражавший сердца белых людей при виде его быстроходных пиратских судов. К этим бессвязным воспоминаниям о могуществе ее деда примешивались отрывки более поздних впечатлений, среди которых первое место занимали великая битва с бригом «Белого Дьявола» и жизнь в самарангском монастыре. Тут ход ее мысли обычно обрывался; она вытаскивала из-за пазухи маленький медный крестик, всегда висевший у нее на шее, и смотрела на него с суеверным ужасом. Это суеверное чувство, приписывавшее какие-то чудодейственные свойства этому кусочку металла, да еще более туманное, но ужасное представление о злых джиннах и страшных муках, придуманных, по ее мнению, матушкой-настоятельницей нарочно для ее наказания, в случае потери фетиша, составляли весь богословский багаж, данный миссис Олмэйр в напутствие для плавания по бурному морю житейскому. Но миссис Олмэйр имела в жизни хоть что-нибудь осязательное, к чему она, в случае надобности, могла прибегнуть, у Найны же, воспитанной под протестантским крылышком чопорной миссис Винк, не было даже такого кусочка меди, который напоминал бы ей о прежнем учении. Прислушиваясь к описаниям этой дикой славы, этих варварских сражений и свирепых празднеств, к рассказам о доблестных, хотя и несколько кровожадных подвигах, в которых племя ее матери затмевало людей племени оранг-бланда, она испытывала какое-то неизъяснимое очарование: она с тайным изумлением чувствовала, как спадали с нее тесные покровы культурной морали, в которые благомыслящие люди облекли ее юную душу, и беспомощно содрогалась, сознавая себя как бы на краю глубокой, неведомой бездны. Но странное дело, – бездна эта не страшила ее, покуда она находилась под влиянием ведьмы, которую звала своей матерью. Пока она жила в культурной обстановке, она как будто забыла о прежней своей жизни, о том, что было до того мгновения, когда Лингард, так сказать, похитил ее из Броу. С тех пор она получила воспитание в христианском духе; ее научили светским манерам и показали ей цивилизованный образ жизни. К сожалению, наставники не поняли ее души, и воспитание окончилось унизительной для нее сценой, взрывом презрения со стороны белых людей к ее смешанному происхождению. Она глубоко пережила всю горечь этой сцены и твердо запомнила, что негодование добродетельной миссис Винк обрушилось не столько на юношу, служившего в банке, сколько на нее, хотя она была не виновата в его увлечении. И точно так же для нее не существовало ни малейшего сомнения в том, что главной причиной негодования миссис Винк была мысль, что подобная вещь могла случиться в ее белом гнездышке, куда ее белоснежные голубки, две мисс Винк, только что вернулись из Европы, чтобы под материнским крылышком ожидать появления предназначенных им судьбой безупречных супругов. Даже мысль о деньгах, с таким трудом собираемых Олмэйром для покрытия расходов Найны и так аккуратно им высылаемых, не могла поколебать добродетельного решения миссис Винк. Найна была изгнана; да она и сама стремилась уехать, хотя ее и пугала немного предстоявшая ей перемена жизни. С тех пор она уже целых три года прожила на реке между матерью-дикаркой и слабым, нерешительным, жалким отцом, бродившим по двору среди ям, но мысленно витавшим в заоблачных высях. Она жила без всяких культурных удобств, в нищенской домашней обстановке. Ей приходилось дышать в атмосфере грязной погони за наживой, отвратительных интриг и преступлений, совершаемых ради денег или развратных желаний. Все это, вместе с домашними ссорами, составляло единственные события этих трех лет ее жизни. Сперва она думала, и даже надеялась, что через месяц она умрет от отвращения и отчаяния. Но она осталась в живых, и напротив, по прошествии полугода ей уже казалось, что она никогда не знала другой жизни. Ее молодой ум, которому сначала неумело показали нечто лучшее, чтобы потом снова отбросить его в безнадежную трясину варварства, полную сильных и безудержных страстей, совершенно утратил способность разбираться в окружающей жизни. Найне казалось, что никакой перемены или разницы и не существовало. Торговали ли люди в каменных складах или на топком берегу реки; гнались ли они за малым или за великим; вели ли они любовные интриги под сенью могучих деревьев или в тени собора на сингапурском бульваре; добивались ли своего под охраной законов и согласно правилам христианского поведения, или искали удовлетворения своих желаний с первобытной хитростью и необузданной пылкостью дикарей, – Найна всюду видела те же проявления любви и ненависти и грязной жадности, вечно преследовавшей ускользающий доллар во всех его бесчисленных и переменчивых воплощениях. По прошествии всех этих лет дикая и несомненная откровенность намерений, проявляемая ее сородичами-малайцами, казалась ее решительной натуре лучше увертливого лицемерия, вежливой маскировки и добродетельного притворства тех белых людей, с которыми она имела несчастье столкнуться. К тому же она знала, что жизнь ее в будущем должна быть такой же, какой была в настоящем; поэтому она все больше и больше подпадала под влияние матери. По своей неопытности она стремилась найти в этой жизни хорошую сторону и жадно прислушивалась к рассказам старухи о былой славе раджей, из рода которых она происходила; мало-помалу она начала все равнодушнее и пренебрежительнее относиться к своим белым предкам, представленным слабым и чуждым всяких традиций отцом.
После ее приезда в Самбир затруднения Олмэйра отнюдь не уменьшились. Правда, волнение, вызванное ее приездом, давно улеглось, и Лакамба не возобновлял своих посещений; но примерно через год после отплытия военного фрегата вернулся из паломничества в Мекку Сеид Решид, племянник Абдуллы, украшенный зеленой курткой и громким титулом «хаджи». С парохода, на котором он прибыл, пускали ракеты, а на усадьбе раджи всю ночь трещали барабаны. Пир затянулся до позднего утра. Решид был любимым племянником и наследником Абдуллы. Встретив однажды Олмэйра на берегу, нежный дядюшка подошел к нему с приветствием и торжественной просьбой о свидании. Олмэйр ожидал какой-нибудь плутни или, по меньшей мере, неприятности, но, разумеется, согласился, проявив при этом живейшую радость. Согласно уговору, Абдулла явился на следующий же вечер после заката солнца в сопровождении нескольких других седобородых старцев и своего племянника. Молодой человек, имевший вид мота и кутилы, делал вид, что он бесконечно равнодушен ко всему происходящему. Когда факельщики столпились у подножия лестницы, а посетители разместились на колченогих стульях, Решид отошел в сторонку и стал в тени, с величайшим вниманием рассматривая свои аристократические маленькие руки. Удивленный торжественным поведением своих посетителей, Олмэйр, с характерным для него отсутствием достоинства, уселся на краюшке стола, что тотчас же было отмечено арабами с большим неодобрением. Но вот Абдулла заговорил, глядя мимо Олмэйра прямо в сторону красной занавеси, висевшей в дверях; легкие движения ее указывали на присутствие за ней женщин. Он начал с того, что в изысканных выражениях поздравил себя и Олмэйра с той долгой вереницей лет, которые они прожили в дружеском соседстве, и молил аллаха ниспослать Олмэйру много лет жизни на радость его друзьям. Он вежливо намекнул на великое уважение, оказанное ему (т. е. Олмэйру) голландской комиссией, и вывел из этого лестное заключение о большом значении Олмэйра среди его народа. Он – Абдулла – также имеет вес среди остальных арабов, и племянник его, Решид, унаследует его положение в свете и его богатство. Решид теперь хаджи. Он является обладателем нескольких женщин-малаек; но пора ему обзавестись любимой женой, первой из четырех, дозволенных пророком. С той же изысканной учтивостью он объяснил Олмэйру, что, если тот согласится выдать свою дочь за правоверного и добродетельного юношу Решила, то она будет обладательницей всех чудес его дома и старшей женой первого араба на островах, после того как всеблагой аллах призовет его, Абдуллу, к райскому блаженству.
– Ты знаешь, туан, – сказал он в заключение, – что все остальные женщины будут ее служанками и что дом Решида просторен. Он привез из Бомбея большие диваны, дорогие ковры, европейскую мебель. Есть там и зеркало в раме, которая блестит как золото. Чего же еще нужно девушке?
И в то время, как Олмэйр в безмолвном замешательстве глядел на Абдуллу, тот знаком удалил свою свиту и перешел на более конфиденциальный тон, закончив свою речь указанием на материальные выгоды этого союза и предложив Олмэйру внести на его имя три тысячи долларов в знак его, Абдуллы, искренней дружбы и в качестве выкупа за девушку.
С бедным Олмэйром едва не приключился припадок. Ему страстно хотелось схватить Абдуллу за горло; но стоило ему только вспомнить свое беспомощное положение среди этих на все готовых людей, чтобы понять необходимость дипломатического выхода из положения. Он поборол подымавшееся в нем желание и холодно и учтиво отвечал, что девушка еще молода и дорога ему как зеница ока. Туан Решид, правоверный и хаджи, не захочет иметь в своем гареме женщину-гяурку; но, увидев скептическую улыбку, которой Абдулла отвечал на это последнее возражение, он замолчал, не смея продолжать, не решаясь ни отказать наотрез, ни сказать что-нибудь, похожее на согласие. Абдулла понял смысл этого молчания и с важным поклоном стал прощаться. Он пожелал «тысячу лет» жизни своему другу Олмэйру и спустился с лестницы, почтительно поддерживаемый Решидом. Факельщики замахали своими факелами, рассеяв над рекой целый дождь искр, и процессия удалилась. Олмэйр был сильно взволнован, и уход гостей принес ему значительное облегчение. Он бросился в кресло и следил за мелькавшими среди древесных стволов огнями, пока они не скрылись из глаз и полная тишина не сменила топота ног и гула голосов. Он не пошевелился до тех пор, покуда не зашелестела занавеска и Найна не вышла на веранду. Она уселась в качалку, в которой ежедневно проводила много часов кряду, и принялась слегка покачиваться в ней, откинувшись на спинку и полузакрыв глаза. Длинные волосы затеняли ее лицо от дымного света настольной лампы. Олмэйр украдкой взглянул на нее, но ее лицо было бесстрастно как всегда. Она слегка повернулась к отцу и, к великому его изумлению, заговорила по-английски:
– Это Абдулла был здесь? – спросила она.
– Да, – отвечал Олмэйр, – сейчас только ушел.
– Чего он хотел, отец?
– Купить тебя для Решила, – грубо отвечал Олмэйр, поддаваясь чувству гнева и глядя на девушку так, словно ожидал какой-нибудь вспышки с ее стороны. Но Найна, видимо, сохраняла полное спокойствие и мечтательно вглядывалась в темную ночь.
– Смотри, Найна, будь осторожна, когда катаешься одна по реке, – сказал Олмэйр, помолчав и вставая со стула. – Этот Решид дерзкий негодяй, и от него всего можно ожидать. Ты слышишь, что я говорю?
Она тоже встала с места, готовясь войти в дом, и взялась рукой за дверную занавесь. Вдруг она обернулась и внезапным движением отбросила назад свои тяжелые косы.
– Ты думаешь, он посмеет? – быстро спросила она и потом снова повернулась, чтобы уйти, прибавив уже тише: – Не посмеет. Арабы все трусы.
Олмэйр с удивлением посмотрел ей вслед. Он не отправился на покой в свой гамак, а продолжал шагать взад и вперед по веранде, задумчиво останавливаясь по временам у балюстрады. Лампа погасла, первый луч зари загорелся над лесом; Олмэйр вздрогнул от сырости воздуха.
– Ничего не понимаю! – пробормотал он, устало ложась в гамак. – Черт бы побрал этих женщин! Право, похоже на то, что девчонке хочется, чтобы ее украли.
И он почувствовал, как безотчетный страх заползал к нему в сердце, заставляя его трепетать и содрогаться.








