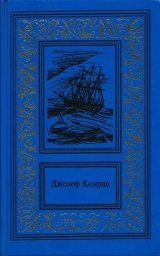
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 52 страниц)
ГЛАВА VII
Яркое сияние безоблачного и ясного утра сменило ночную непогоду и озарило главную улицу поселка, пролегавшую от ворот усадьбы Абдуллы до низкого берега Пантэйского протока.
Улица в то утро была совершенно пустынна. Ее желтая поверхность, плотно утоптанная бесчисленным множеством босых ног, тянулась между группами пальмовых деревьев; их высокие стволы пересекали ее черными широкими полосами через неровные промежутки, а только что взошедшее солнце отбрасывало тень их перистых верхушек далеко за крыши домов на берегу реки, даже за самую реку, безмолвно и быстро струившуюся мимо опустелых домов, потому что дома были так же безлюдны, как и улица. Утренние костры, разведенные на узкой полосе вытоптанной травы, отделявшей их открытые двери от дороги, беспризорно тлели; тонкие струйки дыма вились над ними в прохладном воздухе и обволакивали безлюдное селение тончайшим покровом таинственной голубой дымки. Олмэйр только что вылез из своего гамака и сонно присматривался к необычному виду Самбира, смутно дивясь окружавшей его безжизненности.
В его собственном доме тоже царила полнейшая тишина. Не слышно было ни голоса жены, ни легких шагов Найны в большой комнате, выходившей на веранду, которую он называл своей гостиной, когда в разговоре с белыми людьми хотел заявить свои права на приличную культурную обстановку. Никто никогда не принимал гостей в этой комнате; там даже не на чем было бы усадить их; в припадках дикого исступления, находивших на миссис Олмэйр при волновавших ее воспоминаниях разбойничьего периода ее жизни, она давно уже сорвала со стен драпировки на саронги для невольниц, а нарядную мебель сожгла поштучно, чтобы варить рис для всего дома. Но Олмэйр уже не думал больше о своей мебели. Он думал о возвращении Дэйна, о ночном его свидании с Лакамбой, о возможном влиянии этого свидания на его собственные, зрело обдуманные, близкие к осуществлению планы. Его тревожило еще и то обстоятельство, что Дэйн не являлся, хотя и обещал прийти спозаранку. «Молодой человек двадцать раз мог переплыть реку, – размышлял он, – А дела нынче без конца. Надо переговорить окончательно насчет завтрашнего отъезда, насчет спуска лодок на воду; надо обсудить тысячу и одну последнюю мелочь. Экспедиция должна выступить в полном порядке, ничто не должно быть забыто, ничто не должно быть…»
Его вдруг осенило сознание непривычной тишины; под влиянием этого необыкновенного молчания он поймал себя на том, что жаждет услышать звук голоса своей жены, столь неприятный ему в обычное время, лишь бы только нарушилась эта гнетущая тишина; его испуганной душе казалось, что эта тишина предвещает какое-то новое несчастье.
– Что случилось? – сказал он вполголоса и зашаркал своими спадающими туфлями к балюстраде веранды. – Спят все или умерли, что ли?
Но поселок был жив и чрезвычайно далек от сна. Он пробудился ранним утром, в ту минуту, как Махмуд Банджер в приливе небывалой энергии поднялся с постели, захватил топор, перешагнул через тела обеих своих спящих жен и дрожа направился к реке взглянуть, не снесло ли за ночь водой начатый им новый дом.
Предприимчивый Махмуд строил дом на большом плоту. Он привязал его в заливчике, образованном илистой косой у самого слияния обоих рукавов Пантэя, чтобы обезопасить от плавучих деревьев, которые, несомненно, должно было выкинуть бурей на косу. Махмуд шагал по мокрой траве, фыркал от холода и вполголоса проклинал суровые требования трудовой жизни, выгнавшие его с теплой постели на утренний холод. С первого же взгляда он убедился, что дом на месте, и похвалил себя за предусмотрительность, с которой он уберег его от беды, ибо в прибывающем свете утра он увидал беспорядочную груду сплавного леса, выброшенного на низкий берег. Бревна сгрудились в бесформенный плот, переплелись ветками и метались из стороны в сторону, сталкиваясь между собой в водовороте, образованном встречным течением обоих рукавов реки. Махмуд спустился к воде, чтобы осмотреть ратановые привязи своего дома в то мгновение, когда солнце осветило деревья на противоположном берегу. Нагибаясь к канатам, он снова рассеянно взглянул на толкущиеся бревна и увидал там нечто такое, что заставило его отбросить свой топор и выпрямиться, заслонив глаза рукой от лучей восходящего солнца. В реке лежало что-то красное, и бревна перекатывались через этот странный предмет, то собираясь вокруг него, то совершенно скрывая его. Сначала ему показалось, что это просто кусок красной ткани, но через минуту Махмуд уже явственно разглядел, в чем дело, и поднял громкий крик:
– Эй-а! Эй вы там! – кричал Махмуд. – Здесь человек попал под бревна!
Махмуд приложил ладони ко pry в виде трубы, обернулся в сторону поселка и закричал, раздельно произнося слова:
– Тут утопленник! Идите, посмотрите! Мертвец – чужой!
Женщины из ближайшего дома уже хлопотали на улице, раскладывали костер и толкли рис. Они пронзительно подхватили крик, и он понесся от дома к дому, замирая в отдалении. Мужчины, взволнованные, молча ринулись из домов к грязной отмели, где бесчувственные бревна метались, толклись, прыгали и перекатывались над телом незнакомца с тупым упорством неодушевленных предметов. Следом за мужчинами устремились и женщины, бросив свои домашние дела и рискуя нажить семейные неприятности, а за ними побежала толпа ребятишек, восхищенных неожиданным праздником.
Олмэйр громко окликнул жену и дочь, но не получил ответа и остановился, внимательно прислушиваясь. До него долетел слабый отголосок гула толпы и принес с собой уверенность в каком-то необыкновенном происшествии. Он собрался было покинуть веранду, но взглянул на реку и остановился при виде крошечной лодочки, переправлявшейся через нее от пристани раджи. Одинокий человек, сидевший в лодке, – Олмэйр скоро узнал Бабалачи, – переплыл реку несколько ниже дома и пристал к Лингардовским мосткам в спокойной полосе воды у берега. Бабалачи медленно выкарабкался на берег и с мелочной заботливостью принялся привязывать свой челнок, как бы вовсе не торопясь подойти к Олмэйру, смотревшему на него с веранды. Эта медлительность позволила Каспару заметить официальный наряд Бабалачи – и удивиться ему. Самбирский вельможа был облачен в подобающие его высокому сану одежды. Через левое плечо и обнаженную грудь почтенного дипломата перекинут был блестящий ремень с медной бляхой, на которой красовался нидерландский государственный герб с надписью: «Султан самбирский». Голова Бабалачи была обвита красным тюрбаном; бахромчатые концы его спадали вдоль левой щеки на левое плечо и придавали его старческому лицу комичное выражение бесшабашной удали. Когда он наконец остался вполне доволен тем, как привязал свою лодку, он выпрямился, отряхнул складки своего саронга и большими шагами направился к дому Олмэйра, мерно выставляя вперед свой посох из черного дерева; золотой набалдашник, украшенный драгоценными камнями, сверкал при этом на утреннем солнце. Олмэйр замахал рукой в сторону отмели, которой сам разглядеть не мог, но которую хорошо было видно от пристани.
– Ой-го, Бабалачи, ой-го! – закричал он. – Что там такое? Не видно тебе?
Бабалачи остановился и стал пристально вглядываться в толпу, собравшуюся на берегу; через мгновенье он, к изумленью Олмэйра, свернул с дорожки, подобрал свой саронг и рысью пустился по траве в сторону отмели. Охваченный, в свою очередь, любопытством, Олмэйр сбежал со ступеней веранды. До него теперь уже явственно доносился гул мужских голосов и звонкие крики женщин, а как только он обогнул угол своего дома, он увидал толпу на берегу, волновавшуюся вокруг какого-то интересовавшего ее предмета. Он смутно различил голос Бабалачи, потом толпа раздвинулась перед престарелым сановником и вновь сомкнулась за ним. Гул перешел в громкий крик.
Когда Олмэйр подходил к толпе, от нее отделился человек и бросился бежать в сторону поселка, не обращая внимания на его окрик. Напрасно Олмэйр просил человека остановиться и объяснить причину его возбуждения. Приблизившись к толпе, Олмэйр был остановлен неподатливой людской массой, не внимавшей его просьбам расступиться, нечувствительной к легким толчкам, с помощью которых он пытался протиснуться к берегу.
Пока он медленно и осторожно пробивался сквозь толпу, ему вдруг почудилось, будто в самой гуще ее раздается голос его жены. Он не мог не узнать крикливого тембра миссис Олмэйр, но самых слов ее он не понял – так они были неявственны. Он на минуту оставил свои попытки пробраться вперед и собирался расспросить окружавших, как вдруг долгий и пронзительный вопль поколебал воздух, заглушая рокот толпы и голоса его собеседников. На мгновенье Олмэйр окаменел на месте от ужаса и неожиданности, потому что теперь ему стало вполне ясно, что жена его причитает над покойником. Он вспомнил странное отсутствие Найны – и, обезумев от страха за нее, слепо и бурно ринулся вперед, а толпа с криками боли и удивления расступилась перед его бешеным натиском.
На небольшом свободном пространстве на берегу лежало тело незнакомца, только что вытащенное из-под бревен. По одну его сторону стоял Бабалачи, опираясь подбородком на набалдашник своего посоха; его единственный глаз пристально вглядывался в бесформенную груду раздробленных рук и ног, растерзанного мяса и окровавленных лохмотьев. В ту минуту, как Олмэйр прорвался сквозь кольцо пораженных ужасом зрителей, миссис Олмэйр набросила свое головное покрывало на обращенное кверху лицо покойника и, присев рядом с ним на корточки, издала новый скорбный вопль, заставивший содрогнуться замолкнувшую теперь толпу. Насквозь промокший Махмуд обратился к Олмэйру, желая и ему повторить свою повесть.
Олмэйр был так испуган, что солнце на мгновенье померкло перед ним, и он слушал то, что ему говорили, не понимая ни слова. Когда же ему наконец удалось пересилить себя и опомниться, то услышал, что Махмуд говорит:
– Вот как это было, туан. Его саронг зацепился за сломанный сук, и он повис в воде вниз головой. Когда я увидал, что это такое, я не хотел оставлять его здесь. Я хотел отцепить тело для того, чтобы оно могло уплыть куда-нибудь в другое место. Зачем мы будем хоронить какого-то чужестранца вблизи своих жилищ? Для того ли, чтобы его призрак приходил пугать наших жен и детей? Разве мало у нас своих собственных призраков?
Здесь его речь была прервана одобрительным говором. Махмуд укоризненно посмотрел на Бабалачи.
– Но туан Бабалачи приказал мне вытащить тело на берег, – продолжал он, оглядывая всех слушателей, но обращаясь к одному только Олмэйру, – и я вытащил его за ноги, я тащил его по грязи, хотя сердце мое жаждало видеть, как оно поплывет по реке и, может быть, пристанет к участку Буланджи, – да осквернит кто-нибудь могилу его отца!
Подавленный смех раздался в ответ на эти слова, ибо вражда Махмуда с Буланджи всем была известна и представляла неувядаемый интерес для жителей Самбира. В самый разгар веселья миссис Олмэйр вдруг снова заголосила.
– Аллах! Что такое с этой женщиной! – сердито воскликнул Махмуд. – Так вот, я касался этой падали, приплывшей невесть откуда, и, вероятно, осквернился и не могу теперь есть риса. Я сделал это по приказанию туана Бабалачи, чтобы угодить белому человеку. Доволен ли ты, о туан Олмэйр? И что ты дашь мне и награду? Туан Бабалачи сказал, что ты наградишь меня. Подумай только! Я осквернил себя, а если и не осквернил, то, может быть, подпал под власть злых чар. Ты только взгляни на его ножные запястья! Где это слыхано, чтобы мертвецы появлялись ночью под бревнами с золотыми обручами на ногах? Здесь, наверное, кроется колдовство. Впрочем, – продолжал Махмуд после сосредоточенного минутного размышления, – я возьму браслет, если мне позволят, потому что у меня есть талисман против привидений, и я их не боюсь. Велик аллах!
Новый взрыв шумной горести со стороны миссис Олмэйр прервал поток его красноречия. Олмэйр был совершенно сбит с толку. Он по очереди смотрел то на жену, то на Махмуда, то на Бабалачи; в конце концов взгляд его как зачарованный остановился на трупе утопленника, лежавшем в грязи с покрытым лицом, с причудливо и неестественно растерзанным и раздробленным телом; одна вывернутая, истерзанная рука, сквозь мясо которой местами торчали белые кости, была откинута в сторону. Кисть ее с растопыренными пальцами почти касалась ноги Олмэйра.
– Ты не знаешь, кто это? – тихо спросил он у Бабалачи.
Бабалачи неподвижно уставился прямо перед собой и едва заметно пошевелил губами; неумолчные причитания миссис Олмэйр заглушили его тихий ответ, предназначенный для ушей одного только Олмэйра.
– Такова видно судьба его! Взгляни себе под ноги, о белолицый! Я вижу хорошо знакомое мне кольцо на этих изуродованных пальцах.
Говоря так, Бабалачи сделал неосмотрительный шаг вперед и как будто нечаянно наступил ногой на руку трупа, вдавив ее в мягкий ил. Он угрожающе замахнулся посохом на толпу, которая тотчас же немного подалась назад.
– Ступайте прочь, – сказал он сурово, – и отошлите своих женщин к кострам, которых им вообще не следовало покидать, чтобы бежать за незнакомым трупом. Здесь дело мужское. Я беру этого мертвеца от имени раджи. Пускай здесь останутся одни только невольники туана Олмэйра. Ступайте.
Толпа неохотно начала расходиться. Сперва ушли женщины, уводя упирающихся детей, всей тяжестью своей повисавших на материнской руке. Мужчины медленно потянулись за ними, то сходясь в кучки, то снова разбредаясь по мере приближения к деревне; каждый постепенно ускорял шаг, направляясь к своему дому, потому что всех подгонял голод и ожидание утреннего риса. Только несколько человек – друзей или врагов Махмуда – задержались немного на пригорке над спуском к реке, с любопытством поглядывая на небольшую толпу людей, окружавших тело на берегу.
– Не понимаю, что ты хочешь сказать, Бабалачи, – сказал Олмэйр. – О каком кольце ты говоришь? Кто бы ни был бедняга, но ты втоптал его руку в самую грязь. – Открой его лицо, – продолжал он, обращаясь к миссис Олмэйр, сидевшей на корточках в головах у трупа и раскачивавшейся из стороны в сторону. Она потрясала своими растрепанными седыми кудрями и жалобно причитала вполголоса.
– Увы! – вскричал Махмуд, державшийся поблизости. – Взгляни, туан! Бревна столкнулись между собой вот так (тут он сжал руки ладонями вместе) и голова его, должно быть, попала между ними, так что теперь не осталось у него лица, на которое ты мог бы взглянуть. Мясо его есть, и кости, и нос, и губы, и может быть, и глаза – но никто не отличит их теперь друг от друга. Так написано было в день его рождения, что никто не сможет взглянуть на него мертвого и сказать: «Вот лицо друга моего!»
– Замолчи, Махмуд! Довольно! – сказал Бабалачи. – Будет тебе глазеть на его браслет, о пожиратель свиного мяса! Туан Олмэйр, – продолжал он, понизив голос, – видел ты Дэйна сегодня утром?
Олмэйр широко раскрыл глаза с испуганным видом.
– Нет, – быстро отвечал он. – Не видал ли ты его? Может быть, он у раджи? Я жду его; отчего он не приходит?
Бабалачи печально тряхнул головой.
– Он пришел, туан. Он уехал от нас вчера в самую бурю, когда река всего сильнее бушевала и гневалась. Ночь была чернее черного, но в сердце его теплился свет, в сиянии которого путь к твоему дому казался ему ровнее спокойной воды в канале, а многочисленные плавучие бревна – безвреднее соломинок. Поэтому он поехал – и вот лежит теперь здесь.
И Бабалачи кивнул головой в сторону трупа.
– Откуда ты знаешь? – сказал Олмэйр, в волнении отталкивая жену.
Он сорвал покрывало с лица утопленника и взглянул на бесформенный комок волос, мяса и засыхающей грязи на том месте, где должно было находиться лицо мертвеца.
– Ничего нельзя сказать, – прибавил он, содрогаясь, и отвернулся.
Бабалачи опустился на колени и вытер грязь с закоченевших пальцев откинутой руки. Потом он выпрямился, и перед глазами Олмэйра сверкнул золотой перстень, украшенный крупным зеленым камнем.
– Ты хорошо знаешь этот перстень, – сказал Бабалачи. – Он никогда не сходил с руки Дэйна. Мне сейчас пришлось сорвать кусок мяса, чтобы снять его. Веришь ли ты мне теперь?
Олмэйр вскинул руки над головой, а потом бессильно уронил их в полном оцепенении отчаяния. Смотревший на него с любопытством Бабалачи, к удивлению своему, заметил, что он улыбается. Странное представление овладело мозгом Олмэйра, потрясенным этим новым бедствием. Ему показалось, что в течение многих лет он непрерывно падал в яму. День за днем, месяц за месяцем, год за годом – все падал, падал, падал. Яма черная, круглая, с гладкими стенками, и эти черные стенки летели кверху с утомительной быстротой. Потом раздался шум падения, который он, казалось, все еще слышал; наконец, ужасный толчок – он упал на дно и остался жив и невредим, а Дэйн лежал мертвый, с переломанными костями. Это показалось ему смешно. Мертвый малаец, он часто и без малейшего волнения видал мертвых малайцев; но на этот раз ему хотелось плакать – плакать над участью одного знакомого ему белого человека: этот человек упал в глубокую пропасть – и не убился. Ему представлялось, что он как будто стоит в стороне, немного поодаль, и смотрит на некоего Олмэйра, над которым стряслась большая беда. Бедный, бедный Олмэйр! Почему он не перережет себе горло? Ему хотелось поощрить его в этом направлении; ему поскорее хотелось увидать его мертвым, лежащим поперек того, другого трупа. Почему он не ум– |)ет и не прекратит своих страданий? Он бессознательно громко застонал и вздрогнул, испугавшись звука собственного голоса. Уж не с ума ли он сходит? В ужасе от этой мысли он повернулся и бросился бежать к дому, твердя: «Я не схожу с ума, конечно, нет! Нет, нет, нет!» Он старался сосредоточиться на этой мысли. Он не сходит с ума, не сходит! Он спотыкался, ничего не видя, когда избегал по ступенькам, все быстрее и быстрее повторяя эти слова, словно в них таилось его спасение. Он увидал стоявшую на веранде Найну и хотел сказать ей что-то, но только никак не мог нспомнить, что именно, – так он старался не забыть, что он и не думает сходить с ума. Он продолжал твердить это, бегая вокруг стола, покуда не наткнулся на одно из кресел и не свалился в окончательном изнеможении. Он сидел, дико уставясь на Найну, все продолжая уверять себя в своей умственной нормальности и удивляясь тому, что девушка пятилась от него, широко раскрыв глаза от испуга. Что с ней такое? Ведь это глупо, наконец! Он изо всей силы ударил кулаком по столу и закричал хриплым голосом: «Подай мне джину! Живее!» Найна убежала, а он продолжал сидеть в кресле, очень тихо и спокойно, сам удивляясь наделанному им шуму.
Найна вернулась, неся в руках стакан джина. Олмэйр сидел и рассеянно смотрел перед собой. Он чувствовал страшную усталость, словно после долгого странствия, точно он прошел много, много верст в то утро и теперь страстно мечтал отдохнуть. Он дрожащей рукой взялся за стакан, и, пока он пил, зубы его стучали о стекло. Он осушил стакан и тяжело поставил на стол. Потом медленно перевел взгляд на Найну, стоявшую перед ним, и твердо сказал:
– Теперь все кончено, Найна. Он умер, а это все равно как если бы я сжег свои лодки.
Он почувствовал гордость от того, что мог говорить так спокойно. Положительно, он и не думает сходить с ума. Эта уверенность придала ему бодрости, и он продолжал говорить, рассказывать о том, как найден был труп, все время с удовлетворением прислушиваясь к собственному голосу. Найна стояла совершенно спокойно, легко положив руку на плечо отца; она не изменилась в лице, но каждая черта ее, самая ее поза выражали напряженное, тревожное внимание.
– Так, значит, Дэйн погиб, – холодно сказала она, когда отец ее замолчал.
Деланно-спокойное поведение Олмэйра мгновенно уступило место взрыву бурного негодования.
– Ты стоишь как истукан, – сердито закричал он, – и рассуждаешь со мной так, будто речь идет о пустяках! Да, он умер! Понимаешь ли ты это? Умер! Но тебе и горя мало. Тебе никогда ни до чего дела не было, хотя ты и видела, как я боролся, трудился, старался; но тебя это ничуть не трогало, а моих мучений ты просто-напросто никогда не замечала. Никогда, никогда! У тебя нет сердца, да и ума у тебя нет, иначе ты поняла бы, что я трудился ради тебя и твоего счастья. Я хотел разбогатеть, хотел вырваться отсюда. Я хотел, чтобы белые люди преклонялись перед твоей красотой и богатством. Я на старости лет стремился уехать в чужую для меня страну, вернуться к чуждой мне цивилизации – а для чего? Для того, чтобы увидеть твои триумфы, твое счастье. Ради этого я терпеливо влачил ношу труда, разочарований, унижений среди здешних дикарей и все это уже почти держал в руках.
Он взглянул на внимательное лицо дочери и вскочил на ноги, опрокинув при этом стул.
– Слышишь? Все это уже было близко, совсем близко, почти в руках у меня…
Он остановился, стараясь преодолеть свой нарастающий гнев; но это ему не удалось.
– Или у тебя нет сердца? – продолжал он. – Или ты живешь без надежд? – Молчание Найны выводило его из себя, и он возвысил голос, хотя все еще старался совладать с собой.
– Неужели ты согласна жить и умереть в этой злосчастной дыре? Да отвечай же хоть что-нибудь, Найна! Неужели в тебе нет сострадания? И ты ни словом не можешь утешить меня, меня, который так любил тебя?
Он некоторое время ждал ответа; не получив его, он потряс кулаком перед лицом дочери.
– Ты, кажется, идиотка! – заревел он.
Он оглянулся, ища стул, поднял его и тяжело на него опустился. Гнев его улегся, и ему стало стыдно своей вспышки; но в то же время он чувствовал облегчение, что наконец-то объяснил дочери скрытый смысл своей жизни. Он вполне искренне верил, что это так, будучи обманут эмоциональной оценкой своих побуждений и не имея возможности понять бесчестность своих поступков, беспочвенность своих стремлений, ничтожество своих сожалений. Теперь сердце его преисполнено было огромной нежности и любви к дочери. Ему хотелось видеть ее несчастной, чтобы разделить ее скорбь; но ему хотелось этого лишь потому, что все слабые натуры мечтают разделять свое горе с существами, в нем неповинными. Если бы она сама страдала, она поняла бы и пожалела бы его; а так она не хотела – или не могла – найти ни слова утешения в его ужасающей беде. Сознание его абсолютного одиночества ударило его по сердцу с такой силой, что он весь задрожал. Он покачнулся и повалился лицом на стол, протянув перед собой напряженные, окоченелые руки. Найна сделала быстрое движение в сторону отца и опять остановилась, глядя на седую голову, на широкие плечи, судорожно потрясаемые бурностью его чувств, нашедшей наконец исход в слезах и рыданиях.
Найна тяжело вздохнула и отошла от стола. С ее лица сбежало каменное безразличие, доведшее ее отца до этого взрыва печали и гнева. Выражение ее черт, которых Олмэйр больше не видел, быстро изменилось. Она, по-видимому, совершенно равнодушно выслушала мольбу Олмэйра об участии, об одном только словечке утешения, но грудь ее разрывалась от противоречивых порывов, порожденных неожиданными – или, по крайней мере, не так скоро ожидаемыми ею – событиями. Зрелище его скорби глубоко взволновало ее сердце; она знала, что одним словом могла положить конец его горю, всей душой рвалась успокоить это истерзанное сердце – и в то же время с ужасом внимала голосу своей всемогущей любви, приказывавшему ей молчать. И она покорилась этому голосу после короткого отчаянного возмущения ее прежнего «я» против нового начала ее жизни. Она вооружилась абсолютным молчанием, своей единственной зашитой против какого-нибудь рокового признания. Она не решалась сделать знак, прошептать слово, так она боялась сказать что-нибудь лишнее; самая сила переживаний, взволновавших сокровеннейшие тайники ее души, как будто превратила ее в камень. Расширенные ноздри и сверкающие глаза – вот единственные признаки, выдававшие бурю, бушевавшую у нее внутри; но этих-то признаков волнения своей дочери Олмэйр не мог увидать, потому что гнев, жалость к самому себе и отчаяние застилали ему зрение.
Если бы Олмэйр взглянул на свою дочь, наклонившуюся над перилами веранды, он бы видел, как равнодушие на ее лице уступило место страданию и как тревога и напряжение глубокими морщинами помрачили лучезарную красоту ее лица. Буйные травы на запущенном дворе неподвижно стояли перед ней в полуденном зное. Со стороны берега раздались голоса и шлепанье босых ног, они приближались к дому. Слышно было, как Бабалачи отдавал приказания людям Олмэйра; глухие причитания миссис Олмэйр стали явственнее, как только небольшое шествие с телом утопленника, предводимое скорбной матроной, показалось из-за угла дома. Бабалачи снял сломанное запястье с ноги погибшего и держал его в руке, идя рядом с носильщиками, а Махмуд робко следовал позади в надежде на обещанную награду.
– Положите его сюда, – сказал Бабалачи невольникам Олмэйра, указывая на груду сохнущих досок, сваленных напротив веранды, – Он был Каффир и собачий сын и был другом белого человека. Он пил огненную воду белого человека, – прибавил он с притворным ужасом, – Я сам это видел.
Люди уложили раздробленное тело на двух смежных досках; миссис Олмэйр прикрыла тело куском белой бумажной ткани, а затем, пошептавшись с Бабалачи, отправилась хлопотать по хозяйству. Невольники Олмэйра, сложив свою ношу, разбрелись кто куда в поисках тенистого уголка, где бы проваляться весь день. Бабалачи остался один возле тела, неподвижно лежавшего под белым саваном в ярких лучах солнца.
Найна спустилась с лестницы и подошла к Бабалачи; при виде ее он поднес руку ко лбу и склонился с видом глубочайшего раболепства.
– У тебя осталось запястье, – сказала Найна, глядя на поднятое к ней лицо и одинокий глаз Бабалачи.
– Да, мэм Путай, осталось, – отвечал учтивый дипломат. Потом, обернувшись в сторону Махмуда, он поманил его рукой и крикнул: – Поди сюда!
Махмуд нерешительно приблизился. Он избегал глядеть на Найну, зато так и впился глазами в Бабалачи.
– Ну, слушай, – резко начал Бабалачи. – Ты видел запястье и перстень и знаешь, что они принадлежали Дэйну, и никому другому. Дэйн вернулся прошлой ночью на челноке. Он беседовал с раджой, а среди ночи отправился через реку к дому белого человека. Была сильная буря, и сегодня утром ты нашел его в реке.
– За ноги я выволок его из воды! – пробормотал тот про себя. – Но мне будет награда за это, туан Бабалачи! – воскликнул он вслух.
Бабалачи поднес запястье к глазам Махмуда.
– То, что я сказал тебе, Махмуд, это – для всех ушей. То, что я даю тебе сейчас, только для твоих собственных глаз. Возьми.
Махмуд поспешно схватил запястье и спрятал его в складках своего набедренника.
– Разве я глупец, чтобы показывать это в доме, где трое женщин? – проворчал он. – Но я расскажу им о Дэйне-купце, и не будет конца разговорам.
Он повернулся и пошел прочь, ускорив шаги, как только очутился за пределами усадьбы Олмэйра.
Бабалачи следил за ним, покуда он не исчез за кустами.
– Хорошо ли я сделал, мэм Путай? – смиренно обратился он к Найне.
– Хорошо, – отвечала она, – Кольцо можешь оставить себе.
Бабалачи поднес руку к губам и ко лбу и поднялся на ноги.
Он посмотрел на Найну, как бы выжидая, не скажет ли она еще чего-нибудь, но Найна направилась к дому и стала подыматься по лестнице, а ему махнула рукой, чтобы он уходил.
Бабалачи взялся за посох и хотел было удалиться. Было очень жарко, и его ничуть не прельщала длинная поездка до дома раджи; но все же ему необходимо бьшо поспешить обратно и доложить радже о событии, об изменении их планов, о всех своих подозрениях. Он направился к мосткам и принялся распутывать ратановую привязь своего челнока.
Широкий простор низовьев реки с искрящейся поверхностью, усеянной черными точками рыбачьих лодок, раскинулся перед его очами. Похоже было, что плыли рыбаки, перегоняя друг друга. Бабалачи остановился и с интересом стал всматриваться. Человек в передней лодке уже поравнялся с первыми домами Самбира. Он бросил весла и встал на ноги с криком:
– Шлюпки! Шлюпки! Шлюпки с военного корабля плывут! Они уже здесь!
В одну минуту селение опять ожило, люди бежали к реке. Мужчины принялись отвязывать свои челноки, женщины столпились в кучки и глядели в сторону нижнего поворота реки. Легкое облачко дыма легло темным пятном на яркую синеву безоблачного неба над вершинами окаймлявших поток деревьев.
Бабалачи стоял в замешательстве с канатом в руке. Он взглянул вниз, потом вверх на дом Олмэйра, потом опять на реку, как будто не зная, что предпринять. Наконец он снова торопливо привязал челнок и бросился бежать к дому и на веранду.
– Туан! Туан! – звал он, – Шлюпки плывут. Военные шлюпки. Тебе бы следовало приготовиться. Офицеры придут сюда, я знаю!
Олмэйр медленно поднял голову от стола и бессмысленно уставился на него.
– Мэм Путай! – воскликнул Бабалачи, обращаясь к Найне. – Взгляни на него! Он ничего не слышит. Будь осторожна, – прибавил он значительно.
Найна кивнула ему головой с неуверенной улыбкой и только что собиралась отвечать, как громкий выстрел из пушки, стоявшей на шканцах появившегося в эту минуту парового катера, остановил слова у нее на устах. Улыбка пропала; ее сменило прежнее выражение тревожного внимания. Далекие холмы отозвались протяжным, как скорбный вздох, эхом, словно вся страна издала его в ответ на оклик своих властителей.








