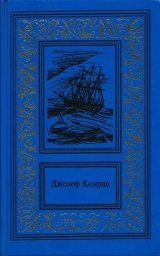
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Х
С клотика корабля средней высоты можно охватить взглядом горизонт на много миль вокруг, и в этом кольце каждое судно видно до самой ватерлинии. Теми самыми глазами, которыми я сейчас перечитываю свои строки, я когда-то неподалеку от морских островов насчитал более сотни парусных судов, попавших в штиль. Они стояли словно зачарованные какой-то магической силой. Среди них вряд ли было хотя бы два, повернутых в одинаковом направлении, – казалось, все они пытались различными путями вырваться из заколдованного круга. Но чары штиля были сильны – и на другой день суда все так же неподвижно стояли направленные в различные стороны. А когда, наконец, поднялся ветер и по воде побежала темная рябь, казавшаяся густо-синей на светлом фоне моря, все они двинулись в одном направлении. Это были суда, шедшие домой, в обратные рейс, из дальних концов мира, и впереди, во главе флотилии шла фалмутская шхуна с грузом фруктов, самая маленькая из всех. Она показалась мне прелестной, несмотря на свою миниатюрность, до меня будто доносился аромат лимонов и апельсинов, который она оставляла за собой. Прошел еще день, и с наших топ-мачт уже можно было увидеть только судов семь, не более, да вдали, за магическим кругом горизонта, мелькало несколько пятнышек – одни верхушки мачт.
Попутный ветер обладает коварной способностью рассеивать в разные стороны белокрылую стаю кораблей, шедших как будто в одном направлении с белой лентой бурлящей пены впереди. Штиль таинственным образом собирает суда вместе, а ветер их разлучает.
Высокое судно видно уже издалека, и белая верхушка, овеваемая ветром, первая дает представление о его размерах. Высокие мачты, поднявшие в воздух белые паруса, раскидывают их как силки, в которые хотят поймать невидимую силу ветра. Но вот постепенно появляются перед глазами, словно вынырнув из воды, парус за парусом, рея за реей, становятся все больше и, наконец, под этим высоким сооружением вы замечаете небольшое пятнышко – корпус судна.
Высокие мачты, как колонны, поддерживают в равновесии крылья-паруса, а те, безмолвные, недвижимые, вбирают из воздуха движущую силу, дар небес, ниспосланный человеку за дерзкую отвагу. Когда же с высоких рангоутных дерев сорван их белоснежный наряд, они склоняются перед гневом закрытого тучами неба.
Когда они, обнаженные, длинные и мрачные, покорно уступают шквалу, даже бывалого моряка в эти минуты невольно поражает их высота. Человек, столько раз на своем веку видевший эту картину, вдруг отдает себе отчет в несообразной высоте рангоутов. Кажется, что золоченые клотики, которые можно увидеть только задрав голову, непременно зацепятся за край горизонта. Такие моменты дают вам более четкое представление о высоте рангоутного дерева, чем многократные путешествия на самый верх мачты. Без сомнения, энергичный матрос в машинном отделении современного парохода может на какую угодно высоту взбираться наверх по железным лестницам, но я вспоминаю, что когда я карабкался на мачты, эти «машины» парусного судна, даже мне, гордившемуся своим проворством, казалось, что они достигают звезд.
Да, это своего рода машины, выполняющие работу совершенно бесшумно, и с неподвижной грацией, и в них будто кроется капризная, не всегда послушная человеку сила, которая действует независимо от материальных сил Земли. Здесь мы имеем дело не с безошибочной точностью и надежностью стали, движимой белым паром, питаемой красным огнем и черным углем. Парусное судно как бы черпает силу в самой душе мира, заимствует ее у своего грозного союзника – ветра, которого держат в повиновении такие хрупкие оковы, что его можно сравнить со злым духом, пойманным в силки из тончайших шелковых нитей. Ибо что такое крепчайшие канаты, высочайшие мачты и самые прочные паруса перед мощным дыханием Бесконечности? Не более как тростник под ветром, пушинка, осенняя паутина, дрожащая в воздухе.
XI
Да, все это – менее, чем ничто, и я видел, как ветер, великая душа мира, одним шумным вздохом сорвал новенький, исключительно крепкий фок, как будто это был клочок воздушной ткани легче осенней паутинки – и тот исчез из виду. Вот тогда-то высоким мачтам уже нужно было стоять крепко под страшной бурей. Машины должны делать свое дело, даже если душа мира обезумела.
Когда современный пароход плывет по спокойному морю, укрытому тенями ночи, корпус его дрожит пульсирующей дрожью, и где-то в глубине его по временам слышится лязг, словно в этом железном теле бьется железное сердце. В движении парохода есть какой-то глухой ритм, мерно стучит гребной винт, и далеко в ночи слышны эти торжественные звуки, как тяжелая поступь неотвратимого будущего.
А бесшумное в тихую погоду вооружение парусного судна во время шторма обретало не только силу, но и буйно ликующий голос души мира, ветра. Шел ли корабль вперед с качающимися мачтами или уже без них грудью встречал шторм, всегда его сопровождала дикая мелодия, монотонная, как церковное пение, в которой звучали и басы и пронзительный свист ветра, а временами грохот бьющейся о борт волны. Этот жуткий невидимый оркестр иногда так терзал нервы, что хотелось оглохнуть, чтобы более не слышать его.
Вспоминая это желание, не раз мной испытанное во время рейсов по нескольким океанам, на просторе которых есть где развернуться душе мира, я хочу отметить, что моряку, для того чтобы хорошо следить за рангоутами, надо иметь здоровые уши. На прежних парусниках моряки были так тесно спаяны со своим судном, что, кажется, им передавались все его ощущения и по собственному физическому утомлению они судили об усталости судовых мачт.
Только после того как я поплавал на морских судах, я убедился, что слух играет значительную роль, когда нужно определить силу ветра. Помню такой случай. Дело было ночью. Мы находились на одном из тех железных быстроходных клиперов, которые Клайд целыми роями пускал с грузом шерсти по свету в семидесятых годах прошлого столетия. То был период усиленного кораблестроения и, я бы сказал, чрезмерной перегрузки кораблей мачтами. Рангоуты на узких корпусах были тогда очень высоки, а клипер, о котором идет речь (на его световых люках из цветного стекла красовался девиз «За процветание Глазго»), несомненно, был особенно перегружен мачтами. Он был построен для спешных рейсов, и его бесспорно гнали со всей быстротой, на какую он был способен. Наш капитан считался мастером быстрых переходов – он привык их делать на старом корабле «Твид», прославившемся на весь мир своей быстроходностью. Но «Твид» был деревянный корабль, а его капитан перенес с собой на железный клипер традицию быстрых переходов. Я был тогда самым молодым из всего экипажа – третьим помощником капитана – и обычно стоял на вахте вместе со старшим помощником. И вот как раз во время одной такой ночной вахты при сильном и все крепнущем ветре я нечаянно подслушал разговор двух матросов в уголке верхней палубы. Один сказал: «Я так полагаю, что пора бы убрать некоторые из легких парусов». Другой матрос проворчал сердито: «Небось не уберут, пока старший на палубе. Он так глух, что не разбирает, какой силы ветер».
И в самом деле, бедняга П., совсем еще молодой, но дельный моряк, был сильно туг на ухо. При этом он имел репутацию отчаянного смельчака, спокойно ведущего судно под парусами при самом сильном ветре. П. удивительно ловко скрывал свою глухоту, и я не думаю, чтобы он при всем своем бесстрашии когда-либо сознательно шел на безрассудный риск: все дело тут было в его глухоте – он не слышал ветра. Никогда не забуду его наивного изумления, когда его однажды при мне журили за какой-то смелый и в высшей степени опасный трюк. Право распекать его имел, конечно, только капитан, но капитан и сам был блюстителем традиции дерзкого риска. И на меня, знавшего, что за человек мой командир, эти сцены производил большое впечатление. Капитан С. считался превосходным моряком, а такого рода слава вызывала во мне юношеское преклонение. И поныне я чту его память, ибо это он, так сказать, завершил мое обучение. Процесс этот частенько протекал бурно, но что об этом поминать! Я убежден, что капитан желал мне добра и никогда, даже в те времена, я не обижался на него за необыкновенный дар едкой критики. Но слышать, как он поднимает шум из-за слишком большого количества парусов при шторме было до того невероятно, что казалось сном.
Обычно дело происходило так:
По ночному небу мчались тучи, ветер выл, бом-брам-стеньги были подняты, судно неслось вперед во мраке, и широкая пелена белой пены доходила уже до лееров на подветренной стороне судна. Наш старший помощник капитана, мистер П., дежуривший на палубе, в самом безмятежном состоянии духа крепил на ветру бизань-мачту. Я, третий помощник, делал то же с наветренной стороны кормы, готовый броситься со всех ног при первом намеке на какой-нибудь приказ, но в остальном совершенно спокойный. Вдруг из рубки появилась высокая темная фигура с непокрытой головой, с прямоугольно подстриженной седой бородкой, резко белевшей в темноте, – капитан С., который читал внизу у себя в каюте и встревожился, когда судно начало плясать на волнах и сильно крениться на одну сторону. Стараясь удержаться на ногах, он, не говоря ни слова, прошелся раза два по сильно наклоненной палубе, постоял у компаса, обошел еще раз палубу и вдруг заорал:
– Что вы делаете с судном?
А мистер П., не расслышавший ничего за шумом ветра, вопросительно отозвался:
– Что, сэр?
Тут, под аккомпанемент нараставшего шторма, на корабле разразилась своя внутренняя буря: гремели крепкие выражения, в которые капитан вкладывал много пыла, а в ответ ему слышались жалкие протесты и оправдания его помощника, произносимые со всеми возможными интонациями оскорбленной невинности.
– Послушайте, мистер П.! И я в свое время водил корабли на всех парусах под штормом, но…
Конец фразы затерялся в бурном порыве ветра. Затем, среди наступившего затишья, прозвучал обиженный протест мистера П.:
– Да ведь оно как будто отлично выдерживает…
И новый взрыв – негодующий голос капитана:
– Такое судно только дурак может гнать в шторм на всех парусах!
И так далее, и так далее, а судно между тем мчится вперед, крен все сильнее, волны ревут все громче, все грознее шипит белая, слепящая пена с подветренной стороны. Любопытнее всего, что капитан С., видимо, органически не в силах был четко скомандовать, чтобы убавили парусов. И эта удивительно сумбурная сцена длилась и длилась, пока оба, наконец, не вспомнили с ужасом, что пора же что-нибудь сделать. Ибо высокие мачты, чрезмерно отягощенные парусами, проявляли уже опасное намерение по-своему вразумить обоих спорщиков, глухого и вспыльчивого.
XII
Таким образом на этом судне все-таки более или менее своевременно убавляли парусов, и его высокие рангоуты, за все время моей службы на нем, ни разу не снесло ветром в море. Но отношения между капитаном С. и мистером П. все-таки оставались несколько натянутыми. П. гнал судно «как сущий дьявол» только потому, что глухота мешала ему правильно определять силу ветра, а капитан С. (который, как я уже говорил, был, по-видимому, органически неспособен приказать кому-либо из своих подчиненных убавить парусов) негодовал на то, что он вынужден распекать мистера П. за его отчаянную смелость. Ведь капитан наш обычно упрекал своих помощников как раз в обратном – в том, что они недостаточно быстро ведут судно или, как он выражался, «не используют до последней возможности силу попутного ветра». Было еще одно психологическое объяснение тому, что экипажу клипера так трудно было работать с капитаном С.: капитан только что перешел сюда со знаменитого «Твида», судна, на вид тяжеловесного, но феноменально быстроходного. В середине шестидесятых годов оно обогнало на полтора дня почтовый пароход, шедший из Гонконга в Сингапур. Может быть, как-то особенно удачно размещены были на нем мачты – кто знает? Офицеры военных кораблей приезжали на борт «Твида», чтобы снять точный план и ознакомиться с размерами его парусного вооружения. А может быть, в обводах носа и кормы сказалась гениальная интуиция строителя, или то была счастливая случайность, перст благосклонной судьбы, – трудно сказать. «Твид» строился где-то в Ост-Индии, и весь, кроме палубы, был из тикового дерева. У него был большой продольный изгиб, высокий нос и тяжеловесная корма. Моряки, видавшие это судно, говорили мне о нем: «С виду ничего особенного, глядеть не на что». Но во время страшного голода в Индии (в семидесятых годах) «Твид», тогда уже старый, проделал несколько баснословно быстрых рейсов через Бенгальский залив, перевозя грузы риса из Рангуна в Мадрас.
Это судно унесло с собой в могилу тайну своей быстроходности и, несмотря на невзрачность, образ его несомненно занял славное место в зеркале морей.
Но дело-то в том, что капитан С., любивший повторять, что после его ухода «„Твид“ не сделал больше ни единого сносного рейса», видимо, полагал, будто секрет быстроходности этот судна заключался в его доблестном командире. Бесспорно, успехи многих судов объясняются качествами их капитанов, однако ведь капитану С. так и не удалось, несмотря на все его попытки, придать новому судну – железному клиперу – те свойства, благодаря которым сравнение с «Твидом» стало высшей похвалой в устах всех английских моряков. Было что-то трогательное в безнадежных усилиях капитана, как в попытках старого художника создавать такие же шедевры, как в молодости. Ибо рекордные рейсы «Твида» были шедеврами капитана С. Да, его попытки были трогательны, но, пожалуй, и немножко опасны. Во всяком случае я рад, что благодаря тоске моего капитана по былым триумфам, а также глухоте мистера П. мне довелось во время плавания пережить незабываемые моменты. Да и сам я под высокими мачтами этого клипера осмеливался на такие штуки, которых не проделывал ни до, ни после ни на одном другом судне.
Как-то во время рейса заболел второй помощник капитана и меня назначили вахтенным начальником, единственным распорядителем на палубе. Вот тогда-то система бесчисленных рычагов, управлявшая высокими мачтами, стала очень близка моему сердцу. Разумеется, мне, молодому моряку, было лестно доверие такого командира, как капитан С., – он, по-видимому, меня даже не контролировал, хотя, насколько помнится, ни тон, ни обхождение, ни даже смысл обращенных ко мне замечаний капитана, как их ни толкуй, не свидетельствовали о его высокой оценке моих способностей. И должен еще сказать: когда доходило дело до распоряжений на ночь, С. оказывался очень неудобным командиром. Если я должен был стоять на вахте с восьми до двенадцати часов, он около девяти уходил с палубы, сказав: «Парусов никаких не убирать!» Затем, уже спускаясь по лесенке вниз, добавлял отрывисто: «Да смотрите, чтоб ничего не снесло!» И могу похвастать, что я ни разу не терял ни одной мачты.
Но однажды ночью меня застала врасплох неожиданно резкая перемена ветра.
На корабле, разумеется, сразу стало очень шумно: беготня, крики матросов, щелканье парусов по ветру – все это могло разбудить мертвого. Но капитан так и не вышел на палубу. Когда же час спустя меня сменил на вахте старший помощник, капитан вызвал меня к себе. Я вошел в его каюту. Он лежал на кушетке, укрытый пледом, с подушкой под головой.
– Что у вас там стряслось наверху? – спросил он.
– Шквал налетел с подветренной, сэр, – доложил я.
– А вы разве не заметили, что ветер меняется?
– Да, сэр, я так и думал, что надо очень скоро ждать перемены.
– Почему же в таком случае вы сразу не переменили курс? – спросил он ледяным тоном, от которого кровь стыла в жилах.
Но вопрос этот был мне на руку, и я не преминул ответить на него.
– Видите ли, сэр, – сказал я тоном извинения, – судно так хорошо шло, делало одиннадцать узлов в час, и я рассчитывал, что оно сможет идти так еще добрых полчаса.
Он посмотрел на меня мрачно, исподлобья и несколько минут лежал молча, откинув голову на белую подушку.
– Гм… еще с полчаса… Вот так и теряют все мачты!
И это было все, в этом состоял весь полученный мной нагоняй. Я постоял еще минуту и вышел из каюты, осторожно прикрыв за собой дверь.
Да, я провел много лет в море, я любил его и расстался с ним, так ни разу и не увидев, как сносит за борт всю сложную систему снастей и парусов, эти «тростники зыблемые и паутину на ветру!». Это, конечно, чистая случайность, мне повезло. А вот бедняга П. – тот, я уверен, не отделался бы так дешево, если ли бы бог ветров не отозвал его раньше времени из этого мира который на три четверти состоит из океанов и поэтому представляет подходящее место для моряков. Через несколько лет после того как я ушел с клипера, я встретил в одном порту Индии человека, который плавал на кораблях той же компания. Мы стали перебирать имена прежних товарищей и, естественно, я осведомился о П.: как он, вышел уже в капитаны? Мой собеседник ответил небрежно:
– Нет, но он уже нашел себе место: его море смыло с кормы… во время шторма на пути из Новой Зеландии к Горну.
Так ушел П. от высоких мачт, которые он столько раз в бурную погоду заставлял из последних сил бороться с ветром. Он показал мне, что значит вести корабль наперекор стихиям. Не такой это был человек, от которого можно научиться благоразумию и осторожности. Во всем была виновата его глухота. Но я вспоминаю, какой у него был веселый характер, как упивался он юмором «Панча», вспоминаю его невинные причуды, например страсть выпрашивать у всех взаймы зеркала. В каждой каюте было свое зеркало, привинченное к переборке, и мы никогда не могли понять, на что ему нужны еще другие зеркала. Просил он зеркало всегда конфиденциальным тоном. Почему? Неизвестно. Мы строили разные догадки. Но теперь никто уже так и не узнает истины. Что ж, то была невинная прихоть. Да упокоит его душу так внезапно унесший его бог бурь где-нибудь в раю для настоящих моряков, где, как бы вы быстро ни мчали ваше судно, никогда вы не потеряете мачт!
ГРУЗ
XIII
Было время, когда старший помощник шкипера, с записной книжкой в руках и карандашом за ухом, следил одним глазом за такелажниками наверху, а другим – поглядывал вниз, в трюм, на грузчиков. Он проверял, как размещена кладь на судне, зная, что еще до выхода в море он этим самым обеспечивает ему легкий и быстрый ход. В нынешние времена вечная спешка, наличие в доках погрузочно-разгрузочных организаций, применение подъемных машин, которые работают быстро и не станут ждать, требование срочной доставки, самые размеры судов – все не дает времени моряку хорошо изучить свое судно.
Есть суда доходные и недоходные. Доходное судно может провезти большой груз сквозь все опасности штормовой погоды, а когда оно на отдыхе, то стоит себе в доке и переходит без балласта с одной стоянки на другую.
Сказать о парусном судне, что оно может плыть без балласта, значит сказать, что оно – верх совершенства. Я лично никогда не видывал столь образцовых судов, только читал о них в объявлениях о продаже. Такие исключительные добродетели судна всегда вызывали во мне какое-то недоверие. Конечно, никому не возбраняется утверждать, что его судно может плыть без балласта. И он это, конечно, скажет с видом глубокого убеждения, в особенности если не собирается сам идти на этом судне в море. Написав в объявлении о продаже, что судно может плыть без балласта, он ничем не рискует, так как не дает гарантии, что оно куда-нибудь доплывет. Кроме того, святая истина заключается в том, что большинство судов может плыть короткое время без балласта, но затем они опрокидываются и благополучно идут ко дну вместе с экипажем.
Судовладелец дорожит прибыльным судном, моряк гордится им. В красоте его он убежден, никакие сомнения на этот счет не возникают в его душе. А если он еще может похвастать его более полезными качествами, самолюбие удовлетворено вдвойне.
Погрузка судна в прежние времена требовала большой сноровки, толковости и специальных знаний. По этому вопросу написаны толстые тома, так, например, существует солидный труд Стивенса «О погрузке», который в известных кругах пользовался не меньшей популярностью, чем «Coke on Littleton». Стивенса читать приятно – он не только серьезный специалист, но и талантливый писатель Он приводит в своей книге все официально признанные теории, четко излагает правила, иллюстрирует все примерами, сообщает о тех судебных процессах, где в приговоре затрагивались какие-нибудь вопросы погрузки. Он ни в чем не педантичен и при всем своем пристрасти к широким обобщениям готов согласиться, что нет двух судов, к которым можно было бы подойти с одинаковой меркой
Погрузка, которая раньше считалась квалифицированным трудом, в наши дни быстро превращается в черную работу. Современные пароходы со множеством трюмов не «грузятся» в том смысле, в каком всегда употребляли это слово на парусных судах. Пароходы просто «набивают» грузом. Грузы не укладывают, а сваливают в трюм через шесть люков при помощи двенадцати (или около того) лебедок, и все это проделывается торопливо, среди шума и гама, в облаках пара и угольной пыли. Остается только проследить, чтобы гребной винт оставался под водой, чтобы, скажем, не швыряли бочки с маслом на тюки шелка, не клали железную пятитонную ферму моста или что-нибудь в этом роде на мешки с кофе, и тогда вы сделали все, что можно сделать в настоящих условиях, когда главное – быстрая доставка.
XIV
Парусное судно, каким я знавал его во времена его совершенства, было существом разумным. Говоря о «совершенстве» я имею в виду совершенство конструкции и оснастки, остойчивость, подвижность, но не рекордную быстроту. Это последнее качество исчезло после перемены строительного материала. Никакое железное парусное судно недавнего прошлого не достигало никогда той волшебной быстроты хода, которой славные в свое время моряки добивались от его деревянных, обшитых медью предшественников.
Было сделано все возможное для усовершенствования железных судов, но человеческий ум не в силах изобрести такой состав краски, который сохранял бы поверхность днища настолько чистой и гладкой, как медная обшивка. Пробыв в море несколько недель, железное судно начинает замедлять ход, словно от преждевременного утомления. Это оттого, что днище его портится. Когда железное судно не подгоняется беспощадным гребным винтом, то всякая мелочь сказывается на скорости хода. Часто невозможно бывает угадать, какое именно незначительное обстоятельство тормозит ход. Скорость судна – качество, окруженное некоторой таинственностью, – я говорю о скорости, которую развивали некогда парусные суда под командой опытных моряков. В те времена скорость судна зависела от капитана. Поэтому, помимо существовавших законов, правил и предписаний насчет хранения перевозимых грузов, капитан и по собственному почину усердно заботился о правильном размещении груза и балласта, или, как говорят, о правильной «осадке» судна. Некоторые суда плыли быстро на ровном киле, то есть не качаясь из стороны в сторону, другим же необходим был дифферент (наклон) около фута на корму, и мне рассказывали о судне, которое развивало наибольшую скорость по ветру, когда оно было нагружено до предельной осадки.
Мне вспоминается зимний пейзаж в Амстердаме. На переднем плане большой пустырь со сложенными тут и там штабелями леса, похожими издали на хижины какого-то нищего кочевого племени. Длинная полоса – Ханделскаде: холодные каменные набережные, посыпанные мелким снегом, неприветливая замерзшая вода канала, в которую неподвижной вереницей вмерзли суда со свободно болтавшимися заиндевевшими канатами и пустынными палубами, ибо (как мне сообщил старший грузчик, кроткий бледный человечек с несколькими золотистыми волосками на подбородке и красным носом) грузы, которых дожидались все эти суда, застряли из-за морозов на баржах где-то внутри страны. Вдалеке, за пустырем, параллельно веренице кораблей, тянулась улица. Домики теплого коричневого тона словно сгорбились под тяжестью заваленных снегом крыш. В конце улицы царя Петра звенели конные трамваи, то появляясь, то исчезая в просветах между домами. Издали и вагоны и лошади были похожи на игрушки, а люди – на маленьких детей играющих ими.
Я, как выражаются французы, кусал пальцы от нетерпения, злился на этот груз, застрявший далеко от порта, где-то в глубине страны, злился на замерзший канал, на жалкий вид судов, которые словно разрушались на глазах в угрюмой тоске по живой, текучей воде.
Я был тогда только что назначен помощником капитана и оставался на судне в полном одиночестве. Тотчас по прибытии я получил от владельца судна распоряжение отправить весь экипаж в отпуск, так как в такую погоду на судне делать нечего, разве только поддерживать огонь в печке каюты. Это делал невообразимо грязный, косматый, злющий и беззубый сторож – голландец, который едва мог сказать два слова по-английски, но, должно быть, все-таки знал этот язык очень хорошо, так как неизменно с удивительной точностью истолковывал как раз в обратном смысле все, что ему говорили.
Несмотря на то что топилась железная печурка, в моей каюте была такая температура, что замерзали чернила, и я предпочитал уходить на берег. Спотыкаясь, проходил через Арктику пустыря, дрожал в обледенелых конках – все для того, чтобы написать очередное письмо своим хозяевам не в каюте, а в шикарном кафе в центре города. Громадный зал, красная плюшевая мебель, всюду позолота, множество электрических ламп, и так тепло, что даже мраморные столики были на ощупь тепловатые.
После полного одиночества на судне я готов был увидеть в лакее, подававшем мне чашку кофе, близкого друга. Здесь, один среди шумной толпы, я медленно писал письмо в Глазго, содержание которого сводилось к тому, что груза все нет и никакой надежды нет на его прибытие раньше конца весны. И все время, пока я сидел в кафе, сознание, что надо возвращаться на судно, тяжко угнетало мою полузастывшую душу. Опять зябнуть до дрожи в трамваях, брести через заснеженный пустырь, опять вереница замороженных судов – черные мертвецы в белом море, такие безмолвные, безжизненные, бездушные…
Со всякими предосторожностями поднимался я на палубу моего собственного «мертвеца», скользкую и холодную как лед. Холодная койка, как погребальная ниша, заглатывала мое дрожащее тело и смятенную душу.
Жестокая была зима. Самый воздух, казалось, отвердел и резал ножом. Но все это не угашало священного пыла, с которым я тренировал свое судно. Какой молодой человек двадцати четырех лет, назначенный впервые в жизни помощником капитана, дал бы этой упорной голландской зиме проникнуть к нему в сердце? В то время я, кажется, ни на пять минут не забывал о своем повышении. Это оно, наверное, согревало меня даже во сне лучше горы одеял, определенно трещавших от мороза, когда я по утрам выбирался из-под них. Я вставал рано без всякой надобности, только по той причине, что мне одному вверено судно. Нового капитана еще не наняли.
Почти каждое утро мне приносили письмо от хозяев с приказом пойти к фрахтовщикам и требовать доставки груза. Мне советовали пригрозить им громадным штрафом за простой судна, добиваться, чтобы партия разных товаров, застрявшая где-то среди льдов и ветряных мельниц, немедленно была привезена в порт по железной дороге и погружена на судно.
Напившись горячего кофе, я, подобно исследователю Арктики, который отправляется в путь на санях к Северному полюсу, сходил на берег и, трясясь от холода, катил в трамвае в самый центр города, мимо чистеньких домов, мимо тысяч крашеных дверей с медными молотками, сверкавшими из-за деревьев, которые стояли вдоль мостовой голые, сухие – настоящие мертвецы.
Эта часть экспедиции была довольно легкой, хотя на спинах несчастных лошадей сверкали ледяные сосульки, а физиономии трамвайных кондукторов являли собой омерзительную смесь малинового с багровым. Но запугать мистера Гедига или хотя бы выманить у него какой-нибудь ответ, было далеко не так просто, как добраться до него.
Мистер Гедиг был высокий, смуглый, черноусый голландец с наглым взглядом. Он всякий раз, не дав мне раскрыть рта, начинал с того, что усаживал меня в кресло, дружески угощал толстой сигарой и на превосходном английском языке начиная бесконечный разговор о феноменальной суровости нынешней зимы.
Немыслимо было угрожать человеку, который, прекрасно владея английским языком, в то же время, казалось, не способен был понять ни единой фразы, сказанной недовольным или протестующим тоном. А ссориться с ним было бы глупо. Мороз был так жесток, а в кабинете мистера Гедига так тепло, так весело пылал огонь и хозяин смеялся так заразительно, трясясь всем телом, что мне всегда бывало очень трудно взяться за шляпу.
Груз в конце концов пришел. Сперва он прибывал небольшими партиями по железной дороге, а когда наступила оттепель и зашумели освобожденные воды, быстро стало приходить множество барж. У кроткого старшины грузчиков наконец-то дела оказалось по горло, а я, новоиспеченный помощник капитана, был озабочен – мне впервые в жизни нужно было правильно распределить груз на судне, на котором я еще ни разу не плавал.
Суда любят, чтобы их ублажали. И если вы хотите, чтобы легко было ими управлять, то надо приноравливаться к их особенностям во время размещения клади, которую вы поручаете им благополучно провести через все невзгоды и счастливые периоды плавания. Ваше судно – существо нежное и чувствительное, и с его особенностями надо считаться, если хотите, чтобы оно с честью для вас и для себя вышло из бурных испытаний.
XV
Так, видимо, думал и новый капитан, приехавший на другой день после окончания погрузки, накануне отплытия. Я увидел его в первый раз на набережной – совершенно незнакомого мне человека, явно не голландца, в черном котелке и коротком темном пальто, до смешного не гармонировавших с зимней картиной пустыря, окаймленного коричневыми фасадами домов, с крыш которых стекал таявший снег.
Незнакомец ходил взад и вперед по набережной, погруженный в созерцание моего судна. Он внимательно проверял расположение мачт от носа до кормы, а когда я увидел, как он, присев на корточки прямо в мокрый снег у самого края воды, наблюдает осадку судна под кормовым подзором, я сказал себе: «Это наш капитан». И тут же заметил его багаж – классический сундук моряка, который несли на веревке два матроса, два кожаных чемодана и сверток карт, зашитых в полотно и привязанных к крышке сундука. Неожиданное проворство и легкость, с которой он прыгнул с поручней на палубу, дало мне первое представление о его характере. Без всяких предварительных церемоний он обратился ко мне:








