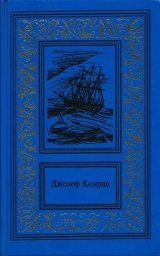
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 52 страниц)
Он выбежал из комнаты, захлопнул дверь, повернул ключ, вынул его из замка, подбежал к перилам веранды и широким размахом руки швырнул ключ далеко в реку. Затем он медленно подошел к столу, подозвал обезьянку, отстегнул цепочку и посадил ее к себе за пазуху. После этою он снова присел на стол и принялся пристально глядеть на дверь покинутой комнаты. Он напряженно прислушивался. Он различал сухой шелест, резкий звук трескающегося дерева, жужжанье и как бы хлопанье крыльев внезапно взлетающей птицы, а затем увидал, как тонкая струйка дыма поползла из замочной скважины. Обезьянка заметалась у него за пазухой. Появился Али с вытаращенными от ужаса глазами.
– Хозяин! Дом горит! – крикнул он.
Олмэйр встал и оперся на стол. Он слышал крики удивления и ужаса, долетавшие из деревни. Али ломал руки и громко причитал.
– Перестань шуметь, дурак, – сказал Олмэйр спокойно. – Собери мой гамак и постель и отнеси их в тот дом. Да поживее.
Дым клубами хлынул из щелей двери, и Али, схватив в охапку гамак, одним прыжком соскочил с веранды.
– Хорошо занялось, – пробормотал Олмэйр. – Тише, тише, Джек, – прибавил он, видя, что обезьянка делала отчаянные усилия, чтобы вырваться из своего заключения.
Дверь треснула сверху донизу, и столб огня и дыма заставил Олмэйра отступить от стола к перилам веранды. Он оставался там до тех пор, пока страшный гул над его головой не показал ему, что огонь охватил и крышу. Тогда он сбежал по лестнице веранды, кашляя, задыхаясь от дыма, вившегося вокруг его головы синеватыми клубами.
По ту сторону канавы, отделявшей олмэйровский дом от поселка, толпа самбирских обывателей глазела на пылающий дом белого человека. Кирпично-красное пламя, пронизанное на солнце лиловыми отблесками, высоко взвивалось в неподвижном воздухе. Стройный дымный столб поднимался прямо и неподвижно и терялся в ясной лазури неба. На широкой площадке между обоими домами видна была высокая фигура туана Путай; туан Путай, волоча ноги и повесив голову, уходил от горящего дома в сторону олмэйровского «Каприза».
Вот при каких обстоятельствах совершился переход Олмэйра на житье в новый дом. Он поселился в новой развалине и в упрямом безумии своего сердца принялся ждать, со скорбью и нетерпением, когда же, наконец, наступит забвение. А оно, как нарочно, не приходило. Он сделал все, что от него зависело, уничтожил малейшие следы существования Найны. И вот теперь каждое утро он спрашивал себя, придет ли долгожданное забвение вместе с закатом, придет ли оно еще до смерти? Ему хотелось прожить лишь столько, сколько нужно для того, чтобы забыть. Устойчивость его собственной памяти вселяла в него ужас, вызывала страх перед смертью; ведь если смерть наступит раньше, чем он достигнет цели своего существования, то ему придется помнить вечно. И еще ему страстно хотелось одиночества. Ему хотелось быть одному; но он не был один. В полумраке ли комнат с их закрытыми ставнями, в ярком ли свете веранды, куда бы он ни пошел, куда бы ни повернул – он всюду видел перед собой маленькую фигурку крошечной девочки с хорошеньким оливковым личиком, длинными черными волосами, в розовом платьице, спадающем с плеч. Девочка глядела на него с нежной доверчивостью любимого ребенка. Али – тот ничего не видел; но даже он замечал присутствие в доме ребенка. В задушевных беседах вокруг вечерних костров он часто описывал своим близким деревенским приятелям странное поведение Олмэйра. Его хозяин на старости лет стал колдуном. Али говорил, что нередко после того, как туан Путай удалялся к себе, на ночь, он слышал, как хозяин его с кем-то беседует в своей комнате. Али думал, что то был дух в образе ребенка. О том, что господин его говорил именно с ребенком, Али догадывался по некоторым его словам и выражениям. Хозяин изредка говорил по-малайски, но большей частью по-английски; а Али понимал по-английски. Хозяин то ласково разговаривал с ребенком, то плакал над ним, то смеялся, то бранил его, то молил уйти, даже проклинал его. То был злой и упрямый дух. Али предполагал, что его господин неосторожно вызвал его и теперь не в силах от него избавиться. Его хозяин был очень смел, – он не боялся проклинать духа в его собственном присутствии; а раз даже он вступил с ним в борьбу. Али слышал страшный шум в его комнате, беготню и стоны. То стонал его хозяин. Духи, те не стонут. Его господин был храбр, но безрассуден, – духа нельзя уязвить. Али ожидал найти своего господина наутро мертвым, но тот вышел из своей комнаты раньше обыкновенного, казался гораздо старше, чем накануне, и ничего в тот день не ел.
Вот что рассказывал Али в деревне. Он был гораздо словоохотливее с капитаном Фордом по той простой причине, что тот отпускал деньги на расходы и всем распоряжался. Ежемесячно, в каждое посещение Самбира Фордом, Али должен был являться к нему с докладом об обитателе олмэйровского «Каприза». С первого же своего прибытия в Самбир после отъезда Найны, Форд взял на себя управление делами Олмэйра. Оно было несложно. Сарай для товаров был пуст, лодки исчезли, присвоенные – по ночам – отдельными жителями Самбира, нуждавшимися в средствах передвижения. Пристань «Лингарда и К0» унесло каким-то большим наводнением, и она уплыла вниз по реке, вероятно, в поисках более отрадных впечатлений; даже стадо гусей – «единственных гусей на восточном побережье» – переселилось куда-то, предпочитая неведомые опасности дикой жизни унылости своего прежнего жилища. С течением времени почерневшее место, где стоял старый дом, поросло травой, и ничто больше не напоминало о старом жилище, с которым связаны были молодые грезы Олмэйра, его безумная мечта о блестящей будущности, его пробуждение и его отчаяние.
Форд редко навещал Олмэйра, потому что это была задача не из легких. Сначала тот рассеянно отвечал на шумные расспросы старого моряка относительно его здоровья; он даже пытался поддерживать разговор, справлялся о новостях таким тоном, который ясно доказывал, что никакие известия в мире не представляют для него ни малейшего интереса. Постепенно он становился все более молчаливым; он не то, чтобы дулся на людей, а просто забывал человеческую речь. Он привык забираться в самую темную комнату дома, где Форду приходилось отыскивать его, идя вслед за скачущей галопом обезьянкой. Обезьянка всегда была на месте, чтобы принять и проводить Форда. Маленькое животное, по-видимому, всецело взяло на себя заботу о своем хозяине; всякий раз, когда ему хотелось, чтобы Олмэйр вышел к нему на веранду, оно настойчиво теребило его за полу куртки, пока он послушно не выходил на свет солнца, которого, видимо, так не любил.
В одно прекрасное утро Форд застал его сидящим на полу веранды; он прислонился к стене, ноги его были вытянуты, руки бессильно свисали по бокам. Его лицо, лишенное всякого выражения, его широко раскрытые глаза с неподвижными зрачками, самая неестественность его позы делали его похожим на огромную куклу, сломанную и отброшенную в сторону. Он медленно повернул голову навстречу поднимавшемуся по лестнице Форду.
– Форд, – прошептал он, не вставая с полу, – я не могу забыть.
– В самом деле, – сказал Форд простодушно, прикидываясь веселым, – хотел бы я быть похожим на тебя! Я таки теряю память – верно, к старости. Еще только вчера мой юнга…
Он замолчал, потому что Олмэйр встал, покачнулся и оперся на руку друга.
– Алло! Да ты сегодня бодрее; скоро и совсем, будешь молодцом, – весело говорил Форд, хотя внутренне ему стало жутко.
Олмэйр отпустил его руку, выпрямился, откинув назад голову, и неподвижно глядел на множество солнечных дисков, сиявших в речных струях. Его куртка и широкие брюки мотались по ветру вокруг его исхудалого тела.
– Пусть себе уезжает! – шептал он хриплым голосом. – Пусть уезжает! Завтра я уже забуду. Я человек твердый… твердый как… скала… твердый…
Форд взглянул ему в лицо – и бросился бежать. Шкипер и сам обладал твердым характером, как то могли засввдетельство вать все, плававшие под его начальством, – но даже его мужество не устояло перед твердостью Олмэйра.
В следующий за этим приход парохода в Самбир Али с раннего утра явился на судно с жалобой. Он сообщил Форду, что китаец Джим-Энг втерся к Олмэйру в дом и прожил у них весь последний месяц.
– И они оба курят, – прибавил Али.
– Фьюить! То есть курят опиум?
Али кивнул головой, а Форд задумался; потом он пробормотал про себя: «Бедняга! Теперь уж чем скорей, тем лучше для него!» После обеда он отправился к нему в дом.
– Что ты тут делаешь? – спросил он у Джим-Энга, бродившего по веранде.
Джим-Энг на ломаном малайском наречии объяснил ему монотонным голосом заправского курильщика опиума, что его дом пришел в ветхость, крыша на нем протекла, а пол провалился. В силу этого и будучи таким давним, давним другом белого человека, он забрал свои деньги, опиум и две трубки и переселился в этот большой дом.
– Места здесь довольно. Он курит, а я живу здесь. Он недолго будет курить, – сказал он в заключение.
– Где он теперь? – спросил Форд.
– В доме. Он спит, – устало отвечал Джим-Энг.
Форд заглянул в дверь. В полутьме, царившей в комнате, он разглядел Олмэйра, лежавшего навзничь на полу, с деревянной скамеечкой под головой, с длинной белой бородой, всклокоченной на груди, с желтым лицом, с полузакрытыми веками, из – под которых виднелись белки глаз…
Он вздрогнул и отвернулся. Уходя, он заметил длинную полосу выцветшего алого шелка с китайскими письменами на ней, которую Джим-Энг только что повесил на одном из столбов дома.
– Что это такое? – спросил он.
– Это название дома, – отвечал Джим-Энг своим бесцветным голосом. – Точь-в-точь, как у меня в доме. Очень хорошее название.
Форд посмотрел на него и пошел прочь. Он не знал, что означает сумасшедшая китайская надпись на красном шелке. Если бы он спросил у Джим-Энга, то терпеливый китаец объяснил бы ему с подобающей гордостью, что она означала «Дом небесного блаженства».
В тот же день вечером Бабалачи явился навестить капитана Форда. Каюта капитана выходила на палубу, и Бабалачи сидел верхом на ее высоком пороге, а Форд курил трубку, развалясь на койке внутри ее. Пароход отходил на следующее утро, и пожилой сановник по своему обыкновению зашел поболтать перед разлукой.
‹ #9632;. – Мы получили известия из Бали месяц тому назад, – заметил Бабалачи. – У старого раджи родился внук, и там великое ликование.
Форд так заинтересовался, что даже выпрямился.
– Да, – продолжал Бабалачи в ответ на его взгляд. – Я сказал ему. Это было перед тем, как он начал курить.
– Ну, и что же? – спросил Форд.
– Я только потому остался в живых, – серьезно объяснил Бабалачи, – что белый человек очень слаб и упал, когда бросился на меня, – Потом, помолчав немного, он прибавил: – А она без ума от радости.
– Ты говоришь о миссис Олмэйр?
S – Да, она живет в доме нашего раджи. Она не скоро еще помрет. Такие женщины долго живут, – сказал Бабалачи с легким оттенком сожаления в голосе, – У нее есть доллары, она зарыла их в землю, но мы знаем где. Эти люди наделали нам бездну хлопот. Нам пришлось заплатить штраф и выслушать угрозы белых людей, и теперь нам приходится очень остерегаться. Он вздохнул и долго молчал; потом вдруг заговорил с большой силой:
– Быть войне. Дыхание брани веет на островах. Доживу ли я?.. Ах, туан, – продолжал он уже спокойнее, – в старину лучше было. Я тогда плавал с мужами из Лануна и брал ночью на абордаж спящие корабли с белыми парусами. Это было до того, как английский раджа воцарился в Кучинге. Мы воевали тогда между собой – и как счастливо мы жили! Теперь же, когда нам приходится воевать с вами, мы можем только умирать!
Он собрался уходить.
– Туан, – сказал он, – помнишь ли ты невольницу Буланджи, ту, из-за которой вышли все эти неприятности?
– Да, – сказал Форд. – Так что же с нею?
– Она исхудала и не могла больше работать. Тогда Буланджи – вор он и пожиратель свиного мяса – отдал мне ее за пятьдесят долларов. Я отослал ее к моим женщинам, чтобы она потолстела. Мне хотелось слышать ее смех, но, видно, она была испорчена и – она умерла два дня тому назад. Нет, туан, зачем говорить нехорошие слова? Я стар, это правда, но почему бы мне не радоваться на молодое лицо и на звук молодого голоса в доме? – Он запнулся, а затем прибавил с невеселым смехом: – Я, точно белый человек, болтаю такое, о чем не пристало мужчинам беседовать друг с другом.
И он ушел, сильно опечаленный.
* * *
Столпившаяся полукругом перед «Капризом» Олмэйра куча народу заколыхалась и молча расступилась перед группой людей в белых одеждах и тюрбанах, направлявшихся к дому. Впереди всех, опираясь на Решида, шествовал Абдулла, а за ним следовали все арабы Самбира. Когда они проходили среди почтительно расступившейся толпы, раздался сдержанный говор, среди которого ясно прозвучало одно только слово: «Мати». Абдулла остановился и медленно оглянулся по сторонам.
– Он умер? – спросил он.
– Да живешь ты на долгие годы! – дружно ответствовала толпа; затем опять все смолкло.
Абдулла сделал еще несколько шагов и в последний раз очутился лицом к лицу со своим давнишним недругом. Каков бы ни был он при жизни – теперь он был неопасен, потому что лежал, бездыханный и неподвижный, в нежном сиянии раннего утра. Единственный белый человек на восточном побережье умер, и душа его, освобожденная от оков земного безумия, стояла теперь пред лицом бесконечной мудрости. На его обращенном кверху лице запечатлелось ясное выражение, которое бывает у людей, сразу и безболезненно ушедших из мира горя и страданий; оно как бы молчаливо свидетельствовало перед безоблачным небом, что человеку, лежавшему здесь под взорами равнодушных глаз, удалось забыть перед смертью.
Абдулла с грустью взирал на этого неверного, с которым он так долго боролся и которого так часто одолевал. Такова награда правоверных! И все же в старом сердце араба шевелилось сожаление о том, что уходило из его жизни вместе с этим человеком. Он быстро оставлял позади дружбу, вражду, удачи и разочарования, словом, все то, что составляет жизнь человека; а впереди его ожидал лишь неизбежный конец. Отныне молитва должна была заполнить остаток дней, дарованных верному последователю пророка! Он взял в руки четки, висевшие у него за поясом.
– Я так нашел его здесь, рано утром, – сказал Али тихим и благоговейным голосом.
Абдулла еще раз холодно взглянул на безмятежное лицо.
– Пойдем, – сказал он, обращаясь к Решиду.
Толпа расступалась перед ними, а четки стучали в руках Абдуллы, торжественно и набожно шептавшего молитвы аллаху, многомилостивому и милосердому.
Изгнанник
ЧАСТЬ I
IСходя с прямого и узкого пути своего рода честности, он принял твердое решение вернуться на однообразную, но верную стезю добродетели, как только его краткое блуждание по придорожным топям окажет желаемое действие. Это должно было быть небольшим эпизодом, фразой в скобках, так сказать, в длинной повести его жизни: это не имело никакого значения, это приходилось делать нехотя, но все же отчетливо, и надо было как можно скорее забыть. Он воображал, что потом будет снова глядеть на солнечный свет, наслаждаться тенью, вдыхать запахи цветов в маленьком саду перед домом. Он думал, что ничто не изменится, что он по-прежнему будет добродушно ласкать свою полуцветную жену, глядеть с нежным презрением на своего бледного, желтого ребенка и надменно покровительствовать чернокожему шурину, который любит розовые галстуки, носит на маленьких ногах лакированные ботинки и так почтителен перед белым супругом своей счастливой сестры. Все это были услады его жизни, и он не мог себе представить, чтобы нравственный смысл какого-нибудь его поступка мог войти в столкновение с самой природой вещей, мог затмить солнечный свет, уничтожить запах цветов, покорность жены, улыбку ребенка и робкую почтительность Леонарда да Соуза и всей семьи да Соуза. Обожание этой семьи было великим наслаждением его жизни. Он любил вдыхать глубокий фимиам, который они воскуряли перед алтарем преуспевающего белого человека, оказавшего им честь женитьбой на их дочери, сестре и родственнице. Это была многолюдная, грязная орава, жившая в разваливавшихся бамбуковых хижинах, окруженных запущенными участками, на окраинах Макассара. Он держал их на почтительном расстоянии, зная им цену. Это была ленивая банда метисов, и он видел их такими, какими они были: оборванные, малорослые, тощие, немытые мужчины всякого возраста, бесцельно снующие взад и вперед, шаркая туфлями; неподвижные старухи, похожие на огромные мешки розового коленкора, набитые бесформенными комками жира и небрежно сваленные на ветхие тростниковые стулья в темных углах пыльных веранд; молодые женщины, худенькие и желтые, с большими глазами и длинными волосами, томно двигающиеся среди грязи и мусора своих жилищ, словно каждый их шаг – последний в жизни. Он слы шал их визгливую ругань и ссоры, крики их детей, хрюканье их свиней; он вдыхал вонь от мусорных куч на дворе; и ему было очень противно. Но он одевал и кормил эту жалкую толпу; этих выродившихся потомков португальских завоевателей; он был их провидением; они пели ему хвалы из глубины своей лени, своей грязи, своей безмерной и безнадежной нищеты; и ему было очень приятно. Им нужно было много, но он мог им давать все необходимое без ущерба для себя. Взамен он получал их безмолвную боязнь, их многоречивую любовь, их шумное поклонение. Хорошо быть провидением и приятно, чтобы каждый день это повторяли тебе. Это дает ощущение огромного превосходства, и Виллемс упивался им. Он не разбирался в своем настроении, но, вероятно, главное его удовольствие заключалось в неузнанном, но искреннем убеждении, что стоит ему отвернуться, и вся эта толпа преклоняющихся существ умрет с голоду. Его щедрость развратила их. Дело нетрудное. С тех пор как он снизошел до них и женился на Жоанне, они потеряли даже ту маленькую способность к труду, которую им, может быть, пришлось бы проявить под давлением крайней нужды. Они жили теперь, благодаря его доброй воле. Это была власть. Виллемсу это нравилось.
В другом, быть может, низшем смысле его дни наполнялись менее сложными, но более очевидными удовольствиями. Он любил простые игры, основанные на ловкости, – биллиард; и игры не столь простые, требующие совершенно иного рода ловкости, – покер. Он был способнейшим учеником одного американца, с твердым взглядом и отрывистой речью, таинственно прибывшего в Макассар из просторов Тихого океана и, потолкавшись некоторое время в суматохе городской жизни, загадочно уплывшего в солнечные пустыни Индийского океана. Память об этом калифорнийском незнакомце была увековечена покером – привившимся с тех пор в Целебесской столице, и могущественным коктейлем, рецепт которого на кванг-тунгском наречии передается от одного старшего лакея-китайца к другому в Сунда-Отеле и по сей день. Виллемс был знатоком напитков и привержен к игре. Этими талантами он гордился умеренно. Доверием, которое ему оказывал Гедиг – хозяин, он гордился кичливо и навязчиво. Это происходило вследствие его благожелательности и преувеличенности чувства долга перед самим собой и перед миром в целом. Он испытывал непобедимое желание поучать, всегда сопутствующее грубому невежеству. Ведь всегда есть нечто такое, что невежественный человек знает, и только это и важно знать; оно наполняет вселенную невежественного человека. Виллемс отлично знал себя самого. В тот день, когда он, полный колебаний, сбежал от ост-индского голландца на самарангском рейде, он начал это изучение самого себя, своих данных, своих способностей, тех неотвратимых свойств, которые привели его к теперешнему выгодному положению. Так как по природе он был скромен и недоверчив, то ею успехи поражали его, почти пугали, и в конце концов – когда он перестал уже удивляться – сделали его яростно самонадеянным. Он верил в свой гений и в свое знание света. Другим тоже следовало верить в это; для собственной пользы и для вящей его славы. Всем этим дружелюбно настроенным людям, которые хлопали его по плечу и шумно приветствовали его, следовало воспользоваться его примером. Для этого он должен говорить. И он говорил добросовестно. Днем он излагал свою теорию успеха за маленькими столиками, изредка погружая усы в колотый лед коктейля; а вечером, с кием в руке, нередко вразумлял молодого слушателя в биллиардной. Бильярдные шары останавливались, как бы тоже слушая, под ярким светом затененных масляных ламп, низко висящих над сукном; а в тени просторной комнаты китаец-маркер устало прислонялся к стене, и печальная маска его лица желтела под красным деревом счетной доски; веки его опускались в сонном утомлении позднего часа, под однообразное журчание непонятного потока слов, изливаемого белым человеком. Потом, в наступившем молчании, игра с резким щелканием возобновлялась и некоторое время слышались только плавный шум и глухие удары шаров, катящихся зигзагами к неизбежному карамболю. Часы равномерно тикали; невозмутимый китаец снова и снова повторял счет безжизненным голосом, словно большая говорящая собака, и – Виллемс выигрывал. Сказав, что становится поздно, а он человек женатый, он покровительственно прощался и выходил на длинную пустую улицу. В этот час ее белая пыль была похожа на ослепительную полосу лунного света. Виллемс шел домой мимо стен, из-за которых высилась пышная растительность садов. Он шел посредине улицы; и его тень услужливо кралась пред ним. Он смотрел на нее ласково. Тень удачливого человека! Он чувствовал легкое головокружение от коктейля и от собственной славы. Как он часто рассказывал, он приехал на Восток четырнадцать лет тому назад кают-юнгой, маленьким мальчиком. В ту пору у него была, вероятно, очень маленькая тень; он думал, улыбаясь, что тогда он… ничего – даже тень – не смел бы назвать своим. А теперь он глядит на тень доверенного фирмы «Гедиг и К0», возвращающегося домой. Какое торжество! Как хороша жизнь для тех, кто на выигравшей стороне! Он выиграл партию жизни и партию на биллиарде. Он ускорял шаг, позвякивая выигрышем и вспоминая дни, которые, как вехи, отмечали его жизненный путь. Он вспоминал о своем первом путешествии в Ломбок за лошадьми – первое серьезное поручение, данное ему Гедигом; потом дела покрупнее; тайную продажу опиума; незаконную торговлю порохом; большую операцию по контрабандному ввозу оружия, трудное дело с гоакским раджой. Он выполнил ею исключительно благодаря своей смелости; он дерзко говорил со свирепым старым властелином в его Государственном совете; подкупил его золоченой стеклянной каретой, которая теперь, если верить слухам, служит курятником; ухаживал за ним всячески и сумел убедить его. Это был единственный способ. Он против простой бесчестности, которая запускает руки в денежный ящик, но можно обходить законы и делать из коммерческих принципов самые крайние выводы. Некоторые называют это обманом. Это глупые, слабые, презренные. Умные, сильные, уважаемые не знают сомнений. Где сомнение, там не может быть могущества. На эту тему он часто проповедовал молодым людям. Это было его учение, и он сам был блестящим примером его правоты.
Так каждую ночь он возвращался домой после дня работы и удовольствий, опьяненный звуками собственного голоса, славящего его преуспевание. Так он возвращался домой в тридцатую годовщину своего рождения.
Он провел в хорошей компании приятный, шумный вечер, и когда он шел вдоль пустой улицы, чувство собственного величия росло в нем, поднимало все выше над белой пылью макассарской дороги и наполняло торжеством и сожалением. Он мало показал себя там в отеле, он мало говорил о себе, он произвел на своих слушателей недостаточно сильное впечатление. Ничего. В другой раз. Теперь он придет домой, подымет жену и заставит ее слушать его. Почему ей не встать, не приготовить ему коктейль и не слушать его терпеливо? Конечно. Она должна. Если бы он захотел, он мог бы поднять всю семью да Соуза. Ему стоит только слово сказать, и они все придут и молча сядут в ночных одеяниях на твердую, холодную землю двора и будут слушать, как он с высоты ступеней будет им объяснять, как он велик и добр. Будут. Однако будет достаточно и жены – на сегодня.
Жена! Он внутренне содрогнулся. Несчастная женщина с испуганными глазами и скорбно опущенными углами рта, которая будет слушать его с болезненным удивлением, в покорном молчании. Она уже привыкла к этим ночным проповедям. Один раз она возмутилась, – в самом начале. Только один раз. Теперь, когда он, развалившись в кресле, пьет и говорит, она молча стоит у конца стола, опираясь о него руками, испуганным взглядом следя за его губами, без звука, без движения, еле дыша, пока он не отпустит ее презрительным: «Иди спать, кукла!» Тогда она тяжело вздохнет и медленно выйдет из комнаты, облегченная, но бесстрастная. Ничто не может вывести ее из себя, заставить ее браниться или плакать. Она не жалуется, она не возмущается. Первая ссора их была решительная. Слишком решительная, недовольно думал Виллемс. Она словно выгнала ее душу из тела. Несчастная женщина! Проклятая история! И какого черта он оседлал себя… Да что там! Ему нужен был дом, а партия, видимо, пришлась по вкусу Гедигу, и Гедиг подарил ему домик, тот обвитый цветами домик, к которому он сейчас под холодным светом луны направляет свои шаги. И потом он пользуется обожанием семьи да Соуза. Человек его закала может взяться за что угодно, сделать что угодно и желать чего угодно. Лет через пять эти белые люди, играющие по воскресеньям у губернатора в карты, будут принимать его – с полубелой женой и прочим. Ура!.. Он увидел, как его тень шатнулась вперед и взмахнула шляпой, величиной с ромовую бочку, в многоаршинной руке… Кто крикнул ура?.. Он смущенно улыбнулся и, глубоко засунув руки в карманы, прибавил шагу уже с серьезным лицом.
Позади него – слева – в воротах мистера Винка светился сигарный огонек. Прислонясь к одному из кирпичных столбов, мистер Винк, кассир торгового дома «Гедиг и К°», курил свою вечернюю сигару. Среди теней подстриженных кустов миссис Винк мерными шагами медленно прохрустела гравием круговой дорожки перед домом.
– Вот Виллемс пошел домой пешком и, кажется, изрядно пьяный, – сказал мистер Винк через плечо. – Я видел, как он прыгнул и махнул шляпой.
Гравий перестал хрустеть.
– Отвратительный человек, – спокойно заметила миссис Винк, – говорят, он бьет свою жену.
– Нет, дорогая, нет, – промолвил мистер Винк, неопределенно поведя рукой. Образ Виллемса, бьющего свою жену, был ему неинтересен. Как женщины несправедливы. Если бы Виллемс захотел мучить свою жену, у него нашлись бы более утонченные средства. Мистер Винк знал Виллемса хорошо и считал его очень способным, очень ловким – хоть и в дурном смысле. Несколько раз быстро затягиваясь окурком своей сигары, мистер Винк подумал о том, что доверие, оказываемое Виллемсу Гедигом, допускает, при данных обстоятельствах, честную критику со стороны его кассира.
– Он становится опасным; он слишком много знает. Надо от него избавиться, – сказал мистер Винк громко. Но миссис Винк уже ушла, а потому, покачав головой, он бросил сигару и медленно последовал за ней.
Виллемс шел домой, плетя волшебную паутину будущего. Дорога к величию широко открывалась его взору, прямая и блестящая, без всяких преград. Он сошел с пути честности, как он понимает ее, но он скоро вернется на него и уже никогда его не покинет! Это пустяки. Скоро он все уладит. Пока же он должен стремиться к тому, чтобы не быть открытым, и он верил в свою ловкость, в свое счастье, в свою репутацию, которая обезоружит всякое подозрение, если даже кто-нибудь и посмеет заподозрить его. Но никто не посмеет! По правде говоря, он сознавал, что одно не совсем хорошо. Он временно присвоил себе часть денег Гедига. Печальная необходимость. Но он судил себя с той снис ходительностью, которую следует проявлять по отношению к слабостям гениев. Он все возместит, и все будет как прежде, никто от этого не пострадает, и он беспрепятственно достигнет блестящей цели своих стремлений.
Компаньон Гедига!
Раньше чем взойти по ступенькам дома, он некоторое время помедлил, широко расставив ноги, держась рукой за подбородок и мысленно созерцая будущего компаньона Гедига. Чудесное занятие. Он видел его в полной безопасности; твердым, как скала; глубоким – глубоким, как бездна, и надежным, как могила.








