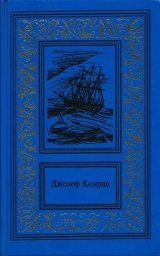
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 52 страниц)
Море, может быть, потому, что оно соленое, делает грубой оболочку, но оставляет нежной сердцевину души своих слуг. Старое море; море давних лет, чьи слуги были преданными рабами и шли от юности к сединам или к неожиданной могиле, не раскрывая книгу жизни, ибо они могли видеть вечность, отраженную стихией, которая давала жизнь и приносила смерть. Подобно прекрасной и своевольной женщине, прежнее морс было чудесно своими улыбками, непреодолимо в своем гневе, прихотливо, обольстительно, безрассудно, безответно; его любили, его боялись. Оно чаровало, дарило радость, тихо внушало безграничную верность; потом, во внезапном и беспричинном гневе, оно убивало. Но его жестокость искупалась прелестью его непостижимой тайны, безмерностью его обещаний, волшебной властью сулимого им благоволения. Сильные люди с детскими сердцами были верны ему, были рады жить его милостью, умереть его волей. Таким было море до той поры, как французский гений привел в движение египетские мускулы и прорыл плачевный, но полезный ров. Огромный полог дыма, выпущенный несчетными пароходами, распростерся над беспокойным зеркалом Бесконечности. Рука инженера сорвала покров с ужасной красоты, чтобы жадные и вероломные купцы могли набивать себе карманы. Тайна была разрушена. Как и все тайны, она жила только в сердцах своих поклонников. Сердца изменились; изменились люди. Некогда любящие и преданные слуги вооружились огнем и железом и, победив страх в собственных, сердцах, сделались расчетливой толпой холодных и требовательных хозяев. Море прошлого было несравненно прекрасной любовницей с непостижимым лицом, с жестокими и обещающими глазами. Море наших дней – изнуренный труженик, изборожденный и обезображенный взбаламученными следами грубых винтов, у которого похищены покоряющие чары его громадности, у которого отняты его красота, его тайна и его обеты.
Том Лингард был властелином, любовником и слугой моря.
Море взяло его молодым, обработало его душу и тело; дало ему свирепую наружность, громкий голос, бесстрашные глаза и глупо искреннее сердце. Оно щедро наделило его нелепой верой в себя, всеобъемлющей любовью к миру, широкой терпимостью, презрительной строгостью, прямодушной простотой побуждений и честностью намерений. Сделав его таким, каким он был, море, как женщина, служило ему смиренно, позволяя ему невредимо греться в лучах его ужасной и неверной милости. Том Лин гард разбогател на море и благодаря морю. Он любил его со Страстной привязанностью любовника, он пренебрегал им с уверенностью безупречного мастера, он боялся его мудрой боязнью храбреца и заигрывал с ним, как балованный ребенок со снисходительным и добрым людоедом. Он был благодарен ему благодарностью честного сердца. Больше всего он гордился своим глубоким убеждением в его верности – тайным чувством своего безошибочного знания его коварства.
Маленький бриг «Искра» был орудием счастья Лингарда. Они вместе пришли на север, оба молодые, из австралийского порта и через несколько лет не было белого человека на островах, от Палембанга до Терната и от Омбавы до Палавана, который бы не знал капитана Тома и его счастливого корабля. Лингарда любили за его безоглядное великодушие, за его непоколебимую честность и вначале немного боялись из-за его вспыльчивости. Очень скоро, однако, его узнали ближе и говорили, что гнев капитана Тома менее опасен, чем улыбка многих других людей. Он быстро преуспел. После его первого – и удачного – боя с морскими разбойниками, в котором, как ходил слух, он спас яхту какой-то важной персоны, где-то около Кариматского пролива, он стал чрезвычайно популярен. С годами эта популярность росла. Вечно посещая отдаленные уголки этой части света, вечно в поисках новых рынков для своего груза, – не столько ради прибыли, сколько ради удовольствия находить их, – он вскоре стал известен среди малайцев и, благодаря своей удачливой отваге в нескольких столкновениях с пиратами, внушил страх перед своим именем. Т| белые люди, с которыми у него были дела и которые, естественно, высматривали в нем уязвимые места, легко могли заметить, что достаточно назвать его малайский титул, чтобы сильно польстить ему. Когда можно было этим что-нибудь выиграть, а иногда просто от чистого сердца, они, вместо церемонного «капитан Лингард», обращались к нему с полусерьезным «Раджа Лаут» – Король Моря.
Он с честью носил это имя. Он носил его уже давно, когда мальчик Виллемс бегал босиком по палубе корабля «Космополит IV», на Самарангском рейде, глядя невинными глазами на незнакомый берег и понося своих ближайших соседей кощунственными устами, в то время как его детский ум обдумывал героический план побега. С юта «Искры» Лингард видел, как рано утром голландский корабль неуклюже снялся с якоря, направляясь в восточные порты. В тот же день поздно вечером он стоял на набережной, собираясь вернуться к себе на бриг. Ночь была ясная и звездная; маленькое здание таможни было закрыто, и когда коляска, доставившая его сюда, исчезла в длинной аллее пыльных деревьев, ведущей в город, Лингард подумал, что он один на набережной. Он разбудил дремавших гребцов и стоял, ожидая, чтобы они приготовились, как вдруг он почувствовал, что кто-то тянет его за полу, и тоненький голосок явственно произнес:
– Английский капитан.
Лингард быстро обернулся, и то, что казалось худеньким мальчиком, отскочило назад с похвальным проворством.
– Кто ты такой? Откуда ты взялся? – спросил Лингард, вздрогнув от удивления.
Мальчик, стоя в безопасном отдалении, показал на плашкоут, причаленный к берегу.
– Прятался там? – сказал Лингард, – Ну, что же тебе нужно? Говори, черт тебя побери! Не пришел же ты сюда, чтоб напугать меня до смерти шутки ради, не правда ли?
Мальчик попробовал изъясниться на ломаном английском языке, но Лингард перебил его.
– Понимаю, – воскликнул он, – ты сбежал с большого корабля, который ушел сегодня утром. Почему же ты не идешь к своим землякам?
– Корабль ушел недалеко – на Сурабайю. Заберут меня опять на корабль, – объяснил мальчик.
– Это для тебя самое лучшее, – убежденно произнес Лингард.
– Нет, – ответил мальчик, – надо остаться здесь, не надо идти домой. Надо достать деньги здесь; дома плохо.
– Это меня окончательно сбивает с толку, – удивился Лингард. – Так тебе деньги нужны? Так-так. И ты не побоялся удрать, ты, несчастный мешок с костями?
Мальчик пояснил, что он ничего так не боится, как быть отосланным назад на корабль. Лингард смотрел на него в задумчивом молчании.
– Подойди ближе, – сказал он. Он взял мальчика за подбородок и, подняв ему голову, пристально посмотрел на него.
– Сколько тебе лет?
– Семнадцать.
– Однако ты невелик для семнадцати лет. Ты голоден?
– Немного.
– Пойдешь со мной на этот вот бриг?
Мальчик молча направился к шлюпке и забрался на нос.
– Знает свое место, – пробормотал Лингард, тяжело ступая на корму и берясь за брасики. – Дай ход!
Гребцы-малайцы разом налегли на весла, и гичка отскочила от набережной, держа на якорный огонь брига.
Таково было начало карьеры Виллемса.
Через полчаса Лингард знал всю несложную историю Виллемса. Отец – рассыльный агент у судового маклера в Роттердаме; мать умерла. Мальчик способный, но ленивый. Стесненное положение в доме, полном маленьких братьев и сестер, которые хоть и были одеты и сыты, но бегали без присмотра, пока неутешный вдовец бродил целыми днями в обтрепанном пальто и рваных сапогах по грязным набережным, а по вечерам устало сопровождал полупьяных иностранных шкиперов по разным увеселительным местам, домой возвращаясь поздно, с тошнотой от слишком усердного курения и выпивки – за компанию – с этими людьми, рассчитывавшими в деловом порядке на эти знаки внимания. Затем предложение добродушного капитана «Космополита IV», который был рад оказать услугу этому терпеливому и услужливому человеку; великая радость юного Виллемса, его еще большее разочарование в море, которое представлялось таким привлекательным издали и оказалось таким суровым и требовательным при ближайшем знакомстве, – и наконец, этот побег, под влиянием внезапного порыва. Мальчик был в безнадежной вражде с духом моря. Он испытывал инстинктивное презрение к честной простоте этой работы, которая не давала ему того, чего он желал. Лингард скоро убедился в этом. Он предложил Виллемсу отослать его домой на английском корабле, но мальчик умолял позволить ему остаться. У него был отличный почерк, он скоро в совершенстве овладел английским языком, хорошо считал; и Лингард использовал его в этом направлении. С годами его коммерческие способности развернулись удивительнейшим образом, и Лингард часто оставлял его торговать на том или другом острове, а сам между тем отправлялся в какую-нибудь отдаленную местность. По желанию Виллемса Лингард устроил его на службу к Гедигу. Эта разлука его несколько огорчила, так как он в известном смысле привязался к своему питомцу. Но он гордился им и убежденно хвалил его. Вначале это было: «Бойкий мальчишка, но моряка из него не выйдет». Затем, когда Виллемс стал помогать в торговле, он отзывался о нем: «Дельный малый». Позднее, когда Виллемс стал доверенным Гедига и ему поручались деликатнейшие дела, простодушный старый моряк, восхищенно указывая пальцем на его спину, шептал всякому, кто стоял около него в ту минуту: «Умная голова этот парень, чертовски умная голова. Посмотрите на него. Представитель старика Гедига. Я, можно сказать, подобрал его в канаве, как голодную кошку. Кожа да кости. Честное слово, подобрал. А теперь он больше моего понимает в торговле. Факт! Я не шучу. Больше меня понимает», – повторял он серьезно, с невинной гордостью в честных глазах.
С надежной высоты своих коммерческих успехов Виллемс покровительствовал Лингарду. Он любил своего благодетеля, хоть и чувствовал вместе с тем некоторое презрение к грубоватой прямоте его образа действий. Были, однако, некоторые черты в характере Лингарда, внушавшие Виллемсу должное уважение. Болтливый моряк умел молчать о некоторых вещах, которые для Виллемса были очень интересны. Вдобавок, Лингард был богат, а этого было достаточно, чтобы вызвать невольное восхищение Виллемса. В откровенных беседах с Гедигом Виллемс обыкновенно отзывался о добром англичанине: «Счастливый старый чудак», с тоном явной досады. Гедиг соглашался, неопределенно мыча, и оба смотрели друг на друга вдруг остановившимися зрачками, неподвижными от невыраженной мысли.
– Вам еще не удалось узнать, где он достает весь этот каучук, Виллемс? – спрашивал наконец Гедиг, отворачиваясь и нагибаясь над бумагами.
– Нет, мистер Гедиг. Пока еще нет. Но я пытаюсь, – был всегдашний ответ Виллемса, звучавший раскаянием и мольбой.
– Пытайтесь! Что ж, пытайтесь! Можете пытаться! Вы, может быть, считаете себя умным, – ворчал Гедиг, не подымая головы, – Я торгую с ними двадцать, тридцать лет. Старая лиса. И я пытался. Да! – Он вытягивал короткую, жирную ногу и созерцал голую ступню и свешивающуюся с пальцев травяную туфлю. – Вы не могли бы его подпоить? – добавлял он после небольшой храпящей паузы.
– Нет, мистер Гедиг, право, не могу, – серьезно отвечал Виллемс.
– Так и не пытайтесь. Я его знаю. Не пытайтесь, – советовал хозяин и, снова наклоняясь над столом и низко водя над бумагой вытаращенными, налитыми кровью глазами, принимался усердно выводить толстыми пальцами жидкие, нетвердые буквы своей корреспонденции, в то время как Виллемс почтительно ожидал его дальнейших распоряжений, раньше чем самому спросить, весьма угодливо:
– Будут какие-нибудь приказания, мистер Гедиг?
– Гм! Да. Сходите к Вун-Хину, пересчитайте и упакуйте деньги и сдайте их на почтовый пароход в Тернат. Он должен быть здесь сегодня.
– Слушаю, мистер Гедиг.
– Да, вот что еще. Если пароход опоздает, оставьте ящик у Вун-Хина в лавке до завтрашнего дня. Запечатайте его. Восемь печатей, как всегда. И не берите его до прибытия парохода.
– Слушаю, мистер Гедиг.
– И не забудьте про эти ящики с опиумом. Это для сегодняшней ночи. Возьмите мою команду. Перевезите их с «Каролины» на арабский барк, – продолжал хозяин хриплым полушепотом, – и чтобы не было истории вроде той, как прошлый раз, когда уронили ящик за борт, – добавил он, вдруг рассвирепев и глядя на своего доверенного.
– Слушаю, мистер Гедиг, я буду осторожен.
– Это все. Скажите этой свинье, когда будете проходить, что, если пунка [18]не будет лучше действовать, я ему все кости переломаю, – закончил Гедиг, вытирая багровое лицо красным шелковым платком величиной с доброе одеяло.
Виллемс бесшумно вышел, осторожно притворяя за собой маленькую зеленую дверь, ведущую на склад. Гедиг с пером в руке слушал некоторое время, как он, полный безграничного рвения к хозяйскому благу, с дикой запальчивостью бранил мальчика у пунки, потом снова принялся писать среди шороха бумаг, колышимых ветром опахала, которое широкими взмахами колебалось над его головой.
Виллемс фамильярно кивнул мистеру Винку, стол которого стоял возле маленькой двери в частный кабинет Гедига, и с важным видом прошел через склад. Мистер Винк, с крайней неприязнью в каждой черте джентльменской наружности, следил глазами за белой фигурой, мелькавшей в сумраке среди нагроможденных тюков и ящиков, пока она не исчезла за входной аркой в сиянии улицы.
IIIСлучай и искушение были слишком велики, и Виллемс, подчиняясь внезапной нужде, злоупотребил доверием, которое было его гордостью, постоянным свидетельством его способностей и непосильным бременем. Карточные проигрыши, провал маленькой спекуляции, затеянной им на свой риск, неожиданная просьба денег со стороны одного из да Соуза – и он сам не заметил, как сошел с пути своего рода честности.
В течение одного короткого, темного и одинокого мгновения он был в ужасе, но он обладал той храбростью, которая не взбирается на высоты, но мужественно шагает по грязи, – если нет другого выхода. Он поставил себе задачей возместить ущерб и принял обязательство не попасться. В тот день, когда ему исполнилось 30 лет, он почти осуществил задачу, а обязательство было выполнено старательно и умно. Он считал себя в безопасности. Опять он мог с надеждой взирать на цель своих законных стремлений. Никто не посмеет подозревать его, а через несколько дней уже и подозревать будет нечего. Он был горд. Он не знал, что его благосостояние дошло до высшей точки и что прилив уже спадает.
Через два дня он узнал это. Мистер Винк, заслышав шорох дверной ручки, вскочил со своего места, где он с волнением прислушивался к громким голосам, доносившимся из кабинета Гедига, и с нервной торопливостью скрыл лицо в большой кассе. В последний раз Виллемс прошел через маленькую зеленую дверь, ведущую в святилище Гедига, которое за эти полчаса – судя по адскому шуму – можно было счесть берлогой какого – нибудь дикого зверя. Оставляя за собой место своего унижения, Виллемс мутным взглядом схватывал впечатления от лиц и предметов. Он видел испуганный взгляд мальчика у пунки; сидящих на корточках счетчиков-китайцев с неподвижными лицами, повернутыми тупо в его сторону, с руками, застывшими над столбиками блестящих гульденов, разложенных на полу; плечи мистера Винка и мясистые кончики его красных ушей. Он видел длинный ряд ящиков, протянувшихся от места, где он стоял, до входной арки, за которой ему, быть может, удастся вздохнуть. Конец тонкой веревки лежал поперек его дороги, и он ясно видел его, однако зацепился и споткнулся, точно это был железный брус. Наконец, он очутился на улице, но ему не хватало воздуха, чтобы наполнить легкие. Он пошел домой, задыхаясь.
Звук оскорблений, звеневший у него в ушах, понемногу ослабел, и чувство стыда медленно сменилось чувством злобы против самого себя, а главное, против глупого стечения обстоятельств, которые привели его к этой идиотской неосторожности. Идиотская неосторожность; так он определял свою вину. Что могло быть хуже этого с точки зрения его бесспорной проницательности? Что за роковое заблуждение острого ума! Он не узнавал себя в этом деле. Он, должно быть, с ума сошел. Именно. Неожиданный приступ безумия. И вот работа долгих лет разрушена до основания. Что будет с ним теперь?
Раньше, чем он смог ответить на этот вопрос, он очутился в саду перед своим домом, – свадебным подарком Гедига. Он посмотрел на него и как бы удивился, увидев его на месте. Его прошлое до такой степени отошло от него, что ему казалось нелепым, что жилище, принадлежащее этому прошлому, стоит тут нетронутым, чистеньким и веселым в ярком свете жаркого полудня. Это было хорошенькое маленькое здание, все из дверей и окон, окруженное широкой верандой с легкими колоннами, обвитыми зеленой листвой ползучих растений, которые окаймляли также нависающие карнизы высокой крыши. Виллемс медленно взошел по двенадцати ступеням на веранду. Он останавливался на каждой ступеньке. Он должен сказать жене. Он этого боялся и был смущен своим страхом. Бояться встречи с женой! Это всего яснее доказывало громадность перемены вокруг него и в нем самом. Другой человек – и другая жизнь, без веры в себя. Немного он стоит, если боится встретить эту женщину.
Он не решался войти в дом через открытую дверь столовой и стоял в нерешительности у маленького рабочего столика, где лежал кусок белого коленкора, с воткнутой иголкой, словно работу поспешно бросили. Какаду с розовым хохолком засуетился при его появлении и начал старательно лазать вверх и вниз по жердочке, крича: «Жоанна!» Завеса на дверях раза два слегка колыхнулась от ветра, и каждый раз Виллемс вздрагивал, ожидая появления жены, но не подымал глаз, хотя напрягал слух, чтобы услышать ее шаги. Постепенно он потонул в своих мыслях и бесконечных предположениях о том, как она примет его известие – и его приказания. В этих думах он почти что забыл свой страх перед ней. Конечно, она будет рыдать, она будет жаловаться, она будет беспомощна, испугана и пассивна, как всегда. И ему придется тащить за собой эту обузу через бесконечный мрак погубленной жизни. Ужасно! Разумеется, он не может бросить ее и ребенка на верную нищету и, быть может, голодную смерть. Жену и ребенка Виллемса! Удачливого, ловкого Виллемса; доверен… Тьфу! А что такое Виллемс теперь? Виллемс… Он прогнал зарождавшуюся мысль и проглотил готовый вырваться стон. О! И будут же говорить сегодня в биллиардной, – его мир, где он был первым, – все эти люди, с которыми он был так величественно снисходителен. Будут говорить с удивлением, с деланным сожалением, с серьезными лицами, с многозначительными кивками. Некоторые должны ему, но он никогда никому не напоминал. Никогда. Они называли его «Виллемс – лучший из лучших». А теперь небось будут радоваться его падению. Дурачье. Он знал, что и в своем унижении он выше всех этих людей, которые только честны или же просто еще не попались. Дурачье. Он потряс кулаком перед воображаемыми образами своих приятелей, и испуганный попугай замахал крыльями и пронзительно закричал.
Подняв глаза, Виллемс увидел жену, заворачивающую за угол дома. Он быстро опустил глаза и молча ждал, пока она не подошла и не стала по другую сторону маленького стола. Он не смотрел на нее, но видел знакомый красный капот. Она всегда была в этом засаленном, кое-как застегнутом красном капоте с рядом грязно-голубых бантиков спереди, с оборванным подолом, тащившимся за ней, как змея, когда она томно двигалась, с неряшливо подобранными волосами и запутанной прядью, свисающей на спину. Его взгляд подымался от банта к банту, замечая те, которые висели лишь на одной ниточке, но не пошел выше подбородка. Он смотрел на ее худую шею, на нескромную ключицу, различимую в беспорядке верхней части ее туалета. Он видел ее худую, костлявую руку, прижимающую ребенка, и почувствовал огромное отвращение к этим помехам его жизни.
Он ждал, не скажет ли она чего-нибудь, но, почувствовав на себе ее молчаливый взгляд, вздохнул и начал говорить сам.
Это было нелегко. Он говорил медленно, останавливаясь на воспоминаниях прежней жизни, не желая признаться в том, что ей настал конец и началось менее блестящее существование. Уверенный в том, что он составил ее счастье, дав ей полное материальное благополучие, он ни минуты не сомневался, что она готова сопровождать его на самом трудном каменистом пути.
Этой уверенностью он не гордился. Он женился на ней, желая угодить Гедигу, и самая громадность этой жертвы должна была осчастливить ее без каких бы то ни было дальнейших стараний с его стороны. Долгие годы она пользовалась честью быть женой Виллемса, всеми удобствами, добросовестным вниманием и той нежностью, которой она заслуживала. Он оберегал ее от каких бы то ни было физических страданий; страданий другого рода он себе не представлял. Проявление его превосходства было только лишней милостью, оказываемой ей. Все это разумелось само собой, но он говорил ей все это, чтобы живее изобразить ей всю громадность ее потери. Она так туга на понимание, что иначе ей этого не понять. И вот теперь всему этому конец. Они должны уехать. Покинуть этот дом, покинуть этот остров, уехать далеко, где его никто не знает. В английские колонии, быть может. Там он найдет применение своим способностям – и более справедливых людей, чем старый Гедиг. Он горько рассмеялся.
– У тебя деньги, которые я оставил дома сегодня утром, Жоанна? – спросил он. – Они нам понадобятся целиком.
Произнося эти слова, он считал себя очень хорошим человеком. Это не было ново. Но на этот раз он превзошел свои собственные ожидания. Черт побери, есть же в жизни священные обязанности. Брачные узы относятся к их числу, и он не из тех, кто разрывает их. Устойчивость его убеждений давала ему большое удовлетворение, но из-за этого еще не требовалось глядеть на жену. Он ждал, чтобы она заговорила. Тогда ему придется утешать ее, велеть ей не плакать, как дура, и готовиться в дорогу. Куда? Как? Когда? Он покачал головой. Они должны уехать немедленно; это главное. Он вдруг почувствовал необходимость торопиться с отъездом.
– Ну, Жоанна, – сказал он с легким нетерпением, – не стой, как зачарованная. Слышишь? Мы должны…
Он посмотрел на жену, и то, что он хотел сказать, осталось непроизнесенным. Она смотрела на него своими большими, косыми глазами, казавшимися ему сейчас вдвое больше, чем они были на самом деле. Ребенок, прижавшись замазанным лицом к плечу матери, мирно спал. Глубокое молчание дома не нарушалось, а скорее подчеркивалось тихим ворчанием какаду, присмиревшим на жердочке. Когда Виллемс взглянул на Жоанну, ее верхняя губа скривилась на сторону, придавая ее печальному лицу совсем новое, злобное выражение. Он удивленно отступил.
– Ах вы, великий человек! – сказала она отчетливо, но голосом, который был едва ли громче шепота.
Эти слова, а еще большие ее тон, оглушили его, будто кто-то у него над ухом выстрелил из ружья. Он тупо смотрел на нее.
– Ах вы, великий человек! – медленно повторяла она, озираясь по сторонам, словно замышляя внезапный побег. – И вы думаете, что я буду голодать с вами? Вы теперь ничто. Неужели вы думаете, что мама и Леонард отпустят меня?.. И с вами! С вами! – презрительно повторила она, возвышая голос, так что ребенок проснулся и начал тихо всхлипывать.
– Жоанна! – воскликнул Виллемс.
– Не говорите со мной. Я услышала то, что ждала услышать все эти годы. Вы хуже, чем грязь, вы, который вытирали об меня ноги. Я ждала этого. Я не боюсь теперь. Мне вас не надо; не подходите ко мне. А-ах! – пронзительно закричала она, когда он умоляюще протянул руку, – Ах! Оставьте меня. Оставьте! Оставьте.
Она отступила, глядя на него злыми и испуганными глазами. Виллемс стоял не шевелясь, молча, пораженный непонятным гневом и возмущением своей жены. Почему? Что он сделал ей? Вот уж поистине день несправедливости! Сперва Гедиг, а теперь жена. Он чувствовал ужас перед этой ненавистью, которая годы таилась так близко от него. Он пытался заговорить, но она опять закричала, и это было словно укол иглы в сердце. Он опять поднял руку.
– Помогите! – крикнула миссис Виллемс пронзительным голосом, – Помогите!
– Молчи! Дура! – заорал Виллемс, стараясь заглушить крики жены и ребенка своим гневным возгласом и исступленно стуча цинковым столиком.
Снизу, где помещались ванные и чулан с инструментами, появился Леонард со ржавой железной палкой в руке. Он угрожающе крикнул у лестницы:
– Не трогайте ее, мистер Виллемс! Вы дикарь. Вы не похожи на нас, белых.
– И ты тоже! – воскликнул ошеломленный Виллемс. – Я ее не трогал. Что это, сумасшедший дом?
Он двинулся по направлению к лестнице; Леонард со звоном уронил свою палку и побежал к воротам. Виллемс обернулся к жене.
– А, ты этого ожидала, – сказал он, – Это заговор. Кто это там ревет и стонет в комнате? Еще кто-нибудь из твоей драгоценной семьи?
Теперь она была спокойнее. Поспешно положив плачущего ребенка на кресло, она бесстрашно подошла к нему.
– Моя мать, – ответила она, – моя мать, пришедшая защитить меня от вас, человека без роду и племени, бродяги.
– Ты не называла меня бродягой, когда висела у меня на шее – перед нашей свадьбой, – презрительно бросил Виллемс.
– Вы усердно позаботились о том, чтоб я не висела у вас на шее после нашей свадьбы, – ответила она, стиснув руки и приближая к нему свое лицо, – Вы хвастались, а я страдала и молчала. Куда делось ваше величие; ваше величие, о котором вы всегда говорили? Теперь я буду жить милостью вашего хозяина. Да. Это так. Он прислал Леонарда сказать мне это. А вы пойдете хвастаться куда-нибудь в другое место. И помирать с голоду. Вот! Ах! Я могу дышать теперь. Этот дом – мой.
– Довольно! – медленно проговорил Виллемс, останавливая ее движением.
Она отскочила, с опять испуганными глазами, схватила ребенка, прижала его к груди и, упав в кресло, начала как безумная колотить пятками по гулкому полу веранды.
– Я пойду, – твердо произнес Виллемс. – Благодарю. Первый раз в жизни ты делаешь меня счастливым. Ты была камнем на моей шее, понимаешь? Я не хотел говорить тебе этого, пока ты жива, но теперь ты меня заставила. Раньше, чем я выйду за ворота, я забуду о тебе. Ты мне очень помогла. Благодарю.
Он повернулся и, не взглянув на нее, спустился по лестнице. Она сидела прямо и спокойно, широко раскрыв глаза и держа в руках жалобно плачущего ребенка. В воротах Виллемс неожиданно встретился с Леонардом, который там караулил и не успел вовремя скрыться.
– Не будьте грубы, мистер Виллемс, – торопливо заговорил Леонард, – Это не подобает в обращении с белым человеком на глазах у всех этих туземцев, – Ноги его сильно тряслись, и голос, с которым он даже не пытался совладать, переходил с высоких нот на низкие, – Удержите вашу недостойную запальчивость, – быстро бормотал он. – Я уважаемый всеми человек, из очень хорошей семьи, а вы… к сожалению… все говорят так…
– Что? – прогремел Виллемс. Он вдруг почувствовал приступ бешеного гнева, и не успел он понять, что случилось, как увидел Леонарда да Соуза лежащим в пыли у его ног. Он переступил через своего распростертого шурина и опрометью бросился по улице; все сторонились перед разъяренным белым человеком.
Когда он пришел в себя, он был уже за городом и спотыкался о твердую, потрескавшуюся землю сжатых рисовых полей. Как он попал сюда? Было темно. Надо было возвращаться. Медленно направляясь к городу, он вспомнил все происшествия этого дня и почувствовал горькое одиночество. Жена выгнала его из его собственного дома. Он жестоко расправился со своим шурином, членом семьи да Соуза, одним из числа его почитателей. Он ли сделал это? Нет. Это сделал кто-то другой. Возвращается другой человек. Человек без прошлого, без будущего, но полный боли, и стыда, и гнева. Он остановился и посмотрел кругом. По пустой улице пробежала собака и кинулась на него, испуганно ворча. Он находился в центре Малайского квартала, и бамбуковые хижины, спрятанные в зелени маленьких садов, были темны и молчаливы. Мужчины, женщины и дети спали там. Человеческие существа. Будет ли он когда-нибудь спать и где? Ему казалось, что он отвержен всем человечеством, и когда он прежде, чем возобновить свое тоскливое путешествие, безнадежно оглянулся по сторонам, ему почудилось, что мир стал больше, ночь – глубже и чернее; но он угрюмо продолжал путь, опустив голову, словно пробираясь сквозь густой кустарник. Вдруг он почувствовал под ногами доски и, подняв голову, увидел красный фонарь на конце мола. Он дошел до самого края и остановился под фонарем, прислонившись к столбу и смотря на рейд, где два стоящих на якорях корабля медленно покачивали свои стройные мачты среди звезд. Конец мола; еще шаг – и конец жизни; конец всему. Так лучше. Что еще можно сделать? Ничто не возвращается. Он ясно видел это. Уважение и восхищение всех этих людей, старые привычки и старые привязанности – все внезапно кончилось ясным сознанием причины его позора. Он все это видел; и на время вышел из самого себя, вышел из своего эгоизма, из постоянной занятости своими интересами и своими желаниями, вышел из храма своего «я», из круга личных мыслей.
Его мысли обратились к дому. Стоя в теплой тишине звездной тропической ночи, он чувствовал дыхание резкого восточного ветра, он видел высокие узкие фасады высоких домов под светом облачного неба; и на грязной набережной обтрепанную, высокую фигуру, – терпеливое, выцветшее лицо усталого человека, зарабатывавшего хлеб детям, поджидающим его в мрачном доме. Было тоскливо, тоскливо. Но это не вернется никогда. Что общего между всем этим и умным Виллемсом, счастливым Виллемсом? Он оторвал себя от этого дома много лет тому назад. Так было лучше для него тогда. Лучше для них теперь. Все это миновалось и никогда не вернется; вдруг он вздрогнул, увидя себя одиноким перед лицом неведомых, страшных опасностей.
Первый раз в жизни он испугался будущего, потому что потерял веру в себя, веру в свое счастье. И он разрушил его сам, так глупо, своими собственными руками.








