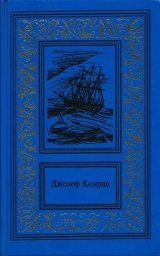
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 52 страниц)
Лингард в жизни не знал колебаний, и у него не было поводов узнать их. Он достиг больших успехов в своих торговых предприятиях, был человеком, которому везло в борьбе, опытным мореплавателем и, несомненно, первым по положению и влиянию в здешних водах. Для Лингарда, человека, по существу, простого, все было просто. Он мало читал; с него довольно было умения плавать, и торговать, и добродушно оказывать помощь обездоленным жизнью людям, попадавшимся ему на пути. Думая о своих собственных успехах, о том, как он из шкипера стал судовладельцем, затем крупным капиталистом, уважаемым везде, где бы он ни показался, Лингард, – раджа Лаут, – изумлялся своей удаче. Опытность свою он считал огромной и непререкаемой. В жизни, как и в мореходстве, были лишь два способа действий: правильный и неправильный. Считая неопровержимым, что он мудр и счастлив, – иначе, как бы он мог достичь таких успехов? – он чувствовал склонность помогать другим. Он вмешивался в чужие дела, но с величайшей скромностью: если он и обладает кое-какими сведениями, то в этом нет особой заслуги.
Только при своем возвращении в Самбир старый моряк в первый раз узнал горечь сомнений и неудач. Потеря «Искры», погибшей на рифах в вечернем сумраке у побережья Суматры, сильно его потрясла. Новости, которые он узнал по прибытии в Самбир, также были не из тех, которые могли бы его успокоить. Много лет тому назад, побуждаемый своей любовью к приключениям, он, с неимоверными трудностями, открыл и исследовал, – исключительно в своих интересах, – устье этой реки, где, как он слышал от туземцев, образовалось новое поселение малайцев. Несомненно, что первое время он думал только о своей личной выгоде; но, радушно принятый Паталоло, он вскоре полюбил и правителя и народ, помогал им советом и делом и – никогда не слышав об Аркадии – мечтал об аркадийском блаженстве для этого уголка земли, который он любил считать своим достоянием.
В характерном для него, непоколебимом убеждении, что только он один знает, что нужно для пользы туземцев, он, в конце концов, был недалек от истины. «Хочешь не хочешь, а он сделает их счастливыми», – говорил он себе. Торговля с ним создавала благосостояние молодого государства, а страх перед его мощью обеспечил внутренний порядок на многие годы.
Он с гордостью взирал на плоды своих трудов. С каждым годом он все больше и больше привязывался к этой стране, к народу и к илистой реке, которая, поскольку это будет зависеть от него, никогда не увидит другого судна, кроме «Искры». Он знал каждого поселенца вдоль по течению от моря до Самбира, знал их жен и детей, знал почти каждого из туземцев.
Его река! Догадки любопытных людей, самая тайна, его окружавшая, были для Лингарда источником неиссякаемой радости. Невежественные толки преувеличивали выгоды от его странной монополии, и, правдивый от природы, он все же забавлялся тем, что вводил собеседников в заблуждение своим насмешливо-хладнокровным хвастовством. Его река! Она не только обогащала его, но и делала его интересным. И эта тайна, отличавшая его от других торговцев в этих водах, удовлетворяла его гордость. В этом состояла лучшая доля его счастья, которую он понял, лишь потеряв, так непредвиденно, так внезапно и так жестоко.
После разговора с Олмэйром он вернулся на шхуну, отправил Жоанну на берег и заперся в каюте, чувствуя себя очень скверно. Он даже преувеличил свое недомогание перед Олмэйром, два раза в день его навещавшим. Он хотел подумать. Он был очень сердит и на себя, и на Виллемса. Раздражен тем, что сделал Виллемс, и тем, что он недоделал. Негодяй оказался таковым не вполне. Замысел был безупречен, но выполнение его, непонятным образом, не было доведено до конца. Ему следовало перерезать Олмэйру горло, сжечь поселение дотла и затем дать тягу. Удрать от него, от Лингарда. А между тем он этого не сделал. Что это, нахальство, презрение? Он был обижен пренебрежением к его власти, и незаконченная гнусность этого преступления весьма его тревожила. Чего-то не хватало, чего-то не было, что дало бы ему свободу действий для мести. Единствен ным, очевидным выходом являлось одно: пристрелить Биллем са. Но как он мог это сделать? Если бы тот оказал сопротивлс ние, обнаружил намерение бороться или удрать, если б он вы казал сознание содеянного зла, это казалось бы более возмож ным, более естественным. Но нет! Негодяй не постеснялся даже прислать ему записку. Желает его видеть! Для чего? Это было совершенно необъяснимо, после такой беспримерной, хладнокровной измены, ужасной, непостижимой. Зачем он это сделал? И старый моряк со стоном много раз задавал себе этот вопрос в душной каюте, хлопая себя рукой по нахмуренному лбу.
За четыре дня одиночества им получено было два сообщения из Самбира, так внезапно и окончательно ускользнувшего из его рук. Одно – записка в несколько слов от Виллемса, на вырванном из записной книжки листке; другое – от Абдуллы, четко выведенное на большом, плотном, как картон, листе бумаги, завернутом в зеленую шелковую обложку. Первой записки он не мог понять, в ней стояло: «Придите меня повидать. Я не боюсь. А вы? В.». Он со злостью разорвал ее, но, прежде чем клочки грязной бумажки успели упасть на пол, злоба его прошла и заменилась другим чувством, заставившим его опуститься на колени, подобрать все клочки, снова составить в одно целое на крышке хронометра и долго задумчиво смотреть, как бы в надежде найти в самом очертании букв ответ на страшную загадку. Письмо Абдуллы он прочел внимательно и засунул в карман. Он никогда не уступит, пока у него есть хоть один шанс. Любимой его поговоркой было: «Самое безопасное – это оставаться на корабле, покуда он еще держится на воде. Бросить судно, когда оно течет, – легко, но не умно». Но все же он был достаточно умен, чтобы признать себя побежденным, когда нужно. Когда Олмэйр прибыл в этот день на шхуну, он молча передал ему обе записки.
Прочитав их, Олмэйр, также молча, вернул их ему. Наконец, он проговорил, не поднимая головы:
– Письмо довольно приличное. Абдулла предает его вам. Я говорил вам, что он уже надоел им. Что вы намерены теперь предпринять?
Лингард откашлялся решительно, приоткрыл рот, но ничего еще не сказал. Потом пробурчал:
– Черт меня побери, если я знаю.
– Медлить не стоит.
– К чему спешить? – прервал его Лингард. – Убежать он не может. Теперь он в моих руках, насколько я вижу.
– Да, – задумчиво проговорил Олмэйр, – и не заслуживает никакой пощады. Насколько я могу разобраться во всех этих комплиментах, Абдулла хочет сказать: «Избавьте меня от этого белого, и мы будем мирно жить и делить барыши».
– Вы верите этому? – презрительно уронил Лингард.
– Не вполне, – отвечал Олмэйр, – Несомненно, мы будем некоторое время делить барыши, пока ему не удастся все забрать в свои руки. Но что же вы все-таки думаете делать?
Подняв голову, он удивился происшедшей в лице Лингарда перемене.
– Вам нездоровится? – спросил он с искренним участием.
– Я плохо себя чувствовал все это время, как вы знаете, но ничего не болит. Я чертовски озабочен всем случившимся.
– Вам надо поберечься, – сказал Олмэйр и, помолчав немного, добавил: – Вы повидаете Абдуллу, не так ли?
– Не знаю. Не сейчас. Времени еще много, – нетерпеливо отвечал Лингард.
– Мне бы все-таки хотелось, чтобы вы что-нибудь предприняли, – уныло настаивал Олмэйр. – Вы знаете, эта женщина вконец меня изводит. И она, и ее ребенок, орущий целыми днями. Дети не ладят между собой. Вчера этот чертенок полез в драку с моей Найной. Расцарапал ей лицо. Сущий дикарь, как и его почтенный папаша. А она тоскует по мужу и хнычет с утра до ночи. Когда же не плачет, то злится на меня. Вчера она пристала ко мне, чтобы я ей сказал, когда он вернется, и плакала о том, что он занят таким опасным делом. Я успокаивал ее, что все обстоит благополучно, и посоветовал ей не дурить; тогда она налетела на меня, как дикая кошка. Обозвала меня бессердечным животным и кричала, что ее возлюбленный Питер рискует своей жизнью из-за меня. Что она откроет вам глаза на меня. Вот как я должен жить сейчас по вашей милости. Вы могли бы немного подумать обо мне. Я, правда, никого не ограбил и не предал моего лучшего друга, – продолжал Олмэйр, стараясь придать своему голосу горькую иронию, – но все же вам следовало бы меня немного пожалеть. Она совершенно обезумела. Когда с ней случаются эти припадки, она делается безобразна, как обезьяна, и так визжит, что хоть на стену полезай. К счастью, жена на меня за что-то надулась и очистила дом! Она живет теперь в хижине на берегу. Но и жены Виллемса с меня более чем достаточно. Сегодня утром я думал, что она мне глаза выцарапает. Изволите видеть, вздумалось ей пойти покрасоваться по селению. Она могла бы там что-нибудь услышать, и поэтому я воспротивился, сказав, что за пределами нашей изгороди здесь не вполне безопасно. Вот она и набросилась на меня, растопырив свои десять когтей. «Несчастный вы человек, – вопит, – даже это место небезопасно, а вы его послали вверх по этой проклятой реке, где он может погибнуть. Если он умрет, не простив меня, небо накажет вас за ваше преступление…» Мое преступление! Каково? Я иногда спрашиваю себя, не во сне ли я? Я заболею от всего этого, капитан Лингард. Я уже потерял аппетит.
Лингард с участием взглянул на него.
– Что она хочет этим сказать? – задумчиво проговорил он.
– Сказать? Она с ума сошла, говорю вам, и я тоже скоро сойду, если это будет так и дальше продолжаться.
– Еще немного терпения, Каспар, – сказал Лингард. – Еще денек или два.
Утомленный или облегченный бурным излиянием своих чувств, Олмэйр немного успокоился.
– Дни идут, – с покорностью проговорил он, – но от таких историй человек может преждевременно стариться. О чем тут думать, не могу понять. Абдулла прямо говорит, что, если вы возьметесь вывести его судно из реки и обучить, чему нужно, его людей, он вышвырнет Виллемса, как тухлое яйцо, и навсегда останется вашим другом. Я вполне этому верю, поскольку это относится к Виллемсу. Это естественно. Насчет же дружбы к вам, это, конечно, ложь, но об этом нам нечего теперь думать. Скажите Абдулле, что вы согласны, а судьбу Виллемса вы предоставьте мне, уж я позабочусь о том, чтобы с ним что-нибудь случилось.
– Он не стоит и пули, – прошептал Лингард как бы про себя.
Олмэйр внезапно вспыхнул.
– Это вы так находите! – крикнул он. – Вас не зашивали в гамак и не делали посмешищем кучки дикарей! Я не смею никому здесь показаться на глаза, пока этот мерзавец жив. Я… я его прикончу.
– Не думаю, – проворчал Лингард.
– Или вы думаете, что я его боюсь?..
– Что вы! Нисколько, – поспешно заговорил Лингард. – Я вас знаю и не сомневаюсь в вашей храбрости. Но голова ваша, миленький… голова…
– Так-так, – обиженно проговорил Олмэйр. – Продолжайте. Назовите меня прямо дураком.
– Я вовсе этого не хочу сказать, – вспылил Лингард. – Если бы я захотел назвать вас дураком, я бы так и сделал, не спрашивая вашего позволения.
Он быстро зашагал по палубе, отбрасывая ногой попадавшиеся по дороге канаты.
– Ну, ну, – с притворной покорностью проговорил Олмэйр. – С вами не договоришься за последнее время. Конечно, вы поступите как хотите. Вы ведь никогда не слушаетесь советов; но позвольте вам сказать, что было бы неразумно дать этому человеку скрыться отсюда. Если вы ничего не предпримете, он, наверно, удерет на судне Абдуллы. Абдулла использует его, чтобы напакостить вам и в другом месте. Виллемс слишком много знает про ваши дела. Запомните мои слова. Теперь я должен вернуться на берег. У меня масса дел. Завтра утром мы приступим к погрузке шхуны. Тюки готовы. Если я вам понадоблюсь, поднимите какой-нибудь флаг на грот-мачте. Ночью же я явлюсь на два выстрела. – Затем он добавил дружеским тоном: – А не придете ли вы ко мне обедать сегодня вечером? Нам не годится так долго вариться в собственном соку…
Лингард ничего не ответил. Вызванная Олмэйром в его уме картина: Виллемс, господствующий над островами, нарушающий покой вселенной грабежом, изменой и насилием, заставила его онеметь. Олмэйр, прождав некоторое время, нехотя направился к трапу. Лингард, рассеянно на него смотревший, вдруг вздрогнул и, подбежав к борту, крикнул:
– Стой! Каспар, подождите минуту.
Олмэйр дал знак гребцам остановиться и повернул голову по направлению к шхуне. Лодка медленно подалась назад и почти вплотную пристала к борту.
– Мне сегодня нужна хорошая шлюпка с четырьмя гребцами, – сказал Лингард.
– Сейчас? – спросил Олмэйр.
– Нет, солнце слишком еще печет, и к тому же лучше не придавать огласки моим делам. Пришлите шлюпку после захода солнца, с четырьмя хорошими гребцами и парусинным стулом для меня. Слышите?
– Ладно, отец, – весело отозвался Олмэйр. – Я пришлю Али рулевым и лучших из моих людей. Еще что-нибудь?
– Ничего больше, голубчик. Только смотрите, чтоб они не опоздали.
– Полагаю, что излишне будет вас спрашивать, куда вы отправляетесь, – пытливо проговорил Олмэйр, – Потому что если вы едете к Абдулле, то я…
– Я не к Абдулле еду. Ну, теперь отваливайте.
ЧАСТЬ IV
IНочь была очень темна. Бабалачи, выйдя из своей бамбуковой хижины, стоял, обратившись лицом к реке. Как ни тиха бывает ночь, она никогда не может быть вполне безмолвной для чуткого уха, и Бабалачи показалось, что он различает другие звуки, кроме журчания воды. Ему послышался шум, странный шум. Он не мог ничего различить, но какие-то люди в лодке должны были быть очень близко, так как до него долетали слова.
– Ты думаешь, что это и есть то самое место, Али? Я ничего не вижу.
– Должно быть тут, туан, – отвечал другой голос. – Не попробовать ли пристать?
– Нет, подрейфуем немного: в темноте легко наскочить у берега на бревно. Мы можем увидеть свет из какого-нибудь дома. Ведь в усадьбе Лакамбы много домов, не правда ли?
– Великое множество, туан, – но я не вижу нигде света.
– И я тоже, – проворчал снова первый голос.
– А я вижу. Теперь я знаю, где причалить, туан.
Несколько взмахов весел повернули шлюпку носом вверх по течению к самому берегу.
– Окликни, – послышался очень близко бас, который, как был уверен Бабалачи, должен был принадлежать белому, – Окликни, не выйдет ли кто-нибудь с факелом. Я ничего не вижу.
– Кто говорит на реке? – спросил Бабалачи тоном, выражавшим изумление.
– Белый, – ответил Лингард с лодки. – Неужели в богатой усадьбе Лакамбы не найдется факела, чтобы помочь гостю причалить?
– Нет ни факелов, ни людей. Я один здесь, – нерешительно ответил Бабалачи.
– Один! – воскликнул Лингард. – Кто ты?
– Слуга Лакамбы. Но причаливай, туан, и посмотри на меня. Вот моя рука… Теперь ты в безопасности.
– И ты один тут? – спросил Лингард, осторожно входя во двор. – Какая темнота, – пробормотал он про себя. – Можно подумать, что весь мир вымазали черной краской.
– Да, один. Что ты еще сказал, туан? Я не понял. f – Ничего. Я рассчитывал найти здесь… Да где же они все?
– Не все ли равно, где они, – мрачно ответил Бабалачи. – Разве ты пришел к моим родичам? Последний из них отбыл в дальний путь… и я здесь один. Завтра и я ухожу.
– Я приехал повидать одного белого, – сказал Лингард, медленно продвигаясь вперед. – Он не ушел ведь?
– Нет, – отвечал Бабалачи. – Человек с красной кожей и жесткими глазами, чья рука сильна, а сердце слабо и безумно.
– Он здесь? – спросил Лингард.
– Нет, не здесь, – ответил Бабалачи, – не здесь, туан, но и не далеко. Не отдохнешь ли ты в моем жилище? Найдется, может быть, рис, рыба и чистая вода, не из реки, а ключевая…
– Я не голоден, – сухо прервал его Лингард, – и я приехал не для того, чтобы отдыхать у вас. Проводи меня к белому, который ждет меня. Я не могу терять времени.
– Ночь длинна, раджа Лаут.
Лингард вздрогнул.
– Ты меня знаешь! – воскликнул он.
– Э… да. Я видел тебя много лет тому назад. Ты меня не помнишь, но я не забыл… Таких людей, как я, много, но раджа Лаут один.
Он быстро взобрался по ступенькам лесенки и, стоя на площадке, жестом руки пригласил Лингарда войти, что тот после некоторого колебания и сделал.
Упругий бамбуковый пол хижины погнулся от тяжести старого моряка, который, стоя за порогом, старался проникнуть взором в дымную мглу низкого жилища. Вделанный в расщепленную палку факел, отбрасывая от себя красноватый свет, озарял несколько грязных циновок и угол большого деревянного ларя, терявшегося в темноте. В глубине хижины виднелось острие копья, медный поднос висел на стене и длинное дуло ружья, прислоненного к ларю, блестело в мерцании скользнувших по нему лучей света.
Бабалачи бродил в потемках, перешептываясь с неясными тенями, мелькавшими в глубине хижины. В темноте слышались бесшумные шаги, подавленные восклицания, вздохи, нетерпеливо вырывавшиеся и тотчас заглушаемые снова. Затем вновь наступала тишина. Бабалачи приблизился к Лингарду и уселся у его ног на свернутом тюке циновок.
– Будешь ли ты есть рис и пить саггир? – спросил он. – Я поднял на ноги моих домашних.
– Друг мой, – сказал, не глядя на него, Лингард. – Когда я прихожу к Лакамбе или к его слугам, я никогда не чувствую ни голода, ни жажды. Понимаешь, никогда. Ты думаешь, что я лишен рассудка и что у меня ничего тут нет?
Он многозначительно постучал пальцем по лбу.
– Ай, ай, ай! Как ты можешь так говорить, туан! – в ужасе воскликнул Бабалачи.
– Я говорю то, что думаю, я не вчера родился, – небрежно процедил Лингард и, протянув руку к ружью, принялся его рас сматривать с видом знатока.
– Хорошая штука. Матарамской работы. Притом старинное, – продолжал он. – Тебе бы не следовало давать ему ржаветь.
– Хорошее ружье, – повторил Бабалачи. – Бьет далеко и метко. Лучше, чем вот это. – И концами пальцев он нежно дотронулся до ручки револьвера, высовывавшегося из правого кармана белой куртки Лингарда.
– Руки прочь! – быстро проговорил Лингард, но добродушным голосом и не сделав ни малейшего движения.
Бабалачи усмехнулся и отодвинулся.
– Ну, как же насчет белого человека? – спокойно спросил Лингард.
Бабалачи как будто не расслышал вопроса. Он долгое время выводил пальцем какие-то узоры на циновке. Лингард недвижно выжидал. Наконец, малаец поднял голову.
– Га, белый человек. Знаю, – рассеянно прошептал он. – Этот ли белый или другой… Туан! – громко выпалил он с неожиданной живостью, – Ты человек моря?
– Ты меня знаешь. Чего же ты спрашиваешь? – тихим голосом отвечал Лингард.
– Да, человек моря – такой же, как и мы. Настоящий оранг-лаут, – задумчиво продолжал Бабалачи. – Не то, что прочие белые.
– Я такой же, как и другие белые люди, и не люблю попусту тратить слова. Я приехал сюда, чтобы повидать белого человека, который помог Лакамбе против Паталоло, моего друга. Покажи мне, где живет этот белый, я хочу с ним поговорить.
– Только говорить, туан? Зачем же тогда торопиться? Ночь длинна, а смерть не долга, как ты должен знать, ты, который принес ее стольким людям моего племени. Много лет тому назад я стоял против тебя с оружием в руке. Разве ты не помнишь? Это было на Каримате, далеко отсюда.
– Не могу же я помнить всех бродяг, которые попадались мне на пути, – ответил Лингард.
– Ай, ай, – невозмутимо и задумчиво продолжал Бабалачи. – Много лет тому назад. Тогда все это, – и, взглянув на бороду Лингарда, он покрутил пальцем под своим собственным, лишенным растительности подбородком, – все это блестело, как золото на солнце; теперь же это похоже на пену разъяренного моря.
– Может быть, может быть, – терпеливо сказал Лингард, легким вздохом невольно отдав дань воспоминаниям молодости, вызванным словами Бабалачи.
Он так долго прожил с малайцами и так с ними сжился, что крайняя медленность и разбросанность их умственного процесса не слишком его раздражали. Ему было ясно, что Бабалачи хочет что-то сказать ему, и надеялся, что этот разговор осветит беспросветную тьму необъяснимой измены и озарит, хотя бы на секунду, того человека, над которым ему предстоит привести в исполнение приговор правосудия. Только правосудия* Мысль о мести была далека от него. Он не хотел думать о том, каким образом это правосудие должно совершиться. Он не мог совладать с мыслями, которые роились в его голове под звуки монотонного голоса Бабалачи, и они невольно возвращались к тому слепому, роковому случаю, побудившему его много лет тому назад спасти умиравшего с голода беглеца с голландского судна на Самарангском рейде. Как понравился ему этот человек, его самоуверенность, настойчивость, желание пробиться вперед, его высокомерное добродушие и эгоизм. Ему нравились самые его недостатки, отчасти свойственные и ему самому. Он всегда справедливо к нему относился и будет справедлив к нему и теперь, до самого конца. При этой мысли на лицо Лингарда пала угрожающая тень. Так сидел он, сжав губы и с тяжелым сердцем, в то время, как в спокойной тьме снаружи безмолвный мир, казалось, ждал с затаенным дыханием той справедливости, которую он держал в своей руке, в своей твердой руке, готовой ударить – и не решающей шевельнуться.








