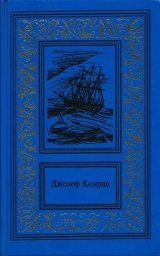
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 52 страниц)
Дэйн вошел в освещенный круг, обнял Найну рукой за шею и шепнул ей на ухо:
– Я могу убить его на месте, прежде чем он успеет вымолвить слово. Твое дело решить – да или нет. Бабалачи теперь уже, наверное, близко.
Он выпрямился, снял руку с ее плеч и повернулся к Олмэйру, глядевшему на них с выражением сосредоточенной ярости.
– Нет! – закричала она, в безумном испуге цепляясь за Дэйна, – Нет! Убей меня! Тогда он, может быть, согласится отпустить тебя! Ты не знаешь души белого человека! Ему легче было бы видеть меня мертвой, чем там, где я сейчас стою. Прости меня, рабу свою, но только не надо, не надо! – Она упала к его ногам с безумными рыданиями и повторяла: «Меня убей! Меня!»
– Я хочу тебя живую, – сказал Олмэйр тоже по-малайски с мрачным спокойствием, – Ты уйдешь – не то он будет повешен. Согласна ли ты послушаться?
Дэйн оттолкнул Найну, внезапно размахнулся и ударил Олмэйра прямо в грудь рукоятью своего криса, повернув острие его к себе.
– Ты видишь! Мне ничего не стоило повернуть меч наоборот, – сказал он своим ровным голосом. – Ступай, туан Путай, – прибавил он с достоинством. – Я отдаю тебе твою жизнь и жизнь мою и ее. Такова воля этой женщины, а я – раб ее желаний.
Небо тем временем совершенно померкло, вершины деревьев сделались так же невидимы, как их стволы, потому что терялись в тучах, низко нависших над лесами, рекой и поляной. Все очертания потонули в глубокой темноте, которая, казалось, поглотила все, кроме пространства. Только костер мерцал подобно звездочке, уцелевшей среди уничтожения всего видимого. Когда Дэйн замолк, все стихло, кроме рыданий Найны. Дэйн держал ее в своих объятиях, стоя на коленях у костра. Олмэйр смотрел на них в мрачной задумчивости. Он только собирался раскрыть рот, как их спугнул тихий окрик с реки, за которым раздался плеск многочисленных весел и шум голосов.
– Бабалачи! – закричал Дэйн, вскакивая на ноги и подхватывая с земли Найну.
– Ада! Ада! – отвечал, подбегая, запыхавшийся сановник и стал между ними. – Бегите к моему челноку, – продолжал он взволнованно и не обращая ни малейшего внимания на Олмэйра, – Бегите! Нам надо ехать. Эта женщина все разболтала.
– Какая женщина? – спросил Дэйн, глядя на Найну. В ту минуту для него на всем свете не существовало никакой другой женщины.
– Сука с белыми зубами! Треклятая невольница Буланджи! Она до тех пор вопила у ворот Абдуллы, пока не разбудила весь Самбир. Теперь белые офицеры плывут сюда, их ведут она и Решид. Не смотри на меня, а уезжай, если жизнь тебе дорога.
– Как ты узнал обо всем? – спросил Олмэйр.
– О туан! Не все ли равно, как я узнал! У меня один только глаз, но я видел свет в доме Абдуллы и на его усадьбе, когда мы плыли мимо. У меня есть уши и, притаившись у берега, я слышал, как посылали гонцов за белыми людьми.
– Согласен ли ты уехать без моей дочери? – обратился Олмэйр к Дэйну, а Бабалачи затопал ногами от нетерпения и повторил: – Беги, беги немедля.
– Нет, – твердо отвечал Дэйн, – Я не уеду, я никому не отдам ее.
– Тогда убей меня, а сам спасайся! – рыдала Найна.
Он крепко обнял ее, нежно взглянул на нее и прошептал:
– Мы никогда не расстанемся, о Найна!
– Я не стану больше дожидаться! – сердито вмешался Бабалачи. – Это сплошное безумие. Ни одна женщина в мире не стоит того, чтобы мужчина лишился из-за нее жизни. Я старый человек и хорошо это знаю.
Он поднял с земли свой посох, но, уходя, еще раз обернулся к Дэйну, как бы предлагая ему в последний раз средство спасения. Но Дэйн погрузил лицо в черные косы Найны и не видал последнего призывного взгляда, обращенного к нему.
Бабалачи исчез во мраке. Вскоре после того они услыхали, как боевой челнок отчалил от берега под плеск множества весел, одновременно погружаемых в воду. Почти в ту же минуту со стороны берега показался Али, несший на плече два весла.
– Наш челнок спрятан выше по ручью, туан Олмэйр, – сказал он, – в густой чаще кустарников, где лес спускается к самой реке. Я отвел его туда, потому что гребцы Бабалачи сказали мне, что белые люди спешат сюда.
– Дожидайся меня там же, – сказал Олмэйр, – но пусть челнок остается спрятанным.
Он молчал, покуда шаги Али не замерли в отдалении, и лишь тогда опять повернулся к Найне.
– Найна, – молвил он печальным голосом, – неужели тебе не жаль меня?
Ответа не было. Она даже не повернула головы, которую крепко прижимала к груди Дэйна.
Он собрался было уходить – и остановился. Он видел их неподвижные фигуры, озаряемые тусклым мерцанием костра, ее спину со сбегающими по белому платью волнами черных волос и спокойное лицо Дэйна, смотревшее на него поверх ее головы.
– Не могу! – простонал он про себя. После долгой паузы он заговорил опять, несколько тише прежнего, неверным голосом: – Это было бы чересчур позорно. Я белый человек. – Тут он совсем ослабел и продолжал слезливым тоном, – Я белый человек, из хорошей семьи, из очень хорошей семьи, – повторял он, горько плача, – Это был бы позор – на все острова – единственный белый человек на восточном побережье… Нет, этою нельзя допустить – чтобы белые люди нашли мою дочь с этим малайцем! Мою дочь! – закричал он с нотой отчаяния в голосе.
Через несколько времени он овладел собой и внятно произнес:
– Я никогда не прощу тебе, Найна, никогда. Если бы даже ты вернулась теперь ко мне, воспоминание об этой ночи навсегда отравило бы мне жизнь. Я постараюсь забыть. У меня нет дочери. Была у меня в доме женщина-метиска, но она сейчас уедет. Слушай ты, Дэйн, или как там тебя зовут, – я сам отвезу тебя и эту женщину на остров у впадения реки в море. Ступайте оба за мной.
Он пошел вперед вдоль берега параллельно лесу. Али отозвался на его зов, и, пробравшись сквозь чашу кустарников, они сошли в челнок, спрятанный под нависшими над водой ветвями. Дэйн уложил Найну на дно лодки, а сам сел, поддерживая ее голову на своих коленях. Олмэйр и Али взялись за весла. В ту самую минуту, как они хотели оттолкнуться от берега, Али предостерегающе зашикал. Все насторожились.
В глубокой тишине, предшествовавшей наступлению грозы, они различили плеск весел, мерно вздымаемых в уключинах. Звуки эти постепенно приближались, и скоро Дэйн, выглядывавший из-за ветвей, разглядел смутные очертания большой белой лодки. Женский голос осторожно произнес:
– Здесь есть место, где вы сможете высадиться, белые люди; немного повыше – вот здесь.
Лодка прошла так близко от беглецов в узком ручье, что лопасти ее весел едва не задели челнок.
– Расступись. Готовься прыгать на берег. Он один и безоружен, – спокойно распорядился по-голландски мужской голос.
Кто-то другой прошептал:
– Я как будто различаю сквозь кусты пламя костра. – После этого лодка проплыла мимо них и растаяла во мраке.
– Теперь, – быстро шепнул Али, – оттолкнемся от берега и пустимся наутек.
Маленький челнок выплыл в реку, и в ту минуту, как он устремился вперед, подгоняемый мощными взмахами весел, до слуха беглецов донесся крик ярости.
– Его нет у костра! Рассыпься в цепь, ребята! Искать его!
Синие огоньки вспыхнули в разных концах поляны, и пронзительный женский голос закричал с выражением бешенства и муки:
– Опоздали! О бессмысленные белые люди! Он убежал!
ГЛАВА XII
– Вот то место, – сказал Дэйн, указывая веслом на островок приблизительно в миле расстояния от челнока, – вот то место, куда Бабалачи обещал выслать за мной лодку с корабля, когда солнце будет стоять у нас над головами. Там мы ее и дождемся.
Сидевший на руле Олмэйр молча кивнул головой и легким поворотом его придал челноку требуемое направление.
Они как раз выплывали из южного рукава Пантэя; он расстилался за ними прямой и длинной полосой воды, сверкавшей между двух стен густой зелени, которые как бы бежали навстречу друг другу и сливались в отдалении. Солнце подымалось над спокойными водами проливов, отмечая свой путь полоской света, скользившей по морской глади и устремлявшейся вверх по реке, точно торопливый вестник жизни и света, посланный к мрачным лесам побережья. В сиянии этой солнечной дорожки колыхался черный челнок, направлявшийся к островку, тонувшему в солнечных лучах; желтый песок его выгнутой бухты сверкал подобно золотой инкрустации на полированной стали безмятежного моря. К югу и к северу от него виднелись другие островки, весело расцвеченные яркой зеленью и желтизной. На материке темная линия манговых кустов оканчивалась на юге красноватыми утесами Танджонг-Мирры; они выдавались далеко в море, крутые, без малейшего признака тени в прозрачном свете раннего утра.
Песок заскрипел под челноком, когда легкое суденышко с разбега ударилось о берег. Али выскочил на сушу и придержал лодку, а Дэйн вышел из нее, неся на руках Найну, измученную недавними потрясениями и долгим ночным плаванием. Олмэйр вышел из лодки последним и вместе с Али вытащил ее подальше на берег. Потом Али, утомленный долгой греблей, растянулся в тени челнока и немедленно же заснул. Олмэйр присел боком на борт челнока со скрещенными на груди руками и стал глядеть на море по направлению к югу.
Дэйн заботливо уложил Найну в тени кустов, росших посреди островка, а потом бросился рядом с ней на землю и с безмолвным участием принялся следить за тем, как слезы бежали из-под ее сомкнутых век и терялись в мелком песке, на котором они лежали лицом к лицу. Эти слезы и это горе были для него глубокой, жуткой тайной. О чем она скорбит теперь, когда опасность миновала? Он не мог усомниться в ее любви к нему, как не мог усомниться в факте своего собственного существования; но лежа рядом с ней, страстно глядя ей в лицо, глядя на ее слезы, на ее полураскрытые губы, на самое ее дыхание, он тревожно сознавал, что есть в ней что-то такое, чего он не понимает. Она, несомненно, обладала мудростью совершенных существ. Он вздохнул. Он чувствовал, что между ними стоит какая-то невидимая преграда, которая не допускает его к ней ближе известного расстояния. Ни желание, ни тоска, ни усилие воли, ни даже долгая совместная жизнь не смогут уничтожить этого смутного сознания их различия. Он с трепетом, но вместе с тем с чувством огромной гордости заключил, что все дело в ее собственном, несравненном совершенстве. Она была его, но в то же время это была женщина из другого мира. Его! Его! Он ликовал при одной этой дивной мысли; но слезы ее огорчали его.
Робко и благоговейно взял он в руки прядь ее волос и в порыве неловкой нежности начал утирать ей слезы, блестевшие на ее ресницах. Наградой ему была мимолетная улыбка, озарившая ее лицо на короткую долю секунды; но вслед за тем слезы еще сильнее полились из ее глаз; этого он уже не в состоянии был выдержать. Он встал и подошел к Олмэйру, все еще погруженному в созерцание моря. Давно, очень давно не видал Олмэйр моря, того моря, которое ведет всюду, приносит все, уносит столь многое. Он почти забыл, почему он здесь находится; ему казалось, что вся его минувшая жизнь как бы снова оживает на этой ровной, бесконечной поверхности, сверкавшей перед его глазами.
Рука Дэйна, легшая к нему на плечо, заставила Олмэйра вздрогнуть и вернуться из какой-то очень далекой страны. Он оглянулся, но глаза его, казалось, смотрели не на Дэйна, а только на то место, на котором тот стоял. Дэйну стало жутко под этим бессознательным взглядом.
– Что такое? – спросил Олмэйр.
– Она плачет, – тихо сказал Дэйн.
– Она плачет! Почему? – равнодушно спросил Олмэйр.
– Об этом-то я и пришел спросить тебя. Моя рани улыбается, когда глядит на своего возлюбленного; это плачет не она, а белая женщина. Ты должен понимать – почему. Олмэйр пожал плечами и опять повернулся к морю.
– Пойди, туан Путай, – молвил Дэйн. – Пойди к ней. Ее слезы мне страшней, чем гнев богов.
– Правда? Ты еще не раз увидишь их. Она сказала мне, что жить без тебя не может, – отвечал Олмэйр без малейшего проблеска выражения на лице, – возвращайся же поскорее к ней из боязни, как бы тебе не найти ее мертвой.
Он расхохотался таким громким и неприятным смехом, что Дэйн с некоторым опасением воззрился на него, но все же слез с борта лодки и медленно направился к Найне, взглянув на ходу на солнце.
– И вы уедете, когда солнце будет у нас над головами? – спросил он.
– Да, туан. Тогда мы уедем, – отвечал Дэйн.
– Мне недолго остается ждать, – пробормотал Олмэйр. – Мне очень важно проводить вас – проводить вас обоих. Крайне важно, – повторил он, останавливаясь и пристально глядя на Дэйна.
Он отправился к Наине, а Дэйн остался позади. Олмэйр подошел к дочери и несколько времени, стоя, глядел на нее. Она не открывала глаз, но, заслышав около себя шаги, тихо всхлипнула и прошептала: Дэйн!
Олмэйр колебался мгновение, потом опустился рядом с ней на песок. Не получая ни слова в ответ, не чувствуя прикосновения, она открыла глаза, увидала отца и быстро села, как бы пораженная ужасом.
– Ах, отец! – тихо шепнула она, и в этом слове прозвучало и сожаление, и страх, и зарождающаяся надежда.
– Я никогда не прощу тебя, Найна, – сказал Олмэйр совершенно бесстрастным голосом. – Ты вырвала у меня сердце в то время, когда я мечтал только о твоем счастье. Ты обманула меня. Твои глаза, в которых мне сияла сама истина, лгали мне, а сколько времени – про то ты сама всех лучше знаешь. Ты гладила мои щеки, а сама считала минуты до захода солнца, который должен был служить тебе сигналом для встречи с этим человеком!
Он умолк, и оба молча сидели рядом, глядя не друг на друга, а на беспредельный морской простор. Слова Олмэйра осушили слезы Найны, и взгляд ее сурово устремился на безбрежную синеву, прозрачную, спокойную и неподвижную, как самое небо. Он тоже смотрел на нее, но черты его утратили всякое выражение, и в глазах его не было жизни. Лицо его напоминало чистый лист серой бумаги, без следа волнения, чувства, рассудка, даже без признака самосознания. Все страсти – сожаление, горе, надежда или гнев – исчезли, стертые рукой судьбы, как будто все было покончено этим последним ударом и не было больше надобности ни в каких пометках. Те немногие люди, которые еще видали Олмэйра в течение остававшихся ему немногочисленных дней жизни, всегда бывали потрясены видом его лица, не отражавшего ничего из того, что происходило в душе самого человека; так немая стена тюрьмы скрывает грех, раскаяние, страдание, загубленные жизни под холодным равнодушием камня и цемента.
– А что прощать? – спросила Найна, не обращаясь прямо к Олмэйру, а словно рассуждая сама с собой. – Разве я не имею права прожить свою жизнь по-своему, как ты прожил свою? Ты хотел, чтобы я шла намеченной тобой дорогой; но не я виновата, что эта дорога закрылась предо мной.
– Ты ни разу не сказала мне, – пробормотал Олмэйр.
– А ты ни разу не спросил меня, – отвечала она, – и я думала, что ты такой же, как и другие, и что тебе все равно. Я одиноко несла воспоминание о моем унижении; мне незачем было говорить тебе, что оно постигло меня потому, что я твоя дочь. Я знала, что ты не можешь отомстить за меня.
– А между тем, – перебил ее Олмэйр, – я только об этом и думал! Я надеялся подарить тебе годы счастья за один короткий миг страдания. Я знал один только способ.
– Да, но он не был моим! – возразила она. – Как мог ты дать мне счастье, не дав в то же время жизни? Жизнь! – повторила она с неожиданным пылом, и слово это звонко пронеслось над морем. – Жизнь – значит могущество и любовь! – прибавила она тихим голосом.
– Это? – сказал Олмэйр и пальцем указал на Дэйна, стоявшего тут же и смотревшего на них с недоуменным любопытством.
– Да, это! – возразила она, прямо посмотрела в лицо отцу и тихо ахнула, впервые заметив неестественную неподвижность его черт.
– Лучше бы я задушил тебя своими собственными руками, – сказал Олмэйр без малейшего признака выражения в голосе. Так велик был контраст между его бесстрастием и невыразимой горечью его переживаний, что удивил даже его самого. Он спросил себя: кто это говорит? – и медленно осмотрелся вокруг, как бы ожидая увидать кого-то; потом опять устремил глаза на море.
– Ты говоришь так потому, что тебе непонятен смысл моих слов, – печально сказала она. – Между тобой и моей матерью никогда не было любви. Когда я вернулась в Самбир, то оказалось, что там, где я надеялась обрести мирное пристанище, царили ненависть, отвращение и обоюдное презрение. Я прислушивалась то к твоему, то к ее голосу. И тут я увидала, что ты не можешь понять меня: ведь я была частицей той женщины, которая являлась позором и печалью твоей жизни. Мне приходилось выбирать между вами, я колебалась. Почему ты был так слеп? Неужели ты не видел, как я боролась у тебя на глазах? Но когда явился он, то все сомнения исчезли, и я не видела ничего, кроме сияния голубого безоблачного неба.
– Я доскажу остальное, – перебил ее Олмэйр. – Когда явился этот человек, мне тоже засияли солнце и небесная лазурь. Гром ударил в меня с этого неба, и все вокруг меня сразу замолкло и померкло навеки. Я никогда не прощу тебя, Найна; я завтра же позабуду тебя. Я никогда не прощу тебя, – повторил он с машинальным упорством, а она свдела, опустив голову, как будто боялась взглянуть на отца.
Ему казалось чрезвычайно важным убедить ее в том, что он никогда не простит ее. Он был убежден, что в основе всех его надежд лежала его вера в нее, что ею вдохновлялось его мужество, его решимость жить и бороться и победить, наконец, ради нее. Теперь же вера его исчезла, загубленная ее же собственными руками, загубленная жестоко, вероломно, исподтишка, в самую минуту успеха. Среди окончательного крушения всех его привязанностей и чувств, среди хаотического смятения его мыслей, над смутным ощущением физической боли, похожей на жгучую боль от удара кнута, которая пронизывает все тело от плеч до пят, одна только мысль оставалась ясной и определенной – не прощать ей, одно страстное желание – забыть ее. Так понимал он свой долг перед самим собой, своей расой, своей почтенной родней, перед целым светом, потрясенным и выведенным из равновесия ужасающей катастрофой его жизни. Он ясно это видел и считал себя сильным человеком. Он всегда гордился своей непоколебимой стойкостью. И тем не менее ему было страшно. Она была для него всем. Что, если вдруг его любовь к ней подорвет в нем чувство собственного достоинства? Она была замечательной женщиной, – он это видел; все скрытое величие его собственной натуры, в которое он искренне верил, перешло в эту стройную девическую фигуру. В ней таилась возможность великих деяний! Что, если вдруг он прижмет ее к сердцу, забудет свой стыд, свой гнев, свое горе и – последует за нею? Что, если он переделает свое сердце – если не цвет кожи-и поможет украсить ей жизнь, поможет сделать так, чтобы существование ее протекало под охраной двух привязанностей, уберегающих ее от всякой беды? Что, если вдруг он скажет ей, что его любовь к ней сильнее, чем… – Я никогда не прощу тебя, Найна! – закричал он и бешено вскочил в ужасе, нахлынувшем на него при этих представлениях.
В последний раз в жизни он так возвысил голос. С этих пор он говорил всегда монотонным шепотом, точно инструмент, в котором от тяжелого удара со звоном порвались все струны, кроме одной.
Она встала с места и взглянула на него. Сила его возгласа утешила ее, принеся ей инстинктивную уверенность в его любви, и она схватилась за жалкие остатки этой привязанности с беззастенчивой жадностью женщины; ибо женщины ведь отчаянно цепляются за малейшие обрывки и обломки любви – всех родов любви, – как за что-то такое, что принадлежит им по праву и составляет самую сущность их жизни. Она положила обе руки Олмэйру на плечи, взглянула на него полунежно, полуигриво и сказала:
– Ты говоришь так потому, что любишь меня.
Олмэйр отрицательно замотал головой.
– Нет, любишь, – мягко настаивала она и, помолчав немного, прибавила: – И ты никогда меня не забудешь.
Олмэйр слегка вздрогнул. Она не могла сказать более жестокой вещи.
– Вон плывет сюда лодка, – сказал Дэйн, протянув руку по направлению к черной точке, появившейся на море между берегом и островком.
Все устремили взгляд на нее и молча ждали, покуда маленький челнок не пристал к берегу. Из него вышел человек и направился к ним, но в нескольких шагах от них он остановился в нерешимости.
– В чем дело? – спросил Дэйн.
– Мы получили ночью тайное приказание – увезти с этого острова мужчину и женщину. Женщину я вижу; но который из вас тот мужчина?
– Пойдем, радость очей моих, – обратился Дэйн к Найне. – Мы уезжаем, и отныне твой голос будет звучать только для моего слуха. Ты в последний раз говорила с туаном Путай, отцом твоим. Идем же.
Она поколебалась немного, глядя на Олмэйра, неуклонно смотревшего на море, потом медленно поцеловала его в лоб, и слеза – ее слеза – упала ему на щеку и покатилась по его неподвижному лицу.
– Прощай, – шепнула она и продолжала стоять в нерешимости, покуда он вдруг сам не толкнул ее в объятия Дэйна.
– Если у тебя есть хоть капля жалости ко мне, – сказал Олмэйр так, как если бы повторял затверженный урок, – то уведи эту женщину.
Он стоял очень прямо, откинув назад плечи, высоко подняв голову, и следил за тем, как они спускались, обнявшись, к берегу бухты по направлению к челноку. Он смотрел на следы их шагов, запечатлевшиеся на песке, наблюдал за их фигурами, облитыми резким светом отвесных лучей, сильным и дрожащим, как триумфальный возглас медных труб. Он смотрел на смуглые плечи мужчины, на опоясывавший его красный саронг, на высокую, стройную, ослепительную фигуру, которую тот поддерживал. Он смотрел на белое платье, на струящуюся по нему массу черных волос. Он смотрел на то, как они садились в лодку, как челнок все уменьшался и уменьшался в отдалении, – смотрел с бешенством, отчаянием и сожалением в душе. Но лицо его было спокойно, как у статуи Забвения. И, хотя душа его разрывалась на части, Али – теперь проснувшийся и стоявший рядом со своим хозяином – подметил в его чертах выражение людей, живущих в том безнадежном покое, который только слепота может придать человеческому лицу.
Челнок исчез, но Олмэйр все еще стоял неподвижно, пристально глядя на оставленный им след в воде. Али приставил руку к глазам и с любопытством разглядывал берег. По мере того как солнце клонилось к закату, морской ветерок подымался с севера и рябил зеркальную поверхность воды.
– Дапат! – радостно вскричал Али. – Нашел его, господин! Нашел корабль! Не туда – больше в сторону Панай-Мирры! Ага! Туда смотри – туда! Видишь, хозяин? Совсем ясно! Видишь?
Олмэйр долго и безуспешно следил за пальцем Али. Наконец он различил треугольное пятно желтого света на красном фоне утесов Панай-Мирры. То парус корабля вспыхнул на солнце и теперь ясно выделялся своим веселым цветом на темно-красной скале. Желтый треугольник медленно проплывал мимо скал, пока не обогнул последнего выступа земли и не сверкнул на мгновение на яркой синеве открытого моря. Потом корабль повернул к югу; свет на парусе погас, и вместе с ним исчезло из глаз и самое судно, поглощенное тенью, падавшей от крутого мыса, который терпеливо и одиноко сторожил морскую пустыню.
Олмэйр не двигался. Журчащая вода оглашала воздух вокруг маленького островка немолчным пением. Мелкие пенящиеся волны смело и весело взбегали на берег, со всей беззаботностью юности, и умирали без сопротивления, быстро и грациозно, в широких дугах белой пены на желтом песке. Высоко в воздухе белые облака летели к югу, словно в погоне за чем-то. Али начинал беспокоиться.
– Хозяин, – робко начал он, – Пора домой. Нам придется долго плыть. Все готово, господин.
– Подожди, – прошептал Олмэйр.
Она уехала, и теперь он должен был забыть. У него было какое-то странное чувство, что забывать нужно систематически, по порядку. К ужасу Али, он бросился на колени и пополз по песку, тщательно засыпая руками следы Найниных шагов. Он сгребал на них маленькие кучки песку, оставляя за собой ряд крохотных могилок вплоть до самой воды. Похоронив таким образом последний оттиск Найниных туфелек, он поднялся на ноги, повернулся в сторону мыса, у которого в последний раз видел корабль, и сделал усилие, чтобы еще раз выкрикнуть свое твердое решение не прощать. Али, смотревший на него с беспокойством, видел только, как зашевелились ею губы, но не слышал ни малейшего звука. Он топнул ногой. Пусть себе уезжает. У него никогда не было дочери. Он забудет. Он уже забывает.
Али снова подошел к нему, настаивая на немедленном отъезде, и на этот раз он согласился. Они вместе пошли к челноку – Олмэйр впереди, Али за ним. Несмотря на всю свою твердость, Олмэйр имел глубоко-убитый, несчастный вид. Он медленно волочил ноги по прибрежному песку, а рядом с ним, невидимо для Али, шагал тот особенный демон, чье назначение вечно пробуждать и тревожить воспоминания человека и не давать ему забывать смысла и значения жизни. Он нашептывал Олмэйру детскую болтовню давно прошедших лет. Олмэйр склонил голову набок, точно прислушивался к речам своего незримого спутника; но лицо его напоминало лицо человека, убитого ударом в спину, лицо, с которого внезапная смерть стерла все ощущения и всякое выражение.
Они провели ночь на реке, привязав челнок под навесом кустов. Они лежали рядом на дне его, подавленные тем крайним утомлением, которое убивает голод, жажду, все чувства и мысли и навевает неодолимый сон, подобный временной смерти. На другой день они поплыли дальше и все утро упорно боролись с течением, покуда около полудня не достигли поселка и не привязали челнока у пристани «Лингарда и К0». Олмэйр прямо прошел в дом; Али последовал за ним, неся весла на плече и думая о том, что хорошо было бы теперь поесть чего-нибудь.
Проходя по двору, они обратили внимание на странный, заброшенный вид усадьбы. Али заглянул во все хижины, в которых жили невольники, – они были пусты. На заднем дворе тоже не было ни шума, ни признаков жизни вообще. Огонь под кухонным навесом погас, черная зола его остыла. Высокий, худой мужчина вышел украдкой из банановой рощицы и быстро удалился, оглядываясь на них через плечо большими испуганными глазами. Вероятно, это был бродяга, не имевший хозяина. Их много было в поселке, и все они считали Олмэйра своим патроном. Они ютились на его участке и кое-как существовали; они знали, что с ними не случится ничего худого, разве только белый человек разразится на них потоком ругани, если они попадутся ему под ноги. Они доверяли ему, любили его и ругали его между собой дураком. Олмэйр вошел в дом с задней веранды. Единственное живое существо, попавшееся ему навстречу, была маленькая обезьянка; брошенная на произвол судьбы, изголодавшаяся за эти два дня, она сразу же начала плакать и жаловаться на своем обезьяньем языке, как только увидала знакомое лицо. Олмэйр успокоил ее ласковыми словами и приказал Али принести бананов. Покуда тот ходил за ними, он стоял в дверях передней веранды и смотрел на хаотически опрокинутую мебель. В конце концов он поднял стол и присел на него, а обезьянка спустилась со стропил по своей цепочке и вскарабкалась к нему на плечо. Когда им принесли бананов, они позавтракали вместе; оба были голодны и жадно ели, небрежно разбрасывая вокруг себя кожуру, в доверчивом молчании истинной дружбы. Али ушел, сердито ворча, чтобы самому приняться за варку риса, потому что все женщины исчезли из дома неизвестно куда. Олмэйру это было, по-видимому, все равно. Покончив с едой, он сидел на столе, болтал ногами и смотрел на реку, как бы погруженный в раздумье.
Через несколько времени он встал и подошел к дверям комнаты по правой стороне веранды. То была контора. Контора «Лингарда и К°». Он редко входил туда. Дел никаких не было, и он не нуждался в конторе. Дверь была заперта, и он остановился перед ней, закусив губу и стараясь припомнить, где может находиться ключ. Вдруг он вспомнил, что он висит на гвозде в комнате женщин. Он подошел к двери, над которой красная занавесь висела неподвижными складками, и несколько времени колебался, прежде чем оттолкнуть ее плечом. Казалось, что он превозмогал какое-то большое препятствие. Большой четырехугольник света врывался в окно и обрисовывался на полу. По левую руку Олмэйр увидал большой деревянный ларь миссис Олмэйр, пустой, с откинутой назад крышкой; рядом с ним медные гвозди на европейском дорожном сундуке Найны блестели крупными инициалами Н. О., украшавшими крышку. Несколько платьев Найны, развешанных на деревянных вешалках, казалось, застыли в неподвижности, словно оскорбленные тем, что их бросили. Олмэйр вспомнил, что сам сделал для них вешалки, и заметил, что это были прекрасные вешалки. Но где же ключ? Он осмотрелся и увидел, что ключ висит у той самой двери, у которой он стоит. Ключ весь заржавел. Это обстоятельство раздосадовало было Олмэйра, но он тут же сам на себя подивился. Не все ли равно? Ведь скоро не будет ни ключа, ни двери, вообще ничего! Он постоял с ключом в руке, спрашивая себя, хорошо ли он знает, что собирается делать. Он снова вышел на веранду и в раздумье остановился у стола. Обезьянка спрыгнула на пол, подняла банановую кожуру и принялась прилежно раздирать ее на волокна.
– Забыть! – пробормотал Олмэйр, и это слово вызвало в его сознании целый ряд действий, подробную программу того, что надлежало совершить. Теперь он отлично знал, что и как нужно. Сперва одно, потом другое, а там уже само собой придет и забвение. Само собой. У него создалась навязчивая идея, что если только он не успеет забыть до смерти, то ему придется помнить до скончания века. Некоторые вещи должны быть с корнем вырваны из его жизни, растоптаны, уничтожены, забыты. Он долго стоял неподвижно, со страхом раздумывая, что ему, пожалуй, не удастся победить свою память. Он страшился смерти и предстоявшей вечности. «Вечность!» – выговорил он вслух, и звук этого слова вывел его из задумчивости. Обезьянка встрепенулась, выронила банановую кожицу и дружелюбно осклабилась на него.
Он подошел к дверям конторы и не без труда открыл ее. Входя, он поднял ногами целое облако пыли. На полу разбросаны были раскрытые книги с вырванными листами; другие книги, черные и мрачные, валялись с таким видом, как будто их никто никогда не открывал. Счетные книги. Он намеревался когда-то изо дня в день отмечать в этих книгах рост своего состояния. Но это было давно, очень, очень давно. А сколько уже лет не было надобности отмечать что-либо на их страницах, разграфленных красными и синими чертами! Посреди комнаты, подобно остову потерпевшего крушение корабля, валялась на боку большая конторка со сломанной ножкой. Большая часть ящиков вывалилась из нее, обнаружив при этом груды бумаги, пожелтевшей от времени и пыли. Вращающееся кресло стояло на своем месте, но винт не поддался, когда Олмэйр попытался повернуть его. Не беда. Он оставил его в покое и стал медленно оглядывать предметы один за другим. Все эти вещи в свое время стоили больших денег – конторка, бумага, рваные книги, сломанные полки, погребенные под густым слоем пыли. Это были прах и кости погибшего, мертвого дела. Он смотрел на все эти предметы, – только они и оставались ему от стольких лет труда, борьбы, бессилия, уныния, от всех этих мук, столько раз преодолевавшихся. Преодолевавшихся – для чего? Он стоял, погруженный в мрачные размышления над своей прошедшей жизнью, как вдруг ему явственно послышался звонкий детский голосок, щебетавший среди всего этого разрушения. Он испуганно встрепенулся и лихорадочно принялся сгребать в одну кучу разбросанные по полу бумаги, изломал в щепки стул, разбил ящики, ударяя их о конторку, и грудой свалил весь этот хлам в одном из углов комнаты.








