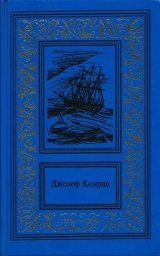
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 52 страниц)
– Одолжите мне ваше ружье, Олмэйр, – сказал Виллемс, сидя за столом, на который коптящая лампа бросала красноватый свет, освещая неубранные остатки обеда. – Мне хочется, когда взойдет луна, пойти поискать оленя.
Олмэйр, сидевший боком к столу, раздвинув локтем грязные тарелки, вытянув ноги и устремив глаза на кончик травяных туфель, отрывисто засмеялся.
– Вы могли бы ответить даили нет,вместо того, чтобы производить этот не особенно приятный шум, – заметил Виллемс с холодным раздражением.
– Я ответил бы, если б верил хоть единому слову из того, что вы говорите, – ответил Олмэйр, не меняя позы и говоря медленно, останавливаясь, будто бросая слова на пол. – А так – какой смысл? Вы знаете, где ружье. Вы можете взять его или не брать. Ружье. Олень. Чепуха! Охотиться на оленя! Вы за… газелью гоняетесь, мой дорогой гость. Для этой дичи вам нужны золотые кольца и шелковые саронги, мой могучий охотник. И этого вы не получите, сколь бы ни просили, я вам говорю. Целыми днями среди туземцев. Много вы мне помогаете, нечего сказать.
– Вам не следует так много пить, Олмэйр, – произнес Виллемс, стараясь небрежностью тона прикрыть свою ярость. – У вас слабая голова. Всегда была слабая, насколько я помню по Макассару. Вы слишком много пьете.
– Я пью свое, – отрезал Олмэйр, быстро поднимая голову и бросая на Виллемса свирепый взгляд.
Эти два представителя высшей расы с минуту дико глядели друг на друга, затем одновременно, будто по уговору, отвернулись и встали. Олмэйр, сбросив туфли, улегся в гамак, повешенный между двумя колоннами веранды, чтобы можно было пользоваться малейшим ветерком жаркого времени года, а Виллемс, нерешительно постояв у стола, молча сошел с веранды и прошел через двор к маленькой деревянной пристани, у которой несколько маленьких челнов и два больших белых вельбота дергались на коротких причалах и стукались друг о друга в быстром течении реки.
Он вскочил в самый маленький челн, неуклюже закачался, отдал конец и, слишком сильно оттолкнувшись, чуть не перевернулся. Пока он снова пришел в равновесие, челн успел отплыть сажен на двадцать. Он опустился на колени на дно суденышка и сильными взмахами весла начал грести против течения. Олмэйр, обхватив руками колени, выпрямился в гамаке и, полуоткрыв рот, глядел на реку; вдруг он различил челн и человека, гребущего мимо пристани.
– Я знал, что вы поедете, – крикнул он. – Но возьмете ли ружье? – добавил он, напрягая голос.
Он снова откинулся на гамак и тихо посмеивался, пока не заснул. На реке Виллемс, внимательно глядя вперед, работал веслом, загребая справа и слева, не обратив внимания на едва донесшиеся до него слова.
Прошло три месяца с тех пор, как Лингард высадил его в Самбире и спешно отплыл, оставив его на попечение Олмэйра. Белые люди плохо ужились друг с другом. Олмэйр помнил то время, когда оба они служили у Гедига и когда старший по службе Виллемс относился к нему с обидной снисходительностью, и чувствовал к своему гостю сильную неприязнь. Кроме того, он ревновал к нему Лингарда. Олмэйр женился на малайской девушке, которую старый моряк удочерил в одном из своих порывов безрассудной благотворительности, а так как брак этот не был для него счастливым, то он рассчитывал на состояние Лингарда, как на компенсацию за неудачную женитьбу. Появление нового человека, имевшего, по-видимому, какие-то права на капитана, сильно его обеспокоило, тем более что старый моряк не счел нужным познакомить мужа своей приемной дочери с историей Виллемса или посвятить его в свои намерения относительно будущей судьбы этого лица. Подозрительный с самого начала, Олмэйр остался равнодушен к попыткам Виллемса помочь ему в торговле, а когда последний отстранился, то он, с характерной для него недоброжелательностью, обиделся на это невнимание. От первоначальной холодной вежливости они перешли сначала на молчаливую неприязнь, затем на открытую вражду, и оба с нетерпением ждали Лингарда, желая положить конец положению, становившемуся с каждым днем все нестерпимее. Время тянулось медленно. Виллемс, наблюдая повторяющиеся восходы солнца, думал с тоской, принесет ли этот день какую-нибудь перемену в смертной скуке его существования. Ему недоставало той деловитой и деятельной жизни, которая казалась ему теперь далекой, безвозвратно потерянной, погребенной под развалинами былых успехов, исчезнувших без надежды на возрождение. Он безутешно бродил по двору, издали наблюдая безучастным взглядом за туземными челнами, выгружающими каучук или тростник, рис или европейские товары на маленькую пристань «Лингард и К0».
Несмотря на обширность владений Олмэйра, Виллемсу было тесно среди этих исправных заборов. Человек, привыкший в течение долгих лет считать себя необходимым для других, чувствовал горькое и дикое бешенство от жестокого сознания своей ненужности; от холодной враждебности, сквозившей в каждом взгляде единственного европейца в этом варварском захолустье. Он скрежетал зубами при мысли о потерянных днях, о жизни, пропадающей зря в обществе этого сварливого и подозрительного дурака. Он слышал укор своему бездействию в журчании реки, в неумолчном шепоте огромных лесов. Кругом него все шевелилось, двигалось, проносилось мимо – земля под ногами и небо над головой. Дикари и те стремились к чему-то, боролись, бились, работали, хотя бы только для того, чтобы продлить свое жалкое существование; но они жили! Жили! Только он один как бы оставлен за порогом мироздания, в безнадежной неподвижности, полной мучительной злости и вечно жгучего сожаления.
Иногда он бродил по селению. Расцветший впоследствии, Самбир родился в болоте и провел свою юность в зловонной тине. Дома теснились вдоль реки и, как бы стараясь уйти от нездорового берега, шагали прямо в воду, нависая над ней тесным рядом бамбуковых мостков на высоких сваях, под которыми течение звучало мягкой и непрестанной жалобой ропщущих быстрин. Во всем поселке была лишь одна тропа, проходившая позади домов, вдоль ряда круглых черных пятен, отличавших места семейных костров. С другой стороны тропу окаймлял девственный лес, подступающий очень близко, как бы дерзко вызывая прохожего решить таинственную загадку дебрей. Никто не принимал обманчивого вызова. Сделали лишь несколько слабых попыток расчистить некоторые места, но берега были низкие, и река, спадая после ежегодного разлива, оставляла на них залежи ила, где в жаркие дни радостно барахтались буйволы бугийских поселенцев. Когда Виллемс проходил по тропе, ленивые мужчины, растянувшись в тени домов, смотрели на него со спокойным любопытством, женщины, занятые у костров, бросали ему вслед удивленные и робкие взгляды, а дети, едва взглянув, убегали, крича от страха при виде ужасного человека с красным и белым лицом. Это проявление детского страха и отвращения наполняло его чувством нелепого стыда: он выбирал для прогулок более пустынные поселки, но даже буйволы, обеспокоенные его появлением, тревожно сопели, неуклюже вылезали из прохладного ила и всем стадом тупо смотрели на него, когда он, пробираясь опушкой, старался пройти незамеченным. Однажды, неосторожным движением, он вспугнул их, и они устремились по тропе, раскидали костры, обратили в бегство кричащих женщин и оставили после себя вереницу разбитых горшков, растоптанного риса, сбитых с ног детей и толпу свирепых мужчин, орущих и размахивающих палками. Невольный виновник этого переполоха постыдно бежал от мрачных взглядов и неприязненных замечаний и поспешил укрыться в усадьбе Олмэйра. После этого он перестал навещать поселок.
Некоторое время спустя, наскучив вынужденным затворничеством, Виллемс взял один из многочисленных челнов Олмэйра и переправился через главный рукав Пантэя в поисках уединенного местечка, где бы он мог скрыть свою усталость и упадок духа. Невдалеке от того места, где частокол раджи спускался к реке, он высадился и, следуя капризным обещаниям тропинки, вышел на сравнительно открытую поляну, где спутанные узоры солнца, падая через листву, ложились на ручей, который изгибался, сверкая, словно сабельный клинок, брошенный среди высокой пушистой травы. Дальше тропинка опять сужалась, уходя в густой кустарник. После первого поворота Виллемс увидел, как мелькнуло что-то белое и цветное, сверкнуло золото, словно солнечный луч в тени, и глянула чернота, чернее самой темной тени леса. Он остановился, удивленный; ему показалось, что он слышал легкие шаги, – удалявшиеся, затихавшие. Он посмотрел кругом. Трава на берегу ручья колебалась, и дорожка трепещущих серебристо-серых метелок вела от воды к кустам. А ветра не было. Кто-то здесь прошел.
Он поспешил вперед, подгоняемый внезапным любопытством, и вошел в узкий проход между кустами. На следующем повороте опять мелькнула цветная материя и черные женские волосы. Он прибавил шагу и вскоре увидел ту, кого преследовал.
Женщина, несшая два бамбуковых кувшина, полных воды, услышала его шаги, остановилась и, поставив кувшины, обернулась. Виллемс с минуту тоже стоял на месте, затем пошел твердыми шагами вперед; женщина посторонилась, чтобы пропустить его. Он смотрел прямо вперед, но почти бессознательно запечатлел во всех подробностях ее высокую и грациозную фигуру. Когда он приблизился к ней, она, немного откинув голову, легким движением сильной, округлой руки захватила прядь распущенных черных волос и закрыла ей нижнюю часть лица. Он прошел мимо нее нетвердой поступью, как пьяный. Он слышал ее учащенное дыхание и чувствовал на себе взгляд, блеснувший из-под полуопущенных век. Этот взгляд пронзил сердце. Он показался ему оглушительным, как выстрел, молчаливым и проникновенным, как вдохновение. По инерции он прошел мимо нее, но затем невидимая сила, в которой было и удивление, и любопытство, и желание, круто повернула его.
Женщина уже успела поднять ношу, намереваясь продолжить путь. Его неожиданное движение остановило ее на первом шагу, и снова она стояла прямо, гибкая, настороженная, готовая броситься в бегство. Высоко над ней ветви деревьев сплетались в переливах прозрачного зеленого тумана, сквозь который дождь золотых лучей падал на ее голову, стекал сверканиями по ее черным волосам, сияя изменчивым блеском расплавленного металла на ее лице, и терялся угасающими искрами в темной глубине ее глаз, широко открытых, с расширенными зрачками, и пристально смотрящих на стоящего перед ней человека. И Виллемс смотрел на нее, очарованный, дрожа от ощущения, которое начинается словно ласка и кончается ударом, внезапным толчком, пробивающим себе путь к человеческому сердцу.
Она сделала шаг вперед и опять остановилась. Дуновение ветра, налетевшего сквозь деревья – Виллемсу показалось, что оно рождено ее движением, – теплой волной обвило его тело и обожгло ему лицо палящим прикосновением. Он вдохнул его глубоким вздохом, последним вздохом солдата перед атакой, вздохом любовника перед объятиями возлюбленной, вздохом, дающим смелость встретить боль, смерть или любовь.
«Кто она? Откуда?» Удивленно он отвел глаза от ее лица и посмотрел вокруг на сомкнутые деревья леса, которые стояли огромные, молчаливые и прямые, словно глядели на него и на нее, затаив дыхание. Когда-то он был ошеломлен, озадачен, почти что испуган полнотой и мощью этой тропической жизни, которая хочет солнца, но развивается в темноте, которая кажется одной лишь прелестью цвета и форм, одним лишь блеском, одной лишь улыбкой, но есть на деле цветение смерти; чья тайна сулит красоту и радость, но таит яд и гибель. Прежде его страшило неясное предчувствие опасности, но теперь, глядя снова на эту жизнь, он, казалось, мог проникнуть сквозь змеиную чешую ползущих растений и листьев, сквозь массивные полнокровные стволы, – сквозь заповедную тьму – и тайна раскрылась, – волшебная, покоряющая, прекрасная. Он взглянул на женщину.
Сквозь пеструю светотень она представлялась ему с неосязаемой ясностью сновидения. Она казалась ему обольстительной и блестящей – темной и недоступной, словно самый дух этой страны таинственных лесов, стоящий перед ним в неясной красоте колеблющихся очертаний; словно видение под прозрачным покровом, – покровом, сотканным из солнечных лучей и теней.
Она подошла к нему ближе. Он чувствовал в себе странное нетерпение при ее приближении. Мысли роились у него в голове, беспорядочные, бесформенные, ошеломляющие. Потом он услышал свой голос:
– Кто ты?
– Я дочь слепого Омара, – ответила она тихо, но твердо. – А ты, – продолжала она несколько громче, – ты белый купец – великий человек этих мест.
– Да, – сказал Виллемс, глядя ей в глаза с чувством крайнего усилия. – Да, я белый, – и добавил, чувствуя, будто говорит о ком-то другом: – Но я изгнанник своего народа.
Она серьезно слушала. В ореоле рассыпавшихся волос ее лицо казалось лицом золотой статуи с живыми глазами. Сквозь длинные ресницы полуопущенных тяжелых век блистал ее немного скошенный взгляд: твердый, проницательный, узкий, как блеск клинка. Ее губы были сомкнуты сильным и грациозным изгибом; расширенные ноздри и слегка повернутая голова придавали всему ее облику выражение дикого и злобного вызова.
Тень пробежала по лицу Виллемса. Он прикрыл рукой рот, как бы задерживая слова, готовые вырваться против воли, готовые возникнуть из властной мысли, идущей от сердца к мозгу; слова, которые должны быть брошены в лицо сомнению, опасности, страху, самой гибели.
– Ты прекрасна, – прошептал он.
Она взглянула на него опять, и ее молниеносный взгляд, скользнув по его загорелому лицу, широким плечам, прямой, высокой, неподвижной фигуре, остановился на земле у его ног. Она улыбнулась. На суровой красоте ее лица эта улыбка была словно свет зари в бурное утро; первый луч с востока, мимолетный и бледный, пробившийся сквозь тучи; предвестник солнца и грома.
VIIВ нашей жизни бывают короткие периоды, которые нами не запоминаются, но оставляют впечатление какого-то особенного настроения. Мы совершенно не помним действий, поступков, всех внешних проявлений жизни: они теряются в неземной яркости или неземном сумраке таких мгновений. Мы поглощены созерцанием того, что происходит внутри нас, что радуется или страдает, в то время, как тело продолжает дышать, инстинктивно убегает или же, не менее инстинктивно, борется, – может быть, умирает. Но смерть в такое мгновение – удел счастливцев, большая и редкая милость, знак высшего благоволения.
Виллемс не помнил, как и когда он расстался с Аиссой. Он пришел в себя уже в челне, отнесенном течением за последние дома Самбира; он пил мутную воду из горсти руки. С возвращением сознания в него вселился страх перед чем-то, завладевшим его сердцем, чем-то смутным и властным, что не могло говорить, но требовало повиновения. Первая мысль его была о сопротивлении. Он никогда не вернется туда. Никогда! Он медленно осмотрелся; кругом все сияло под лучами смертоносного солнца; он взял весло. Как все изменилось! Река казалась шире, небо выше. Как быстро скользил челн под взмахи весла! С каких это пор в него вошла сила двух или даже больше человек? Он взглянул на прибрежный лес и смутно почувствовал, что одним движением руки он мог бы спихнуть все эти деревья в воду. Лицо его горело. Он снова выпил воды и вздрогнул от порочного удовольствия, почувствовав привкус ила.
Было поздно, когда он дошел до дому, но он прошел через темный и неровный двор, не спотыкаясь, идя твердо и легко при свете какого-то внутреннего огня, невидимого другим. Кислое приветствие Олмэйра подействовало на него, как неожиданное падение с высоты. Он сел за стол и старался весело говорить со своим мрачным товарищем, но когда ужин кончился и они молча курили, он вдруг почувствовал упадок духа, усталость во всем теле и невыразимую грусть, словно после какой-то огромной, невозвратимой потери. Внутренний огонь потух, и темнота ночи вошла в сердце, принося с собой сомнение, нерешительность и глухую злобу на самого себя и на весь мир. Ему хотелось ругаться, поссориться с Олмэйром и вообще выкинуть что-нибудь дикое и бессмысленное. Ему беспричинно хотелось оскорбить это проклятое, надутое животное. Он со злобой посмотрел на Олмэйра. Тот, ничего не подозревая, спокойно курил, вероятно, распределял мысленно завтрашнюю работу. Спокойствие этого человека казалось Виллемсу непростительно обидным. Почему этот идиот молчит, когда он, Виллемс, хочет, чтобы тот говорил?.. Другие дни он всегда готов болтать. И притом такую ерунду! И Виллемс, стараясь усмирить свой бессмысленный гнев, пристально смотрел сквозь густой табачный дым на запятнанную скатерть.
Наутро, как только ему удалось выбраться незамеченным, Виллемс переправился через реку и пошел к тому месту, где он встретил Аиссу. Он бросился на траву у ручья и стал прислушиваться, надеясь, что услышит шум ее шагов. Яркий дневной свет падал сквозь ветви деревьев и, несколько смягченный, ложился среди лесных теней. Там и сям узенький солнечный луч золотым пятном падал на шершавую кору дерева, сверкал на плещущейся воде ручья или отдыхал на каком-нибудь листке, одиноко сиявшем на однообразном темно-зеленом фоне. Над головой у Виллемса сквозила синева, которую быстро пересекали белые птицы, с блестящими под солнечным светом крыльями, и с неба падал зной, окутывал Виллемса мягкими и душистыми складками воздуха, тяжелого от аромата цветов и горького запаха гнили. И среди этой творящей природы Виллемс чувствовал себя успокоенным и убаюканным до полного забвения прошлого и безразличия насчет будущего. Воспоминания об его славе, об его ошибках исчезали в этом зное, где словно таяли все сожаления, все надежды, весь гнев и вся сила его сердца. Довольный, он лежал в полузабытьи в теплом и душистом убежище, думая о глазах Аиссы, вспоминая звук ее голоса, дрожание ее губ, ее нахмуренные брови и ее улыбку.
Она, конечно, пришла. Для нее он был чем-то новым, неизвестным и странным. Он был больше и сильнее всех мужчин, виденных ей до сих пор, и совершенно другой, чем те, которых она знала. Он был из расы победителей. Все эти люди – победители – говорили низким голосом и смотрели на своих врагов холодными синими глазами. А она заставила этот голос быть мягким в обращении с ней, глаза нежными, когда он смотрел на нее! Он был настоящим мужчиной. Она не все понимала из того, что он рассказывал ей о своей жизни, но из того, что она поняла, она создала в своей фантазии образ человека великого среди своего племени, храброго и несчастного, неустрашимого беглеца, мечтающего о мести. В нем была привлекательность чего-то неопределенного и неизвестного, непредвиденного и неожиданного, – существа сильного, опасного, живого и человечного, готового быть порабощенным.
Она чувствовала, что он готов к этому. Она чувствовала это верным инстинктом первобытной женщины. День за днем они встречались, и она стояла на некотором расстоянии от него, слушая его слова и удерживая его своим взглядом. Неопределенный страх этой победы постепенно бледнел и расплывался, как воспоминание о сне; и уверенность росла, делалась ясной и убедительной, видимой, как какой-нибудь предмет, освещенный солнцем. Это было огромной радостью, великой гордостью и сладостью, оставлявшей, казалось, вкус меда на губах. Он неподвижно лежат у ее ног, зная по опыту первых встреч, что одно неосторожное движение спугивало ее и приводило в бегство. Он лежал совсем спокойно, и вся сила страсти звучала в голосе и сияла в глазах; а тело было тихо, как сама смерть. И он смотрел на нее, как она стоит над ним в тени больших, красивых листьев, касающихся ее щеки, а стройные стебли бледно-зеленых орхидей возносятся из кустов и сплетаются с черными волосами, обрамляющими ее лицо, словно все эти растения считали ее своей, – одушевленный и блестящий цветок этой пышной жизни, рожденной в полумгле и вечно стремящейся к солнцу.
С каждым днем она подходила к нему все ближе и ближе. Он наблюдал за ее медленным приближением, за постепенным приручением этой женщины словами любви. То была однообразная песнь восторга и страсти, которая, начавшись в дни творения, окутывает весь мир, как воздух, – и кончится только тогда, когда настанет конец всему – когда не будет уст, чтобы петь, и ушей, чтобы слышать. Он говорил ей, что она прекрасна и желанна, повторял ей это снова и снова. И он видел, как с течением времени испуг и недоверие исчезали с ее лица, как глаза ее становились мягче и улыбка все дольше и дольше оставалась на ее губах, улыбка человека, восхищенного мечтой.
Пока она была около него, ему ничего не нужно было во всем свете, кроме ее улыбки, ее взгляда. Ничего из прошедшего, ничего в будущем; а в настоящем – только ослепительная правда ее существования. Но когда она уходила, все погружалось во тьму; он оставался слабым и беспомощным, как бы лишенным самого себя. Он, который в течение всей своей жизни был поглощен одной мыслью о карьере и бьш презрительно равнодушен к женским чарам, иронизировавший над мужчинами, поддающимися их власти, он, такой сильный, настолько превосходящий их всех, даже в своих ошибках, наконец, понял, что самая его личность вырвана из него, и вырвана рукой женщины. Где его уверенность, гордость, ум? Где вера в себя, гнев в неудаче, желание вернуть свое счастье, уверенность в том, что он все-таки добьется этого? Все пропало. Все мужественное, что было в нем, исчезло и осталась лишь тревога в сердце, в этом сердце, которое трепетало от улыбки, от взгляда, мучилось из-за слова и успокаивалось обещанием.
Когда, наконец, настал давно желанный день, когда она опустилась на траву рядом с ним и быстрым движением взяла его руку, он встрепенулся с видом человека, разбуженного грохотом рушащегося дома. Вся его кровь, все чувства, вся его жизнь, казалось, вошли в эту руку, оставляя его без сил, в холодной дрожи, во внезапном изнеможении раненного насмерть человека. Он резко оттолкнул ее руку, словно она его обожгла, и сидел неподвижно, уронив голову на грудь, глядя в землю и тяжело дыша. Порыв его страха и явного ужаса не смутил ее. Ее лицо было строго, и глаза серьезно смотрели на него. Ее пальцы нежно тронули волосы на его виске, скользнули по щеке и легко покрутили кончик его длинного уса; пока он сидел, дрожа от этого прикосновения, она вскочила и с поразительной быстротой убежала, скрываясь со звенящим смехом в высокой траве, оставляя за собой исчезающий след движения и звука.
Он встал медленно, с трудом, как человек с тяжелой ношей на плечах, и пошел к берегу. Он вспомнил свой страх и свою радость, но снова и снова повторял себе, что это должно быть концом, что нужно положить конец этой любви. Оттолкнув челн, он взглянул на берег и долго и пристально смотрел на него, как бы запечатлевая последним взглядом место стольких волшебных воспоминаний. Он подошел к дому с сосредоточенным выражением и решительной походкой человека, только что принявшего важное решение. Его лицо было неподвижно и сурово, движения скупы и медленны. Он держал себя в руках крепко. Очень крепко. Во время обеда (который был их последним совместным обедом) он сидел против Олмэйра с совершенно спокойным лицом, но внутри его рос страх, что он сбежит от самого себя. Изредка он хватался за конец стола и сжимал зубы в неожиданном приступе отчаяния, как человек, падающий по гладкому и крутому откосу, кончающемуся пропастью, вонзает ногти в поддающуюся поверхность и чувствует, что все его старании напрасны и что он беспомощно продолжает скользить и не может предотвратить неизбежную гибель.
Вдруг наступило ослабление, расслабленность, упадок воли. И желание, сдерживаемое в течение всех этих часов, ворвалось в мозг с жаром и шумом пожара. Он должен увидеть ее! Увидеть ее теперь же! Пойти сейчас! Сегодня ночью! Он страстно жалел о каждом пропущенном часе, о каждом миге. Теперь он и не думал противиться. Однако, с инстинктивным страхом перед непоправимым, с присущей человеческому сердцу лживостью, он хотел оставить себе путь к отступлению. Он никогда не отлучался ночью. Что знает Олмэйр? Что подумает Олмэйр? Лучше попросить у него ружье. Ночь лунная… Поохотиться на оленя… Предлог благовидный. Он солжет Олмэйру. Не беда! Он лгал самому себе каждую минуту своей жизни. И для чего? Для женщины. И такой…
Ответ Олмэйра показал ему, что обманываться нечего. Все узнается, даже здесь. Ладно, ему все равно. Он ни о чем не жалел, как только о потерянных секундах. Что, если бы он неожиданно умер? Умер бы, не увидев ее. Раньше, чем…
Под смех Олмэйра, звучащий в его ушах, он гнал свой челн к противоположному берегу, борясь с течением. Он старался себя убедить в том, что в любую минуту может вернуться. Он только посмотрит на место их встреч, на дерево, под которым он лежал, когда она взяла его за руку, на ту траву, где она сидела рядом с ним. Только пойти туда и вернуться – ничего больше. Но когда его челнок врезался в берег, он выскочил, забыв схватить причал, и челнок, вздрогнув, исчез раньше, чем он успел броситься в воду и задержать его. Он был ошеломлен. Как он доберется теперь домой? Единственное, что можно сделать, это обратиться к слугам раджи с просьбой перевезти его, или дать ему лодку и пару весел, а дорога к усадьбе Паталоло вела мимо дома Аиссы!
Он шел с горящим взглядом, упорными шагами человека, гоняющегося за призраком, и, очутившись у узкой тропинки, ведущей к пасеке Омара, остановился с видом напряженного внимания, как бы прислушиваясь к отдаленному голосу – голосу своей судьбы. Это был звук невнятный, но полный значения; и, слушая его, он почувствовал что-то терзающее и рвущее душу. Он стиснул захрустевшие пальцы. Пот мелкими каплями выступил на лбу. Он дико осмотрелся. Над бесформенной темнотой лесного кустарника подымались верхушки деревьев с их иысокими ветвями и листвой, выделяясь черными пятнами на фоне бледного неба, – словно куски ночи, плавающие в лунных лучах. Из-под ног с нагретой земли подымался теплый пар. Все ьыло тихо вокруг.
Он оглядывался, ища помощи. Это молчание, эта неподвижность казались ему холодным упреком, суровым отказом, жестоким безразличием. Не было спасения в окружающем и не было убежища в себе, – был только образ этой женщины. К нему пришла минута просветления, этого жестокого просветления, которое бывает раз в жизни у самых помраченных. Казалось, он видел все происходящее внутри и ужаснулся увиденному. Он, е вропеец! Человек практических стремлений, а эта женщина – только красивая дикарка и… Он старался уверить себя, что все тго не имеет значения. Никакого значения. Напрасное старание. Сознание того, что доверенный Гедига уже исчез, и чувство, что умный Виллемс тоже исчезает, безжалостно захватывало его. Новизна чувства, никогда прежде не испытанного, но презираемого им, когда он был цивилизованным человеком, уничтожила его смелость. Он был в отчаянии от самого себя. Он, казалось, подчинялся дикой твари и отдавал ей незапятнанную чистоту своей жизни, расы, цивилизации. Он не говорил себе этого, он чувствовал себя потерянным среди чего-то бесформенного, опасного и жуткого. Он попытался бороться, заранее предвидя поражение, потерял почву под ногами, провалился в темноту. Со слабым криком и взмахом рук он сдался, как сдается усталый пловец, потому что тонущее судно ускользает из-под его ног; потому что ночь темна и берег далек; потому что смерть лучше борьбы.








