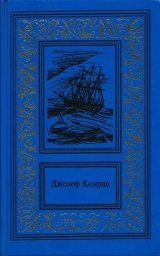
Текст книги "Каприз Олмэйра. Изгнанник. Негр с "Нарцисса" (Сочинения в 3 томах. Том 1)"
Автор книги: Джозеф Конрад
Жанры:
Морские приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
XX
Трудно моряку поверить, что его севшее на мель судно в этом ненормальном положении, без воды под килем, не чувствует себя таким же несчастным, как несчастен он, его хозяин, посадивший его на мель.
Сесть на мель – это, конечно, совсем не то, что затонуть.
Море не сомкнется над наполненным водой корпусом, сверкая солнечной рябью или сердито катя над ним быстрые волны, не вычеркнет название судна из списка живых. Нет, тут как будто украдкой протягивается со дна невидимая рука и, схватившись за киль скользившего по воде судна, удерживает его на месте.
Посадив судно на мель, моряк сильнее, чем во всех других несчастных случаях, чувствует, что совершил тяжкий промах. Есть мели и мели, но я беру на себя смелость утверждать, что в девяноста случаях из ста моряк, не считая себя опозоренным, все же жалеет, что он не умер. Без сомнения, девяносто процентов тех, кто пережил момент посадки судна на мель, хотя бы в течение пяти секунд желали себе смерти.
В таких случаях, когда обстоятельства относительно благоприятны, мы, моряки, употребляем выражение «сесть на мель». Но впечатление скорее такое, как будто судно наше захватила и держит земля. Тех, кто находится на палубе, охватывает удивительное ощущение. Кажется, что ноги запутались в неведомых и невесомых силках. Телу грозит потеря равновесия, а душевное равновесие вы теряете мгновенно. Это длится только одну секунду, ибо, пошатнувшись от толчка, вы тут же соображаете в чем дело и мысленно восклицаете с удивлением и ужасом:
– Ей богу, мы сели на мель!
И это в самом деле ужасно. В конце концов, единственная миссия моряка-профессионала состоит в том, чтобы не давать килю судна коснуться земли. Следовательно, с того момента, как судно село на мель или выброшено на берег, дальнейшее существование моряка ничем не оправдано. Его дело – держать судно на воде. Это его долг, это подлинная основа всех смутных стремлений, грез, иллюзий, которые в юности определили его призвание! Захват землей киля судна, если даже это влечет за собой не больше чем порчу такелажа и потерю времени, оставляет в душе моряка неистребимое ощущение несчастья.
Мы говорили здесь о тех «посадках на мель», которые рассматриваются как более или менее простительная оплошность. Но судно может быть «выброшено на берег» бурей. Это уже катастрофа, поражение. Быть выброшенным на берег – в этом есть унижение и едкая горечь совершенного греха.
XXI
Но почему же на мель садятся в большинстве случаев так неожиданно? В сущности такие посадки всегда неожиданны, но иногда их предвещает мгновенное сознание опасности, тревожное волнение, словно человек очнулся от невероятного, безумного сна.
Внезапно среди ночи прямо перед носом судна вырастет земля или вас будит крик: «Впереди воды нет!» Какое-то длительное заблуждение, сложное здание самообмана, чрезмерной веры в себя и неправильного хода мысли рушится мгновенно под роковым ударом, – и сердце опаляет треск и скрип киля по коралловому рифу. Этот тихий звук гораздо страшнее для моряка чем грохот погибающего мира. Но из хаоса вновь встает, утверждая себя, ваша вера в собственную дальновидность и предусмотрительность. Вы спрашиваете себя мысленно: «Куда меня занесло? Каким образом это могло случиться, черт возьми?» – и убеждены, что тут не ваша вина, а какое-то таинственное, роковое стечение обстоятельств, что морские карты все неверны, а если они верны, значит суша и море переменились местами, и что ваша неудача совершенно необъяснима, так как вы ни на секунду не забывали о вверенном вам судне, думали о нем, ложась и вставая, даже в часы сна ваш мозг был всецело во власти этого сознания ответственности.
Вы раздумываете о своей неудаче, и настроение ваше постепенно меняется, холодные сомнения закрадываются в вашу душу, и необъяснимый факт представляется вам уже в другом свете. Теперь вы спрашиваете себя: «Как я мог оказаться таким дураком и угодить сюда?» И вот вы уже перестаете верить в свой здравый смысл, в свои знания, преданность судну, во все то, что до сих пор считали лучшим в себе, что давало вам и хлеб насущный, и доверие других людей, служившее вам нравственной поддержкой.
Итак, судно разбито – или уцелело, но выброшено на сушу, и вы должны сделать для него все, что только возможно. Быть может, вы и спасете его своими усилиями, мужеством и силой духа, не сломившегося под тяжестью вины и неудачи. Иногда в том, что судно село на мель или выброшено на берег, виноваты туманы, или не нанесенные на карту моря, или опасный берег, или коварные приливы и отливы. Но спасено будет судно или нет, – все равно у его командира навсегда остается острое чувство утраты, ощущение той постоянной опасности, что таится во всех формах человеческого существования. Пожалуй, чувство это обогащает человека, но он никогда больше не будет прежним: он, как Дамокл, увидел меч, висящий на волоске над его головой. Пусть ценный человек от этого не станет менее ценным, но радости жизни навсегда утратят для него прежний вкус.
Много лет назад корабль, на котором я был помощником капитана, сел на мель, но бедствие не было для него роковым. Мы работали десять часов подряд, приводя в готовность якоря, чтобы с началом прилива сдвинуться с мели. Занятый чем-то на палубе, я вдруг услышал над самым моим ухом голос буфетчика:
– Капитан спрашивает, не придете ли вы в кают-компанию – ведь вы не ели весь день.
Я пошел в кают-компанию. Капитан, как статуя, сидел во главе стола. Все в этой уютной маленькой каюте было так странно неподвижно. Стол, в течение семидесяти дней непрерывно ходивший ходуном, теперь стоял совершенно спокойно, как и суповая ваза на нем.
Ничто не могло уничтожить багровый румянец, которым морские ветры щедро покрыли лицо капитана. Но между двумя пучками русых волос, сохранившихся над ушами, его голый череп, всегда словно налитый кровью, сейчас сиял мертвенной белизной, как купол слоновой кости. И вид у капитана был до странности неопрятный. Я заметил, что он сегодня не брился. А между тем самая страшная качка в самых бурных широтах, пройденных нами, не мешала ему бриться каждое утро с того момента, как мы вышли из Ла-Манша. Видимо, командиру не полагается бриться, когда судно его на мели? Я и сам потом командовал судами, но ничего вам на этот счет сказать не могу.
Капитан не начинал есть и не предлагал мне, пока я не кашлянул громко несколько раз, чтобы обратить на себя его внимание. Я весело заговорил с ним о каких-то делах и в заключение сказал уверенным тоном:
– Мы его снимем еще до полуночи, сэр.
Он слабо усмехнулся не поднимая глаз и пробормотал словно про себя:
– Да, да, судно на мель посадил капитан, а снимут его все. Затем, подняв голову, сердито закричал на буфетчика, долговязого робкого парня с бледным лицом и длинными передними зубами:
– Отчего это суп такой горький? Не понимаю, как мой штурман может есть эту дрянь! Наверное, кок по ошибке бухнул туда морской воды.
Обвинение было столь чудовищно, что буфетчик вместо ответа только смущенно опустил глаза.
Суп был как суп. Я съел две порции. На душе у меня было легко после многих часов энергичной работы вместе с дружной командой. Я был весело возбужден возней с тяжелыми якорями, тросами, шлюпками, тем, что работа шла гладко, без малейшей зацепки. Доволен тем, что во всеоружии знаний сумел подготовить и становой, и малый якорь самым выгодным образом. Горечи сидения на мели я тогда еще не ощущал. Это пришло позднее – и тогда только я понял, каким одиноким чувствует себя в такие минуты тот, кто отвечает за судно. «Судно на мель сажает капитан. А снимают его все».
ВРАГИ МОРЯКА
XXII
Мне кажется, ни один смертный не может положа руку на сердце сказать, что он когда-либо видел море таким молодым, как земля бывает весной. А некоторым из нас, тем, кто наблюдает океан любовно и внимательно, случалось видеть его таким старым, как будто со дна его, из недвижимых пластов ила поднялись на поверхность древние незапамятные века. Это штормы так старят море.
Когда теперь, через много лет, вспоминаешь пережитые бури, впечатление «старости» моря резко выделяется из массы других впечатлений, накопленных за столько лет тесного общения с ним.
Если хотите знать возраст Земли, поглядите на море в шторм. Серый оттенок всей его необозримой поверхности, глубокие морщины, которыми ветер изрыл лица волн, огромные массы пены, похожей на спутанные седые кудри, которые разметал и треплет ветер, – все придает морю в шторм вид такой беспросветной старости, как будто оно было сотворено раньше чем солнечный свет.
Возвращаясь мысленно к большой любви и большим невзгодам прошлого, чувствуешь, как в тебе просыпается инстинкт первобытного человека, который стремился олицетворять силы природы, внушавшие ему любовь и страх. И вот пережитые когда-то в море штормы представляются мне живыми врагами, но даже врагов этих ты готов обнять с тем нежным сожалением, которое неотделимо от прошлого.
Для моряка штормы имеют каждый свой индивидуальные облик и, пожалуй, в этом нет ничего странного: ведь, в сущности говоря, они – наши противники, над их злобной хитростью мы стремимся восторжествовать, с их грубой силой боремся и при всем том проводим дни и ночи в тесной близости с ними.
Сейчас я говорю как человек, проживший жизнь под мачтами и парусами. Для меня море – не просто «водный путь», а близкий друг и товарищ. Длительность рейсов, все растущее чувство одиночества, зависимость от сил, которые сегодня к нам благосклонны, а завтра, не меняя природы своей, становятся опасны, просто потому, что проявляют свою мощь, – все это создает ту близость с морем, которой никак не может быть у нынешних моряков, какие бы они ни были славные ребята. И кроме того, современный пароход во время плавания ведет себя иным образом – ему не нужно приноравливаться к погоде и ублажать море. Он принимает разрушительные удары, но движется вперед. Это не война по всем правилам искусства, а просто упорное, терпеливое сопротивление. Машины, железо, огонь, пар встали между человеком и морем. Для современного флота море – просто нечто вроде проезжей дороги, которую он использует. Нынешнее судно уже не бывает игрушкой волн. Допустим, что каждый его рейс – триумф, торжество прогресса. Однако еще вопрос, не есть ли более высокий и более человеческий триумф – выдержать борьбу и достигнуть цели на парусном судне, которое является игрушкой волн.
Человек всегда – представитель своего времени. Неизвестно, будут ли моряки через триста лет способны нам сочувствовать. Неисправимый род людской все больше черствеет душой, по мере того как совершенствуется.
С какими чувствами будет новое поколение рассматривать иллюстрации к морским приключенческим романам наших дней или недавнего прошлого? Это трудно угадать. Моряк уходящего поколения с умилением смотрел на изображение старинной каравеллы, потому что его парусное судно было прямым ее потомком. Он не мог без удивления, любовной насмешки, зависти и восхищения смотреть на бороздившие моря сооружения, наивно изображенные на старинных гравюрах по дереву, ибо эти каравеллы, громоздкость которых вызывает у него возглас шутливого ужаса, управлялись его прямыми предками по профессии.
Нет, через триста лет моряки, вероятно, уже не будут с насмешливым умилением любоваться фотографиями наших, почти уже покойных теперь парусных судов. Они будут смотреть на них холодным, испытующим и равнодушным взором. Наши парусники будут для них не прямыми предками их судов, а попросту предшественниками, отжившими свой век, вымершим видом. Моряк будущего, каким бы судном он ни управлял, – не потомок наш, а только преемник.
XXIII
Судно создано руками человека, оно – его союзник, и от него в большой мере зависит, каким море покажет себя моряку. Помню, как однажды командир (официально шкипер, из вежливости называемый капитаном) прекрасного стального судна из торговой флотилии, перевозившей шерсть, качал головой, глядя на прелестную бригантину. Оба судна шли в разных направлениях. Бригантина была хорошо снаряжена, нарядная, красивая и, видимо, содержалась в образцовом порядке. В этот тихий вечер, когда мы проходили совсем близко от нее, она казалась воплощением кокетливого уюта. Встреча произошла близ Мыса, – я говорю, конечно, о мысе Доброй Надежды, которому открывший его португалец дал когда-то название «мыс Бурь». И потому ли, что о бурях не следует поминать в море, где они бывают так часто, а о своих «добрых надеждах» люди боятся говорить, – но мыс этот стал безымянным, просто Мысом. Второй великий мыс почему-то редко, почти никогда не называют мысом. Моряки говорят «рейс вокруг Горна», «мы обогнули Горн», «нас отчаянно трепало за Горном» и так далее, но очень редко скажет моряк «мыс Горн» – и не без основания, так как мыс Горн столько же остров, сколько мыс. А мыс Луин, третий в мире по силе штормов, обычно называют его полным именем – как бы в виде компенсации за отведенное ему второстепенное место. Таковы три мыса, которые бывают свидетелями страшных бурь.
Итак, маленькая бригантина огибала мыс Доброй Надежды. Быть может, она шла из Порт-Елизаветы в восточной части Лондона – кто ее знает. Это было много лет назад, но я отлично помню, как капитан нашего клипера, указав на нее кивком головы, сказал:
– Подумайте, каково путешествовать вокруг света в такой посудинке!
Капитан наш с юности плавал все на больших океанских судах, и большие размеры судна как бы входили в его представление о море. Может быть, он в эту минуту бессознательно представил себе маленькое суденышко такой же величины, как его каюта, среди бунтующего океана. Я ничего не спросил. Молодому штурману, каким я был тогда, капитан прелестной бригантины (он сидел верхом на раскладном полотняном стуле, уткнув подбородок в скрещенные на перилах руки), вероятно, казался каким-то царьком. Мы прошли мимо бригантины на таком расстоянии, на каком слышен человеческий голос, но не окликнули ее, и прочли название, которое можно было разобрать невооруженным глазом.
Будь это несколько лет спустя, я, младший штурман, слышавший сказанное вполголоса, почти невольно вырвавшееся замечание капитана, мог бы возразить ему, что моряк, всю жизнь ходивший в море на больших судах, тем не менее способен испытывать своеобразное наслаждение, плавая на такой, по нашему тогдашнему представлению, маленькой бригантине. Вероятно, капитан меня бы не понял. Он бы резко ответил: «Ну, нет, мне подавайте размеры!» – как сказал при мне другой капитан, когда кто-то восхвалял подвижность маленьких судов. Замечание это объяснялось не манией величия, не соображением о престиже командира большого судна, – нет, капитан продолжал с презрением:
– Уверяю вас, на маленьком паруснике вас в плохую погоду может вышвырнуть с койки прямо в море.
Не знаю… Я припоминаю несколько штормовых ночей именно на большомсудне, когда нас не вышвырнуло с коек в море только потому, что мы и не пытались на них ложиться: слишком мы были измучены и безнадежно настроены, тогда делать такие попытки. Уловка, к которой мы прибегали, – вывалить постель на мокрый пол каюты и лечь – тоже доставляла мало удовольствия, так как и тут не удавалось улежать на месте и хоть секунду поспать.
А смотреть, как маленькое суденышко храбро несется среди огромного океана, – большое наслаждение. Этого не поймет лишь тот, чья душа остается на берегу.
Я хорошо помню, как мы где-то на пути между островами Св. Павла, Амстердамом и мысом Отуэй на австралийском побережье, в течение трех дней заставляли маленький четырехсоттонный барк идти вперед при шторме. Шторм был жестокий и долгий, над зеленым морем нависли серые тучи, погода была верная, что и говорить, но все-таки, с точки зрения моряка, терпимая. Барк под двумя нижними марселями и фоком на первых рифах несся, словно наперегонки с высокими волнами, которые никак не хотели улечься. Торжественно гремящие водяные валы с белыми гребнями настигали барк сзади, обгоняли его яростно кипя пеной вровень с фальшбортом, и с ревом и свистом уносились вперед. А маленькое судно, ныряя утлегарью в бурлящую пену, все мчалось и мчалось в стеклянном глубоком ущелье между двумя грядами водяных гор, закрывавшими горизонт. Так пленительны были в нем его дерзкая отвага и ловкость, неизменная остойчивость, сочетание мужества и выносливости, что я с восторгом следил за его ходом все эти три незабываемых дня. Мой помощник, не менее восхищенный, твердил, что наш барк «знаменито пробивает себе путь».
То был один из тех штормов, которые не раз вспоминаются в последующие годы, радуя своей гордой суровостью, – так вспоминаешь с удовольствием благородные черты незнакомца, с которым когда-то скрестил шпаги в рыцарском поединке и никогда больше не встречался. Штормы имеют каждый свой характер. Их отличаешь по чувствам, которые они в тебе вызывают. Одни действуют угнетающе, нагоняют уныние, другие, свирепые и сверхъестественно жуткие, пугают, как вампиры, готовые высосать из вас всю силу, третьи поражают каким-то зловещим великолепием. О некоторых думаешь без капли почтения, вспоминаешь о них как о злобных диких кошках, которые рвали когтями твои внутренности. Иные суровы, как божья кара. А было в моей жизни и два-три таких шторма, которые поднимаются теперь из глубины прошлого, как закутанные таинственные фигуры, грозные и зловещие. Во время каждой бури бывает один характерный момент, на котором как бы сосредоточиваются все наши переживания. Так, например, я помню один рассвет, четыре часа утра, среди нестройного рева черных и белых шквалов. Я вышел на палубу принять вахту, и вдруг мгновенно у меня возникла уверенность, что судно не продержится и часа в этом беснующемся океане.
Хотел бы я знать, что сталось с теми матросами, которые тогда молча стояли рядом (говорить было бесполезно, не слышно было собственного голоса) и разделяли, вероятно, мои предчувствия. Писать об этом – участь, может быть, не такая уж завидная… Но дело в том, что впечатления той ночи как бы суммируют в моей памяти множество других дней плавания в отчаянно опасную погоду. По причинам, о которых нет надобности здесь распространяться, мы находились тогда в близком соседстве от Кергелена. И поныне, стоит мне раскрыть атлас и поглядеть на несколько точек на карте Южного океана, как передо мной, словно запечатленная на бумаге, встает разъяренная физиономия пережитого там шторма.
А вот и другой такой шторм, но он почему-то вызывает в памяти только одного молчавшего человека. А между тем и тогда шума было достаточно – грохот стоял прямо-таки ужасающий. Эта буря настигла наше судно сразу, как pampero, – ветер, который поднимается совершенно неожиданно. Раньше чем мы успели сообразить, что надвигается, все поставленные нами паруса лопнули. Те, что были на рифах, развернулись, снасти летали в воздухе, море шипело – какое это было жуткое шипение! – ветер выл, судно легло набок, так что половина команды уже плавала в воде, а другая половина отчаянно цеплялась за все, что было под рукой. Пострадали все люди, находившиеся на палубе и с подветренной, и с наветренной стороны. О криках нечего и говорить, они составляли только каплю в океане шума. Однако, несмотря на все это, в моей памяти картина этого шторма как будто сосредоточилась целиком на одной детали – невысоком невзрачном мужчине без шапки, с землисто-бледным неподвижным лицом. Капитан Джонс – назовем его так – был застигнут врасплох. При первых признаках совершенно непредвиденного им шторма он отдал только два распоряжения, затем сознание огромности сделанного им промаха, видимо, совсем его пришибло. Мы делали все необходимое и возможное. Судно тоже вело себя молодцом. Конечно, нам не скоро удалось передохнуть от бешеных мучительных усилий. Но среди всеобщего волнения и ужаса, среди шума и грохота мы все время помнили об этом невысоком человеке на юте, неподвижном и безмолвном. Его часто закрывала от нас завеса водяной пыли. Когда мы, офицеры, наконец, поднялись на ют, капитан словно очнулся от столбняка и крикнул нам сквозь шум ветра: «Попробуйте пустить в ход насосы». Затем он исчез.
Надо ли говорить, что судно тогда не погибло (его поглотило море позднее, в одну из самых мрачных ночей, какие я могу припомнить), да и, по правде сказать, опасность вряд ли была так велика. Ночь была, конечно, шумная и в высшей степени беспокойная, а между тем, вспоминая ее, я думаю только о глубоком молчании, которое вечно.
XXIV
Ибо у штормового ветра голос мощный, – но, в сущности, он ничего не говорит. И только человек иногда случайной меткой фразой охарактеризует стихийные страсти своего врага, как бы говоря за него. Мне вспоминается еще один шторм на море: неутихающий, глухой рев ветра, лунный свет… и одна произнесенная вслух фраза.
Было это за тем мысом, который в обычном разговоре лишают его титула, так же как мыс Доброй Надежды лишают его названия: за мысом Горн. Я не знаю более страшной картины необузданности и безумия, чем шторм в светлую лунную ночь в удаленных от экватора широтах.
Судно наше остановилось и беспрерывно кланялось громадным сверкающим волнам. Все оно – от палубы до клотиков – блестело от воды. Единственный поставленный парус угольно-черным пятном выделялся в мрачной синеве воздуха. Я был тогда еще юношей и страдал от утомительной работы, холода и плохого качества своего клеенчатого костюма, во все швы которого проникала вода. Я жаждал общества людей и, уйдя с юта, стал рядом с боцманом (которого я не любил) на сравнительно сухом месте, где вода доходила нам в худшем случае до колен. Над головой непрерывно, с шумом, похожим на взрывы, проносился ветер, оправдывая матросское выражение о нем: «ревет, как пушка». Из одной только потребности общения с другим человеком я, стоя так близко от боцмана, сказал (вернее прокричал) ему:
– А ветер здоровый, боцман!
– Да. Если он еще хоть капельку усилится, все у нас начнет летать! Пока все на местах, беспокоиться нечего, а как полетит, – ну, тогда дело дрянь!
Нотка страха в его голосе и правильность этого замечания, услышанного столько лет назад от человека, мне антипатичного, наложили какой-то особый отпечаток на воспоминание об этом шторме. Выражение глаз товарищей, перешептывания в наиболее защищенном от ветра уголке, где тесной кучкой жмутся вахтенные, их выразительные вздохи при взгляде на небо, стоны усталости, жесты раздражения при каждом сильном порыве ветра – все это неотъемлемые детали в общей картине шторма.
В оливковом оттенке туч, несущих ураган, есть что-то особенно жуткое. Растрепанные водоросли чернильного цвета, гонимые норд-вестом, несутся с головокружительной быстротой, которая дает представление о движении невидимого воздуха. Когда поднимается резкий юго-западный ветер, нас пугает тесно сомкнутый вокруг горизонт, низко нависшее серое небо – мир кажется темницей, где нет покоя ни телу, ни душе. А есть еще черные штормы, белые штормы, грозовые штормы, неожиданные порывы ветра без единого предвестника в небе. И ни один шторм не похож на другой.
Бури на море бесконечно разнообразны, но если не считать тот особенный, страшный и таинственный стон, который слышится нам иногда в реве урагана, тот незабываемый звук, словно заунывная жалоба, исторгнутая из души вселенной, то в сущности только голос человека придает нечто одушевленное шторму.








