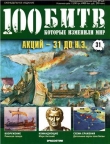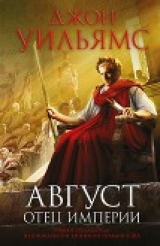
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
VI
Письмо: Марк Туллий Цицерон – Марку Юнию Бруту (44 год до Р. Х.)
Очень коротко. Он с нами – я в этом вполне уверен. Он поехал в Рим, где говорил с народом, но лишь затем, чтобы заявить свои права на наследство. Насколько мне известно, он не отзывался плохо ни о тебе, ни о Кассии, ни об остальных. Он восхваляет Цезаря в самых трогательных выражениях и дает всем понять, что принимает наследство из чувства долга, а имя – из уважения и что намерен вести уединенную частную жизнь, как только покончит с нынешним делом. Можно ли ему верить? Я скажу, должно! Я продолжу обхаживать его, когда вернусь в Рим, ибо его имя нам еще пригодится.
VII
Письмо: Марк Антоний – Гаю Сентию Таву, военному коменданту Македонии (44 год до Р. Х.)
Сентий, старый потаскун, тебе шлет свои приветствия Антоний! Расскажу об очередном примере тех невообразимых пустяков, с которыми мне приходится каждый день сталкиваться с тех пор, как я принял бремя правления на свои плечи. Не знаю, как Цезарь умудрялся выносить все это день за днем – впрочем, он был странный человек.
Вчера утром ко мне пришел Октавий, этот маленький ублюдок с лицом цвета сыворотки. Всю прошлую неделю он провел в Риме, исполняя роль безутешной вдовы, только что потерявшей мужа, называя себя при этом Цезарем и болтая другие подобные глупости. Похоже, Гней и Луций, два моих безмозглых братца, не посоветовавшись со мной, дали ему разрешение обратиться к народу с форума при условии, что в своей речи он не будет касаться политики. Ты когда–нибудь слышал о речи, в которой нет ничего о политике? Во всяком случае, он не пытался подстрекать народ, так что малый не такой уж дурак. Не сомневаюсь, он заработал сочувствие толпы, но это, пожалуй, и все.
И все–таки он если и не круглый, но все–таки дурак, ибо напускает на себя слишком высокомерный для сопливого мальчишки вид, особенно если учесть, что дед его был мошенник, а новое громкое имя он просто–напросто себе присвоил. Он явился ко мне поздно утром, без приглашения, в то время как с полдюжины людей сидели ждали приема, в сопровождении свиты из трех человек, будто какой магистрат со своими ликторами. Он, наверное, полагал, что я все брошу и тут же приму его – как бы не так! Я дал указание своему письмоводителю сказать ему ждать своей очереди, при этом я наполовину ожидал, наполовину хотел, чтобы он убрался восвояси, но он и не подумал. Я продержал его в приемной почти все утро, пока наконец не соизволил принять.
Должен признаться, что, несмотря на все мои игры с ним, он был мне любопытен. Я всего–то видел его пару раз до этого: один раз, шесть или семь лет назад, когда ему было лет двенадцать и Цезарь разрешил ему прочесть панегирик на похоронах его бабки Юлии, и другой – двумя годами позже, во время африканского триумфа Цезаря, когда я ехал вместе с диктатором на колеснице, а мальчик следовал за нами. В свое время Цезарь много говорил мне о нем, и я было подумал, не упустил ли я чего.
Но, увидев его, понял, что нет. Никак не возьму в толк, как это «великий» Цезарь мог оставить этому мальчишке свое имя и состояние. Если бы завещание попало мне в руки, а не было бы отправлено в храм Девственных весталок, клянусь богами, я бы рискнул сам внести в него поправки.
Думаю, меня это не так бы вывело из себя, если бы он оставил свои высокомерные ужимки в приемной и был как все. Но нет – он вошел, эскортируемый своими друзьями, которых церемонно представил, будто мне было до них дело. Он обратился ко мне с подобающей почтительностью, а затем учтиво замолк, ожидая ответа. Я же лишь смерил его долгим взглядом и промолчал. Следует отдать ему должное: его трудно вывести из себя. Он оставался невозмутим и тоже молчал; не могу даже сказать, рассердился ли он на то, что его заставили так долго ждать. Наконец я произнес:
– Ладно, чего тебе нужно?
Он и глазом не моргнул.
– Я пришел, чтобы засвидетельствовать тебе, другу моего отца, свое почтение и узнать, что следует предпринять, чтобы уладить дела по завещанию, – сказал он.
– Твой дядя, – ответил я, – оставил дела в большом беспорядке. Я бы рекомендовал тебе держаться подальше от Рима, пока все не уладится.
Он ничего на это не сказал. Признаюсь, Сентий, в присутствии этого мальчишки мне почему–то становится не по себе и я с трудом сохраняю спокойствие.
– Я бы также советовал тебе воздержаться от столь частого упоминания его имени, будто оно твое собственное. Как тебе хорошо известно, оно тебе не принадлежит и не будет принадлежать, пока факт усыновления не будет утвержден сенатом, – заметил я.
Он согласно кивнул:
– Благодарю тебя за совет. Я принял имя из уважения, а не из честолюбия. Но оставим имя и даже мою часть наследства в стороне – в завещании еще говорится о дарах, обещанных Цезарем народу. Я полагаю, что при царящих ныне настроениях…
– Мальчик, – рассмеялся я, – то был мой последний совет на сегодня. Почему бы тебе не отправиться обратно в Аполлонию к своим манускриптам? Там тебе будет гораздо спокойнее. А я тем временем позабочусь о делах твоего дяди, когда и как я считаю нужным.
Его ничем не проймешь! Он лишь улыбнулся холодной полуулыбкой и заявил:
– Я счастлив узнать, что дела моего дяди в таких умелых руках.
Я встал из–за стола и, потрепав его по плечу, сказал:
– Вот и хорошо. А теперь, ребятишки, по домам – у меня еще много дел на сегодня.
На этом наша встреча и закончилась. Я полагаю, он знает свое место и не замахивается на большее. Он всего лишь напыщенный, но весьма заурядный малец, ничего собой не представляющий, если, конечно, не получит право на то самое имя. Это, безусловно, мало что ему даст, хотя сам факт и раздражает.
Впрочем, хватит об этом. Приезжай в Рим – клянусь, я ни словом не обмолвлюсь о политике. Мы поедем к Амелии на представление, что дается в ее доме (кстати, особым распоряжением консула, имя которого я не могу здесь раскрыть, актрисам, занятым в нем, позволено выступать без обременяющих одеяний); будет вдоволь вина, и мы посостязаемся среди девушек в мужской силе.
И все же мне не терпится, чтобы этот маленький ублюдок наконец убрался из Рима и забрал с собой своих друзей.
VIII
Квинт Сальвидиен Руф: записи в дневнике (44 год до Р. Х.)
Мы виделись с Антонием. Дурные предчувствия; грандиозность стоящей перед нами задачи. Он определенно против нас; ни перед чем не остановится, чтобы помешать нам; умен; дал почувствовать нашу молодость.
При всем при том производит впечатление. Тщеславен и не скрывает этого. Белоснежная тога (на ее фоне особенно выделяются загорелые мускулистые руки) с пурпурной каймой, искусно расшитой золотом; широкий в кости; ростом и сложением похож на Агриппу, но движения скорее как у кошки, чем как у быка; смуглое красивое лицо, испещренное мелкими белыми шрамами; тонкий нос, как у выходца с юга, однажды сломанный; полные губы, чуть приподнятые в уголках; большие карие глаза, легко вспыхивающие гневом; громоподобный голос, способный ошеломить как друга, так и врага.
Меценат и Агриппа – каждый по–своему – вне себя. Меценат, расчетливый и хладнокровный (в минуты серьезности он забывает свое жеманство, и даже тело его будто наливается свинцом), не видит пути к примирению, да и не хочет его. Агриппа, обычно такой уравновешенный, весь дрожит от Ярости, побагровев лицом и сжав кулаки. Один Октавий (мы теперь зовем его Цезарем, когда не одни) как–то странно весел и, кажется, совсем не сердится. Он улыбается, оживленно болтает и даже смеется – впервые за все время со дня смерти Цезаря. В самый трудный момент он остается безмятежен. Не так ли вел себя его дядя в минуты опасности? Про него ходят разные слухи.
Мы обычно принимаем ванны в одной из общественных купален, но сегодня идем домой к Октавию; он объясняет, что, прежде чем обсуждать события прошедшего дня с кем–нибудь из посторонних, хотел бы поговорить с нами. Некоторое время мы играем в мяч (замечу: Агриппа и Меценат так распалены, что играют из рук вон плохо – то роняют мяч, то бросают его как попало и т. п. Октавий все так же невозмутим; он часто смеется и играет с большим умением и изяществом; я заражаюсь его настроением, и мы кружимся в танце вокруг Агриппы и Мецената, пока они уже сами не знают, на кого больше сердятся: на нас или Антония). Наконец Меценат отбрасывает мяч в сторону и кричит на Октавия:
– Дурак! Неужели ты не понимаешь, что нам грозит?
Октавий перестает скакать и пытается состроить сокрушенную мину, но не выдерживает и снова смеется, затем подходит к нему и Агриппе, кладет руки им на плечи и говорит:
– Простите меня, друзья мои, но я никак не могу забыть, какую шутку мы разыграли с Антонием сегодня утром.
– Не вижу ничего веселого. Он вовсе не шутил, – возражает Агриппа.
Октавий, улыбаясь:
– Верно, он говорил вполне серьезно, но неужели ты не заметил, что он нас боится? Он боится нас больше, чем мы его, и сам об этом не знает. И даже не догадывается! Это–то и смешно.
Я согласно киваю головой, но Агриппа и Меценат смотрят на Октавия непонимающим взглядом. Долгая пауза. Наконец Меценат кивает, черты его смягчаются; он с обычным своим жеманством пожимает плечами и небрежно замечает:
– Ну что ж, если ты хочешь, как жрец, проницать души людские… – и он снова пожимает плечами.
Мы отправляемся в купальню; потом обед, и после этого поговорим.
Все согласны: никаких опрометчивых поступков. Говоря об Антонии, имеем в виду, что он преграда на нашем пути. Агриппа считает, что вся власть у него. Но как до нее добраться? У нас нет войска, чтобы силой отнять ее, даже если бы мы и решились на это. Мы Должны каким–то образом заставить его признать нас, и это станет нашим первым скромным шагом к победе. Сейчас слишком опасно собирать под наши знамена армию, даже только ради мести; позиция Антония неясна: хочет ли он, как и мы, отомстить убийцам или жаждет одной лишь власти? Очень возможно, что он сам был среди заговорщиков, ибо поддержал в сенате эдикт, дарующий убийцам прощение, и отдал Бруту в управление провинцию.
Меценат полагает, что Антоний – человек могущественный и готовый к решительным действиям, но неспособный определить их конечную цель. «Он замышляет, а не планирует» – так говорит Меценат. Пока ему не будет противостоять реальный противник, он не сделает ни шагу. Но надо заставить его сделать шаг, иначе мы окажемся в тупике. Вопрос: как понудить его к действию, не дав обнаружить его собственного страха перед нами?
Я выступаю несколько неуверенно. Не кажусь ли им слишком робким? Я говорю, что Антоний преследует те же цели, что и мы; у него власть, поддержка армии и т. д. и т. п. Друг Цезаря. Бесцеремонность в обращении с нами непростительна, но понятна. Выждать. Убедить его в нашей преданности. Предложить свои услуги. Быть с ним рядом, склоняя его к использованию своей власти ради тех целей, о которых мы говорили.
Октавий, медленно:
– Я ему не верю, ибо он сам не во всем себе доверяет. Присоединившись к нему, мы слишком тесно привяжем себя к его колеснице; и никто – ни мы, ни Антоний, – никто точно не знает, куда она несет его. Если у нас будут развязаны руки, мы можем заставить его прийти к нам.
Еще обсуждение; наконец возникает план: Октавий будет говорить с народом – то здесь, то там; никаких больших скоплений; никаких официальных речей.
Октавий:
– Антоний убедил себя, что нас легко обвести вокруг пальца, и нам надо всеми силами поддерживать в нем эту иллюзию.
Поэтому мы воздержимся от каких бы то ни было подстрекательских выступлений, но при этом будем громко выражать недоумение, почему убийцы Цезаря до сих пор не наказаны, почему его дар народу так и не передан и как мог Рим так быстро все забыть.
За этим последует официальное обращение к народу, в котором Октавий объявит, что Антоний не может (или не хочет?) выдать обещанные им деньги и что Октавий самолично, из собственного кармана, выплатит то, что им причитается по воле Цезаря.
Обсуждение продолжается. Агриппа говорит, что Октавий истощит свое состояние, если Антоний не выделит деньги, и что, если понадобится собрать армию, нам не на что будет ее содержать. На это Октавий отвечает, что без поддержки народа никакая армия не поможет и что мы приобретем власть, не показав, что хотим власти, и тогда Антоний так или иначе вынужден будет сделать первый шаг.
Итак, решено: Меценат подготовит речь, Октавий доработает ее, и завтра же и начнем.
– И помни, друг мой, это должна быть обычная речь, а не поэма. Скорее всего, мне придется изрядно попотеть над твоей несравненно запутанной прозой, – говорит Октавий Меценату.
Они ошибаются: Марк Антоний никого не боится.
IX
Письмо: Гай Цильний Меценат – Титу Ливию (13 год до Р. Х.)
Несколько лет назад мой друг Гораций объяснял мне, как он пишет стихи. Мы говорили вполне серьезно, сидя за бокалом вина, и мне кажется, его объяснение тогда было более точным, чем в недавно опубликованных «Письмах к Пизону» [35] – поэме об искусстве поэзии, от которой я, честно признаться, не в восторге.
– Я решаюсь взяться за стихи, – говорил он, – только тогда, когда твердо уверен, что во мне проснулось желание творить, но при этом не спешу браться за перо, а выжидаю, пока это чувство во мне не окрепнет и не обернется решимостью; затем я ставлю перед собой как можно более простую цель, к коей направлено это чувство, хотя зачастую и сам не знаю пути, который оно изберет. После этого я сажусь за сочинение, используя все имеющиеся в моем распоряжении средства, неважно какие: заимствую у других, если надо, изобретаю, если есть в том необходимость. Я пользуюсь языком, который знаю, и не выхожу за его рамки. И вот что удивительно: в конце я прихожу совсем не к тому результату, какой задумал вначале, ибо каждое новое решение открывает новые возможности и каждая новая возможность порождает новые трудности, требующие решений, и т. д. и т. п. В глубине души поэт никогда не знает, куда влечет его муза.
Я вспомнил этот разговор нынче утром, когда опять сел за письмо, чтобы рассказать тебе о тех далеких днях, и мне пришло в голову, что Горациево описание процесса создания стихов носит поразительное сходство с нашими попытками сотворить собственную судьбу в этом мире (хотя если бы Гораций мог услышать меня и вспомнил бы, о чем он тогда говорил, то нахмурился бы сурово и сказал, что все это чепуха, что сначала выбирается тема, затем она должным образом раскрывается посредством противопоставления одной метафоры другой, данного метра – данному обороту речи и т. д. и т. п.).
Наши чувства – или, вернее, чувства Октавия, которые захватили нас, как порой захватывают стихи, – были вызваны потрясением от убийства Юлия Цезаря, события, которое все более и более казалось главной причиной распада мира; и мы поставили своей целью отомстить убийцам во имя чести нашей и всего государства. Все было просто и понятно или, вернее, представлялось таковым. Но боги, правящие миром, как и боги поэзии, поистине мудры, ибо часто отвращают нас от цели, к которой мы в слепоте своей стремимся!
Мой дорогой Ливий, не хочу читать тебе нравоучений, но должен напомнить – ты прибыл в Рим уже после того, как император осуществил предначертанное ему судьбой и стал повелителем мира. Поэтому позволь мне рассказать тебе о тех временах, чтобы теперь, через столько лет, ты мог лучше воссоздать картину хаоса, царившего тогда в Риме.
Цезарь умер – «по воле народа», как говорили его убийцы, однако при этом укрывались на Капитолии от того самого народа, который подвигнул их на это. Двумя днями позже сенат выразил благодарность убийцам и тут же, единым духом, одобрил и принял те самые законы, из–за которых он и был убит. При всем ужасе их деяния заговорщики хотя бы имели достаточно мужества и решимости, чтобы пойти на убийство, но после этого первого шага разбежались, как истеричные женщины. Антоний, будучи другом Цезаря, поднял народ против убийц, однако в ночь перед мартовскими идами, то есть перед самым убийством, устроил для них званый обед и был замечен шептавшимся о чем–то с одним из них (Требонием) за мгновение перед покушением, а спустя два дня опять пригласил их на обед! Он снова подстрекал чернь к поджогам и грабежам в знак протеста против убийства, а позже не возражал против ареста и казни смутьянов за это беззаконие. Он приказал публично огласить волю Цезаря, а потом всеми силами противился ее исполнению.
Самое главное – мы знали, что Антонию доверять нельзя, и видели в нем грозного противника, но не из–за его хитрости и таланта полководца, а из–за его безрассудства и бездумной силы. Ибо, несмотря на сентиментальное чувство уважения, которое питают к нему некоторые из нынешних молодых, он не был особенно умен, не видел перед собой реальной цели, повинуясь лишь сиюминутному капризу своей воли, и не отличался особой храбростью – он не сумел даже лишить себя жизни как подобает, ибо оттягивал решающий момент до последнего, пока не осталось ни малейшей надежды на спасение, и посему совершил самоубийство слишком поздно, чтобы такую смерть можно было считать достойным уходом из жизни.
Как противостоять врагу, который совершенно безрассуден и непредсказуем и тем не менее благодаря какой–то животной силе и стечению обстоятельств приобрел пугающую по своим размерам власть? (Оглядываясь назад, кажется странным, что мы считали нашим основным противником Антония, а не сенат, хотя наши наиболее очевидные враги были именно там. Я думаю, мы инстинктивно чувствовали, что если даже такой путаник, как Антоний, умеет с ними справиться, то и у нас особых хлопот с ними не будет, когда подойдет время.) Я до сих пор этого не знаю, но зато знаю, как поступили мы, так что позволь мне рассказать тебе об этом.
Итак, мы побывали у Антония, который весьма грубо с нами обошелся. Он был самым влиятельным человеком в Риме – у нас же не было ничего, кроме имени. Поэтому мы решили, что первым делом надо завоевать его признание. Предложением дружбы мы этого не добились, оставалось прибегнуть к вражде.
Мы начали с разговоров – как среди врагов Антония, так и среди его друзей. Или, вернее сказать, мы стали задавать вопросы с самым невинным видом, будто пытаясь разобраться, что происходит: когда, по их мнению, Антоний собирается обратиться к завещанию Цезаря? что стало с тираноубийцами Брутом, Кассием и другими? перешел ли Антоний на сторону республиканцев или по–прежнему остается верен Цезаревой партии народа? И все в таком духе. При этом мы старались, чтобы слухи об этих разговорах дошли до ушей Антония.
Поначалу он никак не реагировал. Мы не унимались. Наконец до нас дошли сведения о его раздражении, рассказы о том, какими оскорблениями он осыпал Октавия: слухи о его обвинениях в адрес Октавия передавались из уст в уста. А затем мы сделали ход, который должен был толкнуть его на открытый бой.
Октавий не без моей помощи подготовил речь (у меня, возможно, осталась запись этой речи среди моих бумаг; если мой письмоводитель найдет ее, я тут же вышлю тебе копию), в которой он с огорчением извещал народ, что вопреки завещанию Цезаря Антоний не желает передать ему состояние диктатора и поэтому он, Октавий, приняв имя Цезаря, исполнит волю покойного и выплатит обещанные народу деньги из собственного кармана. Октавий выступил; ничего подстрекательского в его речи не было, лишь печаль, сожаление и простодушное недоумение.
Антоний тут же сломя голову бросился в атаку, на что мы и рассчитывали: он немедленно внес в сенат проект закона, препятствующий формальному усыновлению Октавия; вступил в союз с Долабеллой, в то время делившим с ним консульство и близким к заговорщикам; заручился поддержкой Марка Эмилия Лепида, который сразу же после покушения бежал из Рима к своему легиону в Галлию; и наконец, стал открыто угрожать Октавию смертью.
Ты должен понимать, в каком трудном положении оказались многие из солдат и граждан Рима – во всяком случае, так им тогда казалось: люди при деньгах и власти почти все без исключения были против Юлия Цезаря, а значит, и против Октавия; солдаты и граждане среднего достатка почти все без исключения любили Юлия Цезаря и потому склонялись на сторону Октавия, зная при этом, что Антоний был другом Цезаря. И вот теперь они оказались свидетелями того, что по их представлению было саморазрушительным противоборством между двумя людьми, которые единственные могли выступить на их стороне против богачей и аристократов.
Так случилось, что Агриппа, который лучше любого из нас знал язык, образ мыслей и нужды солдат, встретился с трибунами, центурионами и простыми легионерами, в свое время воевавшими под началом Цезаря и любившими его, и просил их использовать свое положение и известную преданность делу, дабы умерить бессмысленные разногласия, возникшие между Марком Антонием и Октавием (которого он при них называл Цезарем). Заверенные в любви к ним Октавия и убежденные в том, что Антоний не сочтет их усилия за мятеж или измену, они стали действовать.
Сначала они (всего несколько сотен человек, насколько мне известно) с нашей подсказки отправились маршем к дому Октавия на холме. Было очень важно, чтобы они первым делом пошли именно туда, как ты поймешь позже. Октавий прикинулся удивленным, выслушал их призывы протянуть руку дружбы Антонию и обратился к ним с небольшой речью, в которой простил Антонию его оскорбления и согласился навести мосты. Как ты уже догадался, мы позаботились о том, чтобы последнему стало известно о предстоящем визите. Если бы они появились у его дома без предупреждения, он мог бы неверно истолковать их намерения и принять это за ответ на его угрозы Октавию.
Но он знал, что они теперь направятся к нему; я часто пытался представить себе его гнев и бессилие, когда он дожидался их один в огромном дворце, когда–то принадлежавшем Помпею и присвоенном Антонием после смерти Цезаря. Он знал, что у него нет другого выбора, кроме как терпеливо ждать, и, возможно, именно тогда ему на мгновение приоткрылось его собственное будущее.
По наущению Агриппы ветераны настояли, чтобы Октавий присоединился к ним, что он и сделал, хотя отказался от всяческих почестей и пошел в хвосте делегации. Должен признать, что Антоний держался с достоинством, когда мы вошли к нему во двор. Один из ветеранов приветствовал его; он выступил вперед и вскинул руку в ответном салюте; затем прослушал речь, с которой Октавий уже был знаком, после чего согласился на примирение, но оставался немногословен и несколько угрюм. Потом вперед вышел Октавий и в свою очередь приветствовал его, он ответил ему тем же; ветераны разразились радостными возгласами. Мы задержались ненадолго, но я навсегда запомнил: когда они подошли друг к другу, чтобы обменяться рукопожатиями (а я стоял совсем рядом с ними), я заметил сдержанную полуулыбку признательности на лице Антония.
Это ознаменовало наш первый небольшой шаг к власти, и это было только начало.
Я утомился, дорогой Ливий. Напишу тебе опять, как только позволит здоровье, ибо остается еще много всего, о чем я мог бы тебе рассказать.
P. S. Надеюсь, ты будешь осмотрительно использовать то, что я тебе сообщил.
X
Письмо: Марк Туллий Цицерон – Марку Юнию Бруту (44 год до Р. Х.)
События последних нескольких месяцев приводят меня в отчаяние: Октавий ссорится с Антонием – и у меня появляется надежда; они преодолевают свои разногласия и появляются на публике вместе – и меня охватывает страх; они снова ссорятся, в воздухе носятся слухи о заговорах – и я недоумеваю; и опять они приходят к согласию – и опять нет мне покоя. Что все это значит? Знают ли они сами, что делают? Из–за их постоянных ссор и примирений весь Рим в смятении, и память об убийстве тирана по–прежнему живет в народе. Тем временем сила и популярность Октавия продолжают расти. Ко мне иногда закрадывается сомнение: неужели мы недооценили мальчишку, но я снова и снова убеждаюсь, что это лишь стечение обстоятельств, благодаря которым он представляется значительнее, чем есть на самом деле. Впрочем, не знаю – все так неопределенно.
Я посчитал необходимым выступить против Антония в сенате, хотя это и чревато для меня последствиями. В частных беседах Октавий меня полностью поддерживает, но публично об этом предпочитает не говорить. В любом случае Антоний теперь знает, что я его непримиримый противник. Он угрожал мне всяческими карами, так что я не рискнул оставить свой второй адрес в сенате; впрочем, он все равно будет разглашен и станет известен всему миру.
XI
Письмо: Марк Туллий Цицерон – Марку Юнию Бруту (октябрь, 44 год до Р. Х.)
Безумие, чистое безумие! Антоний поднял македонские легионы и выехал к ним в Брундизий; Октавий составляет списки уволенных в запас ветеранов Цезаря в Кампании. Антоний намеревается двинуться в Галлию против нашего друга Децима, как бы для того, чтобы отомстить за убийство, а на самом деле чтобы укрепить свою власть за счет галльских легионов. Ходят слухи, что он собирается пройти с войсками через Рим, дабы показать свою силу Октавию. Неужели в Италии снова вспыхнет война? Можем ли мы вверить наше дело в руки юнца, да еще с таким именем, как Цезарь (так он себя сам называет)? О Брут! Где же ты теперь, когда Рим так нуждается в тебе?
XII
Приказ консула Гаю Сентию Таву, военному коменданту Македонии в Аполлонии, а также письмо (август, 44 год до Р. Х.)
Данной мне властью я, Марк Антоний, консул сената Рима, наместник в Македонии, понтифик школы луперкалий и главнокомандующий войсками в Македонии, приказываю тебе, Гаю Сентию Таву, отдать распоряжение старшим командирам македонских легионов подготовить свои подразделения для высадки в Брундизии, каковую предпринять без промедления, после чего ожидать прибытия верховного командующего.
Сентий, дальнейшее очень важно: он провел часть прошлого года в Аполлонии; не исключено, что у него есть друзья среди трибунов. Расследуй это обстоятельство самым тщательным образом. Трибунов, расположенных к нему, немедленно отошли из легиона или избавься от них каким–либо другим способом, но сделай это.
XIII
Подметное письмо, распространяемое среди македонских легионов, Брундизий (44 год до Р. Х.)
Сторонники злодейски убитого Цезаря!
Против кого вы идете: против Децима Брута в Галлии или против сына Цезаря в Риме?
Спросите Марка Антония.
Вас собрали, чтобы уничтожить врагов вашего погибшего вождя или чтобы защитить его убийц?
Спросите Марка Антония.
Что мешает выполнить волю покойного Цезаря, согласно которой каждому гражданину Рима завещано по три сотни сестерциев?
Спросите Марка Антония.
Убийцы и заговорщики оставлены на свободе указом сената, одобренного Марком Антонием.
Убийце Гаю Кассию Лонгину даровано наместничество в Сирии – тем же Марком Антонием.
Убийце Марку Юнию Бруту даровано наместничество на Крите – опять же Марком Антонием.
Среди полчища врагов злодейски убитого Цезаря где вы, его друзья?
Сын Цезаря взывает к вам!
XIV
Приказ к исполнению, Брундизий (44 год до Р. Х.)
Кому: Гаю Сентию Таву, военному коменданту Македонии.
От: Марка Антония, главнокомандующего войсками.
На предмет: изменнические действия легионов – четвертого и Марсова.
Ниже поименованные трибуны должны быть доставлены в штаб главнокомандующего к восходу солнца двенадцатого дня месяца ноября:
П. Луций, К. Сервий, С. Портий, М. Флавий, К. Тит, А. Марий.
В тот же час того же дня вышеозначенные изменники должны быть преданы казни через отсечение головы. Кроме того, из каждой из двадцати когорт четвертого и Марсова легионов отобрать через посредство жребия по пятнадцать солдат с командирами и казнить тем же способом.
Всем командирам и личному составу приказано присутствовать при исполнении приговора.
XV
Акты Цезаря Августа (14 год после Р. Х.)
В возрасте девятнадцати лет по собственной воле и за свой счет я собрал армию, с помощью которой вернул свободу республике, страдавшей от жестоких междоусобиц.