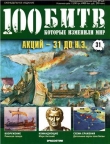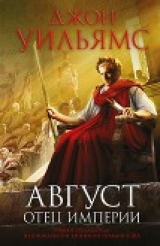
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)
Глава 4
I
Письмо: Николай Дамаскин – Гаю Цильнию Меценату из Иерусалима (14 год до Р. Х.)
За последние три года в своих письмах к тебе я не раз выражал удивление, почему наш друг Октавий Цезарь настоял на том, чтобы я сопровождал Марка Агриппу и его жену в их длительной поездке по Востоку, ибо мне всегда было ясно, что самого факта моего пребывания на службе у Ирода было явно недостаточно, чтобы обосновать столь долгое мое отсутствие в Риме. Только теперь я мало–помалу начинаю понимать, чем это было вызвано. Ты наверняка недоумеваешь, отчего я пишу тебе, зная, что ты удалился от дел, вместо того чтобы обратиться к самому Октавию Цезарю. Но если ты соизволишь меня выслушать, то постепенно поймешь, чем я руководствовался.
Я пишу тебе из Иерусалима, куда несколько месяцев назад Марк Агриппа и Юлия прибыли вместе со мной по приглашению Ирода, предложившего нам остановиться передохнуть в его столице. Однако пребывание Агриппы в Иерусалиме было недолгим, ибо не успели мы туда приехать, как до него дошли вести о волнениях в Бое–поре: старый царь, преданный Риму, умер, и его молодая жена Динамис, возомнив себя не меньше чем северной Клеопатрой (но, похоже, забыв о ее печальной судьбе), вступила в союз с варваром по имени Скрибоний и, не считаясь с интересами Рима, объявила себя и своего любовника правителями царства ее покойного супруга. Более того, говорят, что она, подстрекаемая вышеуказанным Скрибонием, была сама замешана в смерти мужа. Одним словом, Марк Агриппа, хорошо понимая, что это царство – последний бастион на пути северных варваров, решил тут же выехать на место и подавить мятеж, чем он в настоящий момент и занимается с помощью судов и войск, предоставленных ему Иродом.
Естественно, Юлия не могла поехать с ним; впрочем, она и сама не выразила особого желания, но в то же время не захотела принять приглашение Ирода дождаться возвращения мужа в Иерусалиме, как и не выказала ни малейшего намерения вернуться обратно в Рим. Вместо этого, несмотря на наши призывы, она собрала свою свиту и сразу после отъезда мужа выехала в Грецию и на северные острова, откуда они с Агриппой только что прибыли. До меня дошли тревожные вести из тех краев, где она сейчас находится, и именно это заставило меня взяться за перо.
В последние два года, во время их неспешного путешествия на юг среди островов Эгейского моря и прибрежных городов Греции и Азии, оба они – и Марк Агриппа, и Юлия – получали почести, достойные представителей Октавия Цезаря, императора Рима, но в особенности Юлия – как дочь императора, она заслужила такое восторженное поклонение, на которое способны лишь островные и восточные греки.
Это поклонение началось довольно обычным порядком: на острове Андрос в честь прибытия Юлии было установлено ее скульптурное изображение; жители Метилен, что на острове Лесбос, прослышав о приеме, оказанном ей на Андросе, соорудили еще более внушительную статую богини Афродиты с ликом Юлии, после чего по мере того, как на островах и в прибрежных городах узнавали о приближении Юлии и Агриппы, почести становились все более и более непомерными, пока наконец Юлию не признали за саму Афродиту, сошедшую на землю, и не стали (по крайней мере, чисто ритуально) ей поклоняться.
Я уверен, ты со мной согласишься, что во всех этих крайностях, какими бы нелепыми они ни казались цивилизованному человеку, ничего такого ужасного нет, ибо грекам хватило ума смягчить общий тон своих церемоний, чтобы никого ненароком не обидеть и сделать их почти похожими на римские.
Но в разгар этих событий нечто необычное стало происходить с Юлией, к которой, как тебе известно, я был весьма привязан. У меня сложилось впечатление, что она как бы вдруг переняла свойства богини, к которой ее ритуально приравняли; она превратилась в некое надменно–бесстрастное существо, как если бы и вправду стала бессмертной.
Во всяком случае, такое у меня о ней сложилось впечатление; и вот только что я получил известия из Азии, которые, как это ни грустно, подтверждают мои опасения.
Согласно полученным мною сведениям, Юлия, проведя целый день в Илии среди руин древней Трои, тем же вечером предприняла попытку пересечь реку Скамандр. По причинам, не совсем сейчас ясным, плот, на котором она находилась, перевернулся, в результате чего и она, и все члены ее свиты оказались в воде, увлекаемые прочь сильным течением. Они были буквально на волосок от гибели. В конце концов Юлии все–таки удалось спастись (с чьей помощью, неизвестно), но в гневе на местных жителей, которых она обвинила в том, что они даже и не пытались прийти ей на помощь, она от имени своего мужа Марка Агриппы наложила на деревню, возле которой это случилось, контрибуцию в сто тысяч драхм, то есть почти по тысяче драхм с человека. Это огромная сумма для бедных селян, многие из которых и за всю свою жизнь не заработают таких денег.
Говорят, что жители деревни, заслышав крики о помощи, высыпали на берег, откуда безучастно наблюдали за происходящим. Я полагаю, что так оно наверняка и было; тем не менее, несмотря на, казалось бы, неопровержимую вину селян, я хочу вступиться за них. Я собираюсь попросить Ирода (который у меня в долгу), чтобы тот уговорил Агриппу освободить провинившихся от уплаты. Я делаю это не из жалости к обитателям деревни, а из опасений за благополучие дома Октавия Цезаря. Ибо Юлия провела тот день в Илии не как простой путешественник, привлеченный развалинами древнего города, и ее неудачная попытка пересечь Скамандр была не просто безобидным возвращением с прогулки.
Выше я упомянул о публичных церемониях – частью религиозных, частью политических и частью светских, – во время которых Юлию вознесли до небес и воссадили на престол Афродиты. Столь подробно останавливаясь на них, я старался отдалить тот момент в моем повествовании, когда мне придется рассказать о другого рода церемонии, уже не публичной, а тайной и оттого мало кому известной и даже пугающей в наш просвещенный век.
Среди восточных греков и на островах в Эгейском море бытует загадочный культ некой богини, имя которой (во всяком случае, для непосвященных) остается неизвестным. Говорят, она богиня всех богов и богинь, затмевающая своим могуществом все другие божества, когда–либо придуманные человеком. Время от времени в честь богини устраиваются празднества, сопровождаемые определенными ритуалами – какими, никто не знает, поскольку культ окружен завесой таинственности по причине то ли особого религиозного пыла, то ли его постыдной неприглядности. Но абсолютных тайн на свете не бывает, и в своих путешествиях я был достаточно наслышан об этом культе, чтобы он вызвал у меня чувство отвращения перед его природой и опасение по поводу его последствий.
Это женский культ, и хотя в нем имеются жрецы, все они – кастраты, когда–то принесшие себя в жертву своей богине. Жертвы, в свою очередь, выбираются жрицами из невинных юношей до двадцати лет, добровольно согласившихся участвовать в ритуале, – говорят, порой даже из собственных сыновей, ибо, согласно их своеобразным взглядам, это делает их самыми почитаемыми и счастливыми из людей.
Я точно не знаю всех деталей обряда, но своими собственными ушами слышал доносившиеся из священных рощ, где он проводится, звуки флейты и ритуальных песнопений. По слухам, в течение трех дней вновь обращенные и другие члены культа «очищаются» воздержанием от всего плотского, а затем возбуждают себя до неистовства танцами, пением и возлияниями – вином ли или каким–то другим загадочным напитком, никто не знает. После того как участники входят в транс, навеянный музыкой, танцами и странным питием, начинается сам ритуал. Одного из нескольких жертвенных юношей выводят перед женщиной, избранной ритуальным воплощением великой богини. Не считая повязки из меха дикого зверя, обвязанной вокруг его чресел, он совершенно наг; путами из лавровых веток его руки и ноги привязывают к кресту, сделанному из срубленного в священной роще дерева, и участники церемонии начинают кружить вокруг него в танце, порой входя в такой экстаз, что начинают срывать с себя одежды. Затем к юношам подходит богиня и священным ножом распускает бечеву, которой удерживается узкая полоска из меха, скрывающая их наготу; найдя жертву, удовлетворяющую ее вкусам, она разрезает его путы и уводит с собой в пещеру в священной роще, специально отведенную для «бракосочетания» богини и смертного.
Это «бракосочетание» предполагается как чисто ритуальное, но надо помнить, что речь идет о культе женщины, и притом тайном, не подвластном ни законам, ни общепринятым нормам. Три дня богиня и ее жертва проводят в пещере, у входа в которую им оставляют еду и питье, в течение которых она, как говорят, вольна делать с несчастным юношей все, что захочет; тем временем все остальные, охваченные безумным неистовством, предаются сладострастным и извращенным наслаждениям.
По истечении трех дней богиня и ее смертный любовник покидают пещеру и, преодолев водное пространство, вступают в другую священную рощу, которая становится Островом Блаженных; здесь смертный любовник приобретает бессмертие – по крайней мере, в варварском воображении участников ритуала.
Всем известно, что данный культ широко распространен в Восточной Греции от Илия до Лесбоса и что к нему принадлежит немало представителей самых богатых и образованных семейств этой части мира. Когда плот, несший Юлию и ее свиту, перевернулся, она как раз возвращалась с одной из описанных церемоний по завершении положенного ритуала на Острове Блаженных. Она была воплощением богини.
Местные жители, питающие отвращение к подобным порочным обрядам, не могли преодолеть своего страха перед этими странными существами, которые (как они полагают) живут в мире, недоступном их пониманию и далеком от их образа жизни. Я не могу допустить, чтобы наложенное на них наказание оставалось в силе, ибо тогда тайна (ограждающая Юлию, а также ничего о том не ведающих Марка Агриппу, Октавия Цезаря и даже сам Рим) может оказаться нарушенной.
Помимо неприглядных ритуалов, о которых известно по слухам, есть еще одно обстоятельство, связанное с культом, которое куда как серьезнее варварских обрядов: члены культа обязаны отвергнуть все, что лежит за пределами их собственного вожделения, и не признавать власти ни человека, ни закона, ни обычаев простых смертных, что не только поощряет распущенность нравов, но и открывает дорогу убийству, измене и всем другим мыслимым порокам.
Дорогой Меценат, я надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я не мог обратиться к императору или Марку Агриппе, а вынужден взвалить на твои слабые плечи непосильный груз этого печального знания, притом что ты уже отошел от общественной жизни. Ты должен найти способ убедить твоего друга и господина заставить Юлию вернуться в Рим. Если она еще не погубила себя безвозвратно, то ждать этого недолго, останься она в том странном мире, который для себя обнаружила на собственную беду.
II
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
Я так никогда и не узнала, почему мой отец потребовал от меня в не терпящем возражения тоне немедленно вернуться в Рим, не оставив мне ничего другого, как только повиноваться его воле. Я так и не смогла добиться от него достаточно веской причины, обусловившей столь бескомпромиссную суровость его приказа, – он просто заявил, что жене второго гражданина империи не пристало так долго находиться вдали от любящего ее народа и что имеются некоторые светские и религиозные обязанности, целиком лежащие на мне и Ливии. Я не поверила, что то было истинной причиной моего возвращения, но он пресек мои дальнейшие расспросы. Однако он не мог не заметить, как огорчило меня это обстоятельство; мне представлялось, что я оказалась вырвана из той жизни, где я впервые почувствовала себя самой собой, чтобы провести остаток своих дней, исполняя долг, в котором я не видела ни малейшего смысла.
Как ни странно, то был Николай – маленький сирийский иудей, к которому мой отец питает необъяснимую привязанность и доверие, – кто доставил мне его послание, проделав для этого весь неблизкий путь из Иерусалима в Метилены на острове Лесбос, где он меня и нашел.
– Я не поеду! – в гневе воскликнула я. – Он не может заставить меня вернуться против моей воли.
– Он твой отец, – сказал, пожав плечами, Николай.
– Но я здесь с мужем, – возразила я.
– С мужем? – сказал Николай. – Твой муж в Бое–поре. Он друг твоему отцу, императору, который, как я полагаю, соскучился по тебе. Подумай о Риме – когда мы вернемся, там уже будет весна.
И вот мы отплыли с Лесбоса. Я стояла на палубе и провожала взглядом острова, один за другим исчезающие за кормой, словно облака во сне. То моя жизнь, думала я про себя, что остается позади; жизнь, в которой я была царицей, и даже больше чем царицей. День проходил за днем, и по мере того, как мы приближались к Риму, мне становилось все яснее, что я возвращаюсь уже другой женщиной, не той, что покинула его три года назад.
И я также знала, что жизнь, к которой я возвращаюсь, будет совсем иной. Я не могла сказать какой, но определенно не такой, как раньше. Даже Рим не сможет меня теперь запугать. «Но неужели я по–прежнему буду чувствовать себя словно маленькая девочка при встрече с отцом?» – помнится, спрашивала себя я.
Я вернулась в Рим в год консульства Тиберия Клавдия Нерона, сына Ливии и мужа дочери моего супруга, Випсании. Мне было двадцать пять лет. Та, что была богиней, вернулась в Рим обычной женщиной, полной горького разочарования.
III
Письмо: Публий Овидий Назон – Сексту Проперцию [54] в Ассизий (13 год до Р. Х.)
Дорогой Секст, мой друг и наставник – как живется тебе в твоей добровольной ссылке? Твой Овидий умоляет тебя покинуть сие место печали и уединения и вернуться в Рим, где тебя так не хватает. Все здесь не так мрачно, как ты склонен полагать; на римском небосклоне загорелась новая звезда, и вновь те, у кого хватает на то мозгов, могут жить в радости и наслаждении. Более того, за последние несколько месяцев я пришел к выводу, что нет для меня лучшего места и времени, чем нынешний Рим.
Ты большой мастер в том искусстве, которое избрал себе поприщем и я, да и старше меня – однако можешь ли ты с уверенностью сказать, что мудрее? Не исключено, что причина твоей меланхолии кроется скорее в тебе самом, нежели в том, что происходит в столице. Возвращайся к нам – у нас еще достаточно времени для удовольствий, прежде чем нас поглотит мрак ночи.
Но прости меня, дорогой Секст, – ты ведь знаешь, что я не большой любитель серьезных разговоров и, раз начав в этом ключе, не могу долго в нем продолжать. С самого начала в мои намерения входило просто рассказать тебе о выпавшем на мою долю восхитительном дне, в надежде убедить тебя вернуться в Рим.
Вчера был день рождения императора Октавия Цезаря и потому римский выходной, однако начало его было для меня не слишком многообещающим. На службу я прибыл непристойно рано – еще до зари, когда солнце только–только начало пробиваться сквозь частокол домов, называемый Римом, пробуждая огромный город ото сна. И хотя вряд ли кому в голову могло прийти подавать в суд в такой день, но на следующий – очень даже возможно; кроме того, я должен был особенно искусно подготовить изложение одного дела. Некий Корнелий Апроний, из–за которого мне и пришлось с утра пораньше засесть за работу, подает иск на Фабия Кретика, обвиняя его в неуплате за пользование неким земельным участком, в то время как вышеозначенный Кретик выдвигает ответный иск, утверждая, что права на землю не принадлежат Апронию. Оба мошенники, и ни у того, ни у другого нет доказательств; посему искусное изложение дела и удачно представленные доводы истца играют очень большую роль – как, впрочем, и то, к какому магистрату оно попадет в руки.
Одним словом, все утро я провел в трудах; в моей голове то и дело возникали изумительные строки, как оно всегда случается, когда я занимаюсь каким–нибудь чрезвычайно занудным делом; мой писец был особенно медлителен и бестолков; а шум, доносившийся с форума, особенно нестерпимо терзал мой слух. Все это мне начинало действовать на нервы, и я в который раз пенял себе на то, что до сих пор не бросил это дурацкое занятие, которое в конечном счете не принесет мне ничего, кроме богатства, в котором я не нуждаюсь, да незавидной награды в виде сенаторского звания.
И вот в тот момент, когда я совершенно помирал от скуки, произошло некое замечательное событие: я заслышал под моей дверью сначала топот ног, потом приглушенный смех; после этого дверь широко распахнулась, и передо мной предстал самый удивительный евнух, какого я когда–либо имел возможность наблюдать, – весь завитой и надушенный, одетый в изысканные шелковые одежды, с изумрудами и рубинами на пальцах. Он стоял с таким видом, будто был не рабом, а вольноотпущенником или даже полноправным гражданином.
– Здесь тебе не сатурналии [55], – сказал я сердито. – Кто позволил тебе врываться ко мне без стука?
– Моя госпожа, – ответил он высоким женским голосом. – Моя госпожа просит тебя проследовать со мной.
– Твоя госпожа, – воскликнул я, – может хоть сквозь землю провалиться – мне–то что… Кто она, кстати?
Он изобразил на лице надменную улыбку, как будто я был жалкий червяк у него под ногами.
– Моя госпожа – Юлия, дочь Октавия Цезаря Августа, императора Рима и первого гражданина Римской империи. Есть еще вопросы, законник?
Я уставился на него, открыв рот и не произнося ни слова.
– Ты пойдешь со мной, я полагаю? – высокомерно произнес он.
Мое раздражение тут же как рукой сняло; я рассмеялся и бросил на стол своему писцу связку бумаг, над которыми до этого момента корпел.
– Постарайся что–нибудь состряпать из них, – сказал я. Затем я повернулся к рабу–евнуху, ожидающему меня. – Я последую за тобой, куда бы твоя госпожа ни позвала меня, – сказал я, после чего мы вышли на улицу.
По своему обыкновению, мой дорогой Секст, я отвлекусь на минутку от моего повествования, чтобы сообщить тебе следующее: по чистой случайности я всего за несколько недель до описываемых событий встречался с вышеупомянутой дамой на пышном пиру, который закатил наш общий знакомый Семпроний Гракх. Дочь императора всего как с месяц вернулась из продолжительной поездки по Востоку, где она сопровождала своего мужа Марка Агриппу, бывшего там по государственным делам, и где он и остается по сей день. Я конечно же сгорал от нетерпения встретиться с ней, ибо с тех пор, как она вернулась в Рим, весь высший свет только о ней и говорит. Поэтому когда Гракх, который, как мне сдается, с ней в довольно дружеских отношениях, прислал мне приглашение, я, естественно, тут же его принял.
В тот вечер на вилле Семпрония Гракха собрались буквально сотни людей – слишком многочисленное сборище, чтобы быть по–настоящему интересным, но не без своих положительных сторон. Несмотря на огромное скопление народу, мне посчастливилось познакомиться с Юлией, с которой мы успели переброситься парой шутливых замечаний. Это необычайно обаятельная женщина – изысканной красоты и действительно весьма образованная и начитанная. Она даже любезно дала мне понять, что знакома с некоторыми из моих стихов. Будучи наслышан о репутации ее отца как человека высоких моральных устоев (о чем тебе более чем хорошо известно, мой бедный друг Секст), я тут же предпринял жалкую попытку извиниться за чрезмерную «фривольность» отдельных моих творений, но она лишь улыбнулась в свойственной ей обезоруживающей манере и сказала:
– Мой дорогой Овидий, если ты намерен попытаться убедить меня в том, что, хотя стихи твои игривы, жизнь твоя целомудренна, я больше никогда не заговорю с тобой.
– Моя владычица, если таковы твои условия, то я постараюсь убедить тебя в обратном!
Она рассмеялась, и засим мы и расстались. И, хотя то был достаточно приятный эпизод, мне и в голову не могло прийти, что наша встреча оставит малейший след в ее памяти, не говоря уже о том, чтобы вспомнить о моем существовании по прошествии двух недель. Но тем не менее она вспомнила – вчера я снова оказался в ее обществе после событий, о которых я упомянул в начале письма.
За дверью я обнаружил полдюжины носилок с пурпурно–золотыми шелковыми балдахинами, за которыми слышались возня и громкий смех, разносившиеся по всей улице. Я остановился, не зная, что делать дальше; мой провожатый евнух стоял в стороне и ораторствовал перед нижестоящими рабами, не обращая на меня внимания. Но вот какая–то женщина сошла с носилок; я сразу же узнал в ней ту самую Юлию, которая так вовремя нарушила монотонное течение моего утра. Затем к ней присоединился еще один человек, который оказался Семпронием Гракхом. Он приветливо улыбнулся мне, и я подошел к ним.
– Ты спасла меня от смерти, вызванной скукой, – сказал я, обращаясь к Юлии. – Что ты намерена делать с моей жизнью, которая теперь полностью принадлежит тебе?
– Я распоряжусь ею весьма легкомысленно, – ответила она. – Сегодня день рождения моего отца, и он дал мне свое позволение пригласить моих друзей в его ложу в цирке. Мы будем смотреть игры и играть на деньги.
– Игры, – сказал я. – Как мило.
Я не вкладывал никакого особого смысла в это свое замечание, но Юлия увидела в нем иронию.
– Интересны не сами по себе игры, – со смехом сказала она. – Туда приходят для того, чтобы себя показать и других посмотреть, а также в поисках менее тривиальных развлечений. – И, бросив взгляд на Семпрония, добавила: – Ничего, скоро узнаешь.
Затем она отвернулась от меня и обратилась к своим спутникам, некоторые из которых вышли из носилок поразмять ноги:
– Кто хочет разделить компанию с Овидием, поэтом любви, который пишет о том, чему вы посвятили свою жизнь?
Из–за цветных пологов показались руки, делающие зазывающие жесты, и послышались голоса, выкрикивающие мое имя:
– Сюда, к нам, Овидий, – моей подруге нужен твой совет!
– Нет, мне нужен совет!
Все это сопровождалось взрывами хохота. В конце концов я выбрал носилки, где для меня было достаточно места; носильщики подняли их на плечи и медленно двинулись через заполненные народом улицы к цирку Максима.
Мы прибыли туда в полдень, когда толпы зрителей покидали трибуны, чтобы на скорую руку перекусить перед тем, как зрелище возобновится. Признаться, мне было непривычно видеть, как люди, узнав цвета наших носилок, расступались перед ними, будто земля под плугом. При этом они радостно махали нам руками и выкрикивали в наш адрес дружеские приветствия.
Наконец мы оставили носилки и с Юлией, Семпронием Гракхом и еще одним незнакомым мне человеком во главе через сводчатые галереи, что пчелиными сотами изрезали весь цирк, проследовали к лестнице. Время от времени из проемов галерей манил нас к себе бродячий астролог, на что кто–нибудь из нашей компании кричал ему: «Мы знаем свое будущее, старик!» – и бросал ему монету. А то вдруг покажется куртизанка и поманит какого–нибудь мужчину, оставшегося без спутницы, В ответ на это кто–либо из дам говорил ей с напускным ужасом: «Нет–нет, не похищай его у нас – он может навечно остаться с тобой!»
Мы поднялись по лестнице и, подойдя к императорской ложе, зашикали, призывая друг друга соблюдать тишину в знак почтения к Октавию Цезарю. Но его в ложе не было, и, должен признаться, несмотря на все удовольствие, которое я получал от пребывания в компании таких очаровательных людей, я был несколько разочарован.
В отличие от тебя, друг мой Секст, не будучи закадычным другом Мецената (да и не испытывая нужды в столь интимных отношениях), я никогда не встречался с Октавием Цезарем. Конечно, я видел его издалека, как и все в Риме, но знаю о нем лишь с твоих слов.
– Императора не будет? – спросил я.
– Пустого рода кровопролитие не доставляет ему удовольствия, – ответила Юлия, указывая на пустую арену. – Он обычно появляется позже, после завершения звериной охоты.
Я взглянул вниз и увидел, как служители разгребали землю, залитую кровью, и оттаскивали трупы убитых животных, среди которых я заметил нескольких тигров, льва и даже слона. Я как–то раз был на одном из таких зрелищ, когда впервые приехал в Рим, и нашел его чрезвычайно скучным и вульгарным, о чем и поспешил поделиться с Юлией.
– Как говорит мой отец, тут погибает либо глупец охотник, либо бессловесная тварь, и его не волнует судьба ни того, ни другого, – сказала Юлия с улыбкой. – К тому же в этих поединках между человеком и зверем не принято биться об заклад. Мой отец обожает играть на деньги.
– Уже поздно, – заметил я. – Но он все равно придет, да?
– Должен прийти, – ответила Юлия. – Это зрелище приурочено к его дню рождения; он не может позволить себе проявить неблагодарность по отношению к тем, кто оказал ему такую честь.
Я кивнул, вспомнив, что устроителем игр был один из новых преторов, Юл Антоний. Я хотел было сделать какое–то замечание по этому поводу, но, вспомнив, кто он был такой, поспешно прикусил язык.
Но Юлия, должно быть, заметила мое намерение, ибо произнесла с улыбкой:
– Да–да, в особенности он не хочет выглядеть неучтивым в глазах сына своего старого врага, которого он давно простил и чьего отпрыска предпочел даже некоторым из своих собственных близких родственников.
Я глубокомысленно (как мне кажется) кивнул и больше этого вопроса не касался, хотя про себя не переставал думать о сыне Марка Антония, имя которого, даже через столько лет после его смерти, по–прежнему почитаемо жителями Рима.
Впрочем, в такой замечательной компании времени на размышления почти не остается. Вскоре слуги стали разносить на золотых блюдах закуски и разливать по бокалам вино; мы поели, выпили вина и, непринужденно болтая между собой, понаблюдали за народом, тянущимся обратно на свои места к началу полуденных развлечений.
К шестому часу пополудни трибуны были полны, я бы даже сказал, переполнены, вместив в себя большую часть населения Рима. И вдруг, перекрывая обычный гомон толпы, по цирку прокатился мощный рев, исходящий из тысячи глоток; многие из сидящих под нами плебеев вскочили на ноги, указывая на ложу, где мы возлежали. Я обернулся и посмотрел через плечо. В дальнем конце ложи, в глубокой тени, я заметил две фигуры: одна довольно рослая, другая – нет. Высокий человек был одет в богато расшитую тунику и белую тогу с пурпурной каймой, указывающую, что он консул; другой же носил простую белую тунику и тогу обычного римлянина.
Первый был Тиберий, пасынок императора и римский консул, а второй – император Октавий Цезарь собственной персоной.
Когда они вошли в ложу, все присутствующие поднялись; император улыбнулся, кивком поприветствовал нас и пригласил занять свои места. Сам он уселся рядом с дочерью, в то время как Тиберий (молодой человек с мрачным лицом, на котором читалось неудовольствие его вынужденным присутствием здесь) сел поодаль от всех остальных и за все время ни с кем не перемолвился ни словом. Некоторое время император и Юлия тихо беседовали, сдвинув головы; затем он бросил на меня быстрый взгляд и сказал что–то Юлии, которая, улыбнувшись, согласно кивнула головой и подозвала меня к себе.
Я подошел, Юлия представила меня своему отцу.
– Очень рад познакомиться с тобой, – сказал император. Лицо у него было усталое и все изборождено морщинами, светлые волосы тронуты сединой, но при этом взгляд ясный, проницательный и живой.
– Мой друг Гораций упоминал о твоих сочинениях.
– Я надеюсь, благосклонно, – сказал я. – Ведь я не могу претендовать на его лавры. Боюсь, моя муза гораздо скромнее и обыденнее.
Он кивнул:
– Мы все подчиняемся той музе, что выбрала нас… Кто твои фавориты на сегодня?
– Кто–кто? – переспросил я тупо.
– В соревнованиях колесниц кто твой любимый возница?
– Господин, – ответил я, – должен признаться, я хожу на скачки скорее ради приятного общества, чем ради лошадей, посему я в них совершенно несведущ.
– А, тогда ставки тебя не интересуют, – сказал он, как мне показалось, несколько разочарованно.
– Ну почему же, интересуют – на все, кроме лошадей, – ответил я.
Он снова кивнул и, чуть заметно улыбнувшись, повернулся к кому–то у себя за спиной:
– На кого ты ставишь в первую очередь?
Но тот, к кому он обратился, не успел ему ответить: в дальнем конце скакового круга открылись ворота, и под звуки труб на арене появилась процессия, возглавляемая Юлом Антонием – претором, на средства которого и были устроены игры. Он был облачен в алую тунику, поверх которой была надета тога с пурпурной каймой; в правой руке он держал жезл из слоновой кости с сидящим на нем золотым орлом, готовым, казалось, в любую минуту с него сорваться; голову претора венчал золотой лавровый венок. Должен признаться, что восседая на своей колеснице, запряженной великолепной белой лошадью, он производил весьма внушительное впечатление, даже при взгляде издалека, оттуда, где я сидел.
Процессия медленно двинулась по кругу. Вслед за Юлом Антонием двигались церемониальные жрецы, которые сопровождали статуи, представлявшиеся несведущим людям буквальным воплощением богов; за ними появились участники состязаний во всем великолепии своих белых, красных, зеленых и голубых одежд; и замыкала процессию шумная ватага танцоров, мимов и шутов, которые скакали и кувыркались на арене, пока жрецы переносили статуи на возвышение в центре, вокруг которого должны были происходить гонки.
И вот наконец вся кавалькада приблизилась к императорской ложе. Юл Антоний остановил колесницу, поприветствовал императора и объявил, что игры посвящаются его дню рождению. Должен сказать, я не без любопытства приглядывался к Юлу. Он необычайно хорош собой – мускулистые загорелые руки, смуглое, с несколько крупноватыми чертами лицо, ослепительно белые зубы и вьющиеся черные волосы. Говорят, он вылитый отец, только менее склонный к полноте.
После завершения ритуала посвящения Юл Антоний подошел вплотную к ложе и сказал, обращаясь к императору:
– Я присоединюсь к вам позже, как только разделаюсь с делами на старте.
Император согласно кивнул; на лице его было написано удовольствие.
– Антоний хорошо знает и лошадей и возниц. К нему стоит прислушаться, если хочешь хоть немного разбираться в гонках на колесницах, – сказал он, обернувшись ко мне.
Вынужден тебе признаться, мой дорогой Секст, что нравы великих мира сего вне моего понимания: самый могущественный человек на свете император Октавий Цезарь в этот момент, казалось бы, ничем, кроме предстоящего развлечения, больше не интересовался; с сыном человека, которого он победил в войне и заставил покончить с собой, он держался очень естественно, тепло и дружелюбно; со мной говорил так, как будто мы оба были самыми обычными гражданами. Помнится, у меня даже было промелькнула мысль о поэме, но так же быстро я отринул ее. Гораций, без сомнения, написал бы что–нибудь в подобном роде, но мне (нам) это как–то не с руки.