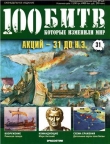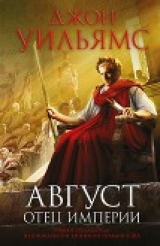
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 25 страниц)
Личность и успехи. Характер Августа остался в известной мере загадкой. В период возвышения он, вне всякого сомнения, был порой беспринципен и жесток, и стремление к власти представлялось его главной страстью. Обретя власть, он смягчился и развил в себе качества образцового государственного деятеля. Он избавился от недостатков, имевшихся в юности, и почил среди всеобщего уважения и любви. Он не был гением, подобным своему приемному отцу Юлию Цезарю, и часто страдал, сравнивая себя с ним, однако он обладал блестящими талантами в области политики и управления. Его административные реформы, особенно реорганизация армии, были прекрасно продуманы и умело проведены в жизнь, пройдя испытание временем. Кроме того, он был поразительно чуток к общественному мнению и умел манипулировать им. Ему удалось примирить с собой все классы, даже остатки высшей знати. Он с успехом потакал республиканским настроениям образованных слоев общества и объединил их в поддержке нового государственного устройства. Главное доказательство значимости его трудов можно видеть в том, что созданная им государственная система просуществовала без особых изменений в течение трех веков.
Август умер [27] в городе Нола, область Кампания, 19 августа 14 года нашей эры.

От автора
Один известный римский историк как–то сказал, что ради красного словца готов приписать победу при Фарсале [28] Помпею; и хотя я не позволял себе подобных вольностей, некоторые фактические неточности в моем повествовании не случайны: так, я изменил последовательность кое–каких событий, добавил отдельные детали в тех случаях, когда источники страдали неполнотой или противоречили друг другу, и, наконец, дал жизнь ряду персонажей, которых история не удостоила вниманием. Местами я использовал более современные названия и терминологию в сравнении с принятыми в римскую эпоху, отдавая предпочтение скорее общему звучанию слов, нежели механически следуя традиции. Авторство всех документов, составляющих основу романа, принадлежит мне, за исключением трех эпизодов, когда я перефразировал отдельные места из писем Цицерона, позаимствовал несколько пассажей из «Актов Августа», а также использовал фрагмент из утерянной «Истории» Тита Ливия [29] в передаче Сенеки–старшего [30].
Если в моем труде и излагаются какие–то истины, то они скорее художественного плана, чем исторического. Поэтому я заочно признателен тем читателям, которые воспримут мой роман таким, каким он и был задуман, – не более чем игрой воображения.
Я также хотел бы поблагодарить Рокфеллеровский фонд за оказанную финансовую поддержку, что дало мне свободу передвижения и позволило приступить к созданию романа; колледж Смита в Нортхемптоне, штат Массачусетс, за предоставление мне досуга для работы над романом и университет в Денвере за порой настороженное, но всегда доброжелательное отношение, благодаря которому я сумел завершить его.

Книга первая
Пролог
Письмо: Юлий Цезарь – Атии (45 год до Р. Х.)
Отправь мальчика в Аполлонию.
Начиная это письмо без обычных церемоний, дорогая моя племянница, я имел целью с первых же строк обезоружить тебя, дабы пред силой моих убеждений неизбежные возражения твои оказались бы слишком поспешными и неубедительными.
Твой сын оставил мой лагерь в Карфагене в добром здравии, и уже через неделю ты увидишься с ним в Риме. Я дал указание моим людям, сопровождающим его, не торопиться, чтобы ты успела получить это письмо до его приезда.
Я вижу, у тебя уже готовы возражения, кои представляются тебе достаточно весомыми, – в конце концов, ты мать и к тому же из рода Юлиев, а значит, вдвойне упряма. Боюсь, однако, я знаю их заведомо – мы не раз говорили об этом в прошлом: ты опять будешь ссылаться на его слабое здоровье, хотя очень скоро сможешь сама убедиться, что Гай Октавий значительно окреп за время нашей испанской кампании; ты также не преминешь выразить сомнения в искусности местных лекарей, хотя стоит тебе задуматься на минуту, и ты не сможешь не признать, что врачи в Аполлонии гораздо лучше могут позаботиться о его здоровье, чем надушенные шарлатаны в Риме. Шесть моих легионов размещено в Македонии и вокруг нее, и никто из солдат не жалуется на здоровье, а что касается смерти одного–двух сенаторов, то это потеря небольшая. К тому же климат на побережье в Македонии ничуть не более суров, чем в Риме.
Спору нет, Атия, ты хорошая мать, однако, к сожалению, склонна к чрезмерной строгости и преувеличенным требованиям морали, что порой, увы, случается в нашем роду. Отпусти поводья, дай твоему сыну возможность стать мужчиной, каковым он уже стал по закону; ему почти восемнадцать, и ты, без сомнения, помнишь, что было предсказано ему при рождении; я же, как тебе известно, не жалел усилий, чтобы эти предсказания осуществились.
Ты должна осознать всю целесообразность моего требования отправить Гая в Аполлонию, с которого я начал свое письмо: греческий его никуда не годится, в риторике он слаб, хотя в философии разбирается неплохо, его познания в литературе можно назвать по меньшей мере необычными. Неужто учителя в Риме так же нерадивы и безответственны, как и все прочие жители столицы? В Аполлонии же он почитает философов, позанимается греческим с Атенодором, улучшит свои познания в литературе и отточит риторику с Аполлодором – я уже все подготовил.
Кроме того, в его возрасте лучше держаться подальше от Рима. Его богатство, высокое положение и привлекательная наружность не могут не вызвать поклонения со стороны молодых представителей обоего пола, и если это не развратит его, то усилия льстецов – наверняка (ты конечно же заметила, как искусно я здесь сыграл на твоей провинциальной слабости к морали). Там же, в строгой спартанской обстановке, утро он будет проводить, совершенствуясь в гуманитарных науках в обществе лучших ученых мужей нашего времени, а днем, с трибунами моих легионов, – упражняться в другого рода науке, без которой не обойтись мужчине.
Тебе известны мои чувства к Гаю и планы относительно его на будущее; он давно был бы моим сыном в глазах закона, каковым он является в моем сердце, если бы не Марк Антоний, который возомнил себя моим наследником и посему без устали маневрирует среди моих врагов с изяществом слона в храме Девственных весталок. Я сделал Гая моей правой рукой, и, если он хочет быть моим преемником, он должен знать, в чем моя сила. В Риме он этому не научится, ибо главный источник ее – мои легионы – я оставил в Македонии, легионы, которые следующим летом мы вместе поведем против парфян или германцев и которые могут пригодиться для подавления смуты, исходящей из Рима.
Кстати, как поживает Марций Филипп, коего ты имеешь удовольствие именовать своим мужем? Он так непроходимо глуп, что я почти люблю его за это. Трудно не быть признательным ему, ибо, не будь он столь занят валянием дурака в Риме и неуклюжими попытками заговора со своим дружком Цицероном, он мог бы попробовать себя в роли отчима твоему сыну. По крайней мере, у твоего покойного супруга, несмотря на его скромное происхождение, хватило ума родить сына и возвыситься за счет имени Юлиев. Что же касается твоего нынешнего мужа, то его интриги против меня приведут лишь к тому, что он уронит это высокое имя и потеряет то единственное, что поднимает его над всеми другими. О, если бы все мои враги были так же безнадежно глупы! Я бы меньше восхищался ими, но зато чувствовал бы себя гораздо спокойнее.
Я попросил Гая взять с собой в Аполлонию двух его друзей, которые сражались вместе с нами в Испании и будут сопровождать его в Рим. Ты их знаешь – это Марк Випсаний Агриппа и Квинт Сальвидиен Руф; и еще некоего Гая Цильния Мецената, с которым ты незнакома. Впрочем, от твоего мужа не укроется, что он происходит из древнего этрусского рода с примесью царской крови, и если ничто другое, то хоть это будет ему в радость.
Боюсь, дорогая Атия, что поначалу у тебя могло создаться впечатление, будто твой дядя предоставил тебе право решать судьбу твоего сына. Теперь настало время сказать, что это не так: через месяц я возвращаюсь в Рим пожизненном диктатором – слухи на этот счет должны были достичь твоих ушей, – согласно декрету сената, который еще предстоит обнародовать. Поэтому теперь в моей власти назначить командующего всадниками, который будет вторым лицом в государстве после меня, – я уже позаботился об этом, – и, как ты, наверное, догадалась, это твой сын. Дело сделано, и изменить ничего нельзя. Поэтому если ты или твой муж попытаетесь вмешаться, на ваш дом обрушится такая буря всеобщего возмущения, что по сравнению с ним мое личное неудовольствие покажется не более опасным, чем легкий ветерок.
Надеюсь, ты хорошо провела лето в Путеолах и теперь снова в Риме на зиму. Как ты знаешь, мне обычно не сидится на месте, но и я скучаю по Италии.
Возможно, после моего возвращения в Рим и разрешения неотложных дел мы сумеем выбраться на несколько дней в Тибур. Можешь даже взять с собой своего мужа, а также Цицерона, если он выразит желание. Как бы там ни было, я люблю их обоих, ну и тебя, конечно.
Глава 1
I
Воспоминания Марка Агриппы – отрывки (13 год до Р. Х.)
…Я был рядом с ним при Акции, когда искры летели от мечей, палубы кораблей заливала кровь, ручьями стекая за борт и окрашивая багрянцем голубые воды Ионийского моря, а в воздухе раздавался свист копий, шипение охваченных огнем судов и вопли солдат, заживо горевших в своих доспехах; еще раньше я был с ним при Мутине, когда не кто иной, как Марк Антоний, захватил наш лагерь и постель, где обычно спал Цезарь Август, была изрублена мечами; и где мы выстояли и сделали первый шаг к покорению мира; и при Филиппах, когда он, тяжко больной, не мог держаться на ногах, но не покинул своих легионов и всю дорогу оставался с войсками, приказав нести себя на носилках; и снова был он близок к гибели – от руки убийцы его отца, но продолжал сражаться до тех пор, пока все убийцы смертного Юлия, ставшего богом, не истребили сами себя.
Я – Марк Агриппа, называемый также Випсанием, народный трибун и консул сената, солдат и военачальник на службе Римской империи, друг Гая Октавия Цезаря, известного ныне как Август. Я пишу эти строки на пятидесятом году своей жизни, дабы сохранить для вечности события того времени, когда Октавий принял Рим, истекающий кровью в междоусобицах; когда Октавий Цезарь покончил наконец с чудовищем распри и избавился от издыхающей твари, а Август залечил раны на теле Рима и вернул ему былую силу, чтобы решительно шагнуть за пределы своих границ. И я по мере своих возможностей принимал участие в этом победном шествии, о чем и повествую в этих записках, дабы историки будущего смогли постичь причины своего изумления величием Августа и Рима.
Под началом Цезаря Августа я способствовал возврату былого могущества Рима, за что Рим щедро вознаградил меня: трижды я был консулом, однажды эдилом и трибуном, дважды – наместником в Сирии и также дважды принимал печать Сфинкса из рук смертельно больного Августа. Я вел победоносные римские легионы против Луция Антония в Перузии, против аквитанцев в Галлии и германских племен на Рейне, однако отказался от торжественной церемонии в Риме, которой обычно удостаивают триумфатора; кроме того, я участвовал в усмирении мятежных племен и фракций в Испании и Паннонии. Август даровал мне звание главнокомандующего флотом; мы соорудили гавань к западу от Неаполитанского залива, тем самым защитив наши корабли от пиратских набегов Секста Помпея, которого мы впоследствии сокрушили в битве при Милах и Навлохе у берегов Сицилии; а меня за эту победу сенат увенчал титулом повелителя морей. В битве при Акции мы разбили изменника Марка Антония и вдохнули жизнь в обескровленное тело Рима.
В знак избавления от египетской измены я возвел храм, ныне известный как Пантеон, а также другие общественные постройки. В должности градоначальника при Августе и сенате я восстановил старые и построил новые акведуки, чтобы римляне всех сословий имели в достатке воду и не страдали от болезней. После того как порядок снова воцарился в Риме, я помогал в составлении карт мира, начатых еще в диктаторство Юлия Цезаря и законченных его приемным сыном.
Обо всем этом я поведаю подробнее по мере моего повествования, а сейчас я должен вернуться к началу описываемых событий, кои произошли через год после триумфального возвращения Цезаря из Испании, где были и мы – Гай Октавий, Сальвидиен Руф и я.
Да, я был с ним в Аполлонии, когда до нас дошла весть о смерти Цезаря…
II
Письмо: Гай Цильний Меценат – Титу Ливию (13 год до Р. Х.)
Прости меня, дорогой Ливий, за столь долгое промедление с ответом. Обычные сетования – похоже, удаление от дел никак не способствовало улучшению моего здоровья. Врачи лишь глубокомысленно качают головой, бормочут что–то невразумительное и исправно берут плату. Ничто не помогает: ни мерзкого вкуса порошки, которыми они меня пичкают, ни даже отказ от наслаждений, коим, как тебе хорошо известно, я так любил предаваться. Мне известно твое усердие и понятно, сколь важна для тебя моя помощь в деле, о коем ты меня просишь в своем письме, но в последние дни я совсем не мог держать пера в руке из–за подагры. К тому же помимо всех прочих моих болячек я уже несколько недель мучаюсь бессонницей, поэтому дни свои провожу в сонливой апатии. Одно утешает: друзья не оставляют меня да жизнь еще теплится в моем теле – и за это я благодарен судьбе.
Ты спрашиваешь меня о начале моей дружбы с императором, так знай, что всего три дня тому назад он соблаговолил навестить меня на одре болезни и я счел необходимым уведомить его о твоей просьбе. Он улыбнулся и спросил, прилично ли мне помогать такому неисправимому республиканцу, как ты, и затем мы стали вспоминать добрые старые времена, как и подобает людям в нашем возрасте. Он помнит все до мельчайших подробностей, даже лучше, чем я, дело которого ничего не забывать. Наконец я спросил его, не желает ли он послать тебе свое собственное описание событий того времени. На мгновение он задумался, устремив взгляд вдаль, потом снова улыбнулся и сказал: «Нет, в воспоминаниях императоров еще больше лжи, чем в трудах поэтов и историков». Он попросил передать тебе наилучшие пожелания и предоставил мне полную свободу писать о чем заблагорассудится.
Но что я могу рассказать тебе о тех днях? Мы были молоды, и, хотя Гай Октавий (так он звался тогда) уже знал, что судьба благосклонна к нему и что Юлий Цезарь намерен усыновить его, ни он сам, ни я, ни Марк Агриппа, ни Сальвидиен Руф – никто из его друзей не мог и вообразить себе, к чему все это приведет. Я, мой дорогой друг, не обладаю свободой в той мере, какая дана историку: ты можешь поведать всему миру о перемещениях отдельных личностей и целых армий, предать огласке хитросплетения государственных интриг, сопоставить поражения и победы, раскрыть даты рождений и смерти – и при этом оставаться свободным в мудрой простоте твоего труда, а не сгибаться, как я, под страшным бременем знаний, коими я не вправе ни с кем поделиться, но значение которых все яснее раскрывается мне с годами. Я знаю, ты ждешь от меня рассказа и, без сомнения, уже теряешь терпение, ибо я все никак не доберусь до сути. Но помни; я не только слуга империи, но и поэт и потому не могу обойтись без околичностей.
Ты будешь удивлен, если я скажу тебе, что не был знаком с Октавием до нашей встречи в Брундизии, куда я был послан, чтобы сопровождать его и группу его друзей в Аполлонию. Почему выбор пал на меня, до сей поры мне неведомо, но уверен – посредничество Цезаря тому виной. Мой отец, Луций, однажды оказал ему услугу, и за несколько лет до описываемых событий Цезарь посетил нас на нашей вилле в Ареции. Мы заспорили о чем–то (насколько мне помнится, я пытался уверить его в превосходстве поэзии Каллимаха [31] над стихами Катулла [32]); я вел себя заносчиво и непочтительно, оставаясь при этом (так мне казалось) весьма остроумным. Я был так молод тогда… Так или иначе, это его позабавило, и он еще немного побеседовал со мной. Двумя годами позже он приказал моему отцу отправить меня в Аполлонию в компании со своим племянником.
Должен признаться тебе, друг мой Ливий, – хотя ты, возможно, и не упомянешь этот факт, – что при нашей первой встрече Октавий не произвел на меня большого впечатления; я только что прибыл в Брундизий из Ареции и после десяти дней пути был измучен тяготами путешествия, пропылен с головы до ног и пребывал в весьма дурном расположении духа. Я нашел их на причале, откуда мы должны были отплыть. Агриппа и Сальвидиен тихо беседовали, а Октавий стоял немного в стороне, разглядывая небольшое судно, покачивающееся на якоре неподалеку. Никто не обратил на меня ни малейшего внимания.
– Я Меценат; я должен был встретиться с вами на этом месте. Кто из вас есть кто? – сказал я нарочито громким голосом.
Агриппа и Сальвидиен посмотрели на меня с усмешкой и назвали свои имена; Октавий оставался недвижим, и я, усмотрев в его повернутой ко мне спине надменность и пренебрежение, заметил:
– А ты, должно быть, и есть Октавий?
Он обернулся, и я тут же понял свою ошибку, прочитав выражение отчаянной застенчивости на его лице.
– Да, я Гай Октавий. Мой дядя говорил о тебе.
Он улыбнулся и, подав мне руку, наконец поднял глаза и впервые посмотрел на меня.
Как ты знаешь, немало слов было сказано о его глазах – чаще всего в скверных стихах и еще более убогой прозе; он, верно, сыт по горло всеми этими метафорами и описаниями, хотя поначалу они тешили его самолюбие. Но даже тогда, при нашей первой встрече, они поразили меня своей глубиной и проницательностью – скорее голубые, чем серые, хотя дело не в цвете, а в свете, который они излучают… Вот видишь, и я туда же – начитался стихов моих друзей–поэтов.
Я, должно быть, отступил назад, точно не помню; одним словом, я был поражен и отвернулся в смущении; тут мой взгляд упал на корабль, привлекший внимание Октавия.
– Это и есть посудина, на которой мы поплывем? – сказал я, немного придя в себя и указывая на небольшое торговое судно не более пятидесяти шагов в длину, с прогнившей обшивкой на носу и заплатами на парусах. Пропитавший его тяжелый запах рыбы доносился даже до берега.
– Это все, что есть, как нам сказали, – ответил мне Агриппа с полуулыбкой. Я полагаю, он счел меня капризным франтом, ибо я был одет в тогу и носил перстни на руках, в то время как они были в одних туниках и без каких–либо украшений.
– Смрад будет невыносим, – заявил я.
– Я полагаю, оно направляется в Аполлонию за грузом соленой рыбы, – с серьезным видом произнес Октавий.
На мгновение наступила тишина, и тут я расхохотался; все остальные подхватили – и так мы стали друзьями.
Похоже, мы мудрее в молодости, чем в зрелые годы, хотя истинный философ и не согласится со мной. Но уверяю тебя – именно с этого началась наша дружба: глупый смех сблизил нас гораздо больше, чем все, что случилось впоследствии, будь то победы или поражения, верность или предательство, радость или горе. Но юность проходит, и вместе с ней что–то в нас исчезает безвозвратно.
Итак, мы отплыли в Аполлонию на смердящей рыбацкой посудине, которая зловеще скрипела при каждой встречной волне и так опасно кренилась то на один борт, то на другой, что нам даже пришлось привязаться веревками; она несла нас навстречу судьбе, которую мы не могли себе тогда и представить…
Продолжаю через два дня. Не стану утомлять тебя подробностями моих болезней, кои послужили причиной этой задержки, – все это слишком скучно.
Признаюсь, я подумал, что от моих воспоминаний тебе будет мало толку, посему дал указание письмоводителю поискать среди моих бумаг что–нибудь более для тебя подходящее. Ты, может быть, помнишь, как десять лет назад я выступил на освящении построенного нашим общим другом Марком Агриппой храма Венеры и Марса, ныне повсеместно называемого Пантеоном. Так вот, поначалу я собирался произнести несколько, я бы сказал, вычурную речь, чуть ли не в стихах, в которой пытался проследить связь между Римом нашей юности и Римом нынешним, представленным этим величественным храмом (впоследствии я отказался от этой идеи). Короче говоря, в качестве подспорья в работе над формой задуманной мной речи я набросал записки о временах нашей молодости, на которые и опираюсь в надежде помочь тебе в завершении твоего труда по истории нашего времени.
Представь себе, если можешь, четырех наивных юнцов (я и сам не узнаю их теперь), пребывавших в полном неведении о том, что ждет их впереди, в какой мир они вступают. Один из них – Марк Агриппа, высокий, мускулистый, лицом похожий на крестьянина: крупный нос, широкие скулы, загрубелая смуглая кожа, неухоженные темные волосы и рыжая борода торчком. Походка у него тяжелая, как у быка, но при этом необъяснимо грациозная; речь – простая, неспешная и спокойная, без эмоций. Если бы не борода, ему не дашь его девятнадцати лет.
Другой – Сальвидиен Руф, худой и подвижный, в отличие от крепко сбитого Агриппы, столь же живой и эмоциональный, сколько Агриппа медлителен и сдержан. Лицо у него худое, глаза темные; кожа белая; он всегда готов пошутить, делая серьезность других не столь тягостной. Он старше нас всех, но мы любим его как нашего младшего брата.
Третий – неужели это я? – его я представляю себе еще более смутно. Никто доподлинно не знает ни себя, ни то, каким он представляется даже близким друзьям, но я думаю, в тот день и некоторое время после того я казался им немножко придурковатым. Признаться, я действительно был слишком напыщен, полагая, что так оно и пристало поэту. Я носил роскошные одежды, щеголял жеманными манерами и даже привез с собой из Ареции слугу специально для ухода за волосами, однако, не стерпев жестоких насмешек моих товарищей, отослал его обратно в Италию.
И наконец, Гай Октавий, как его называли тогда. Как описать его тебе? Всей правды я не знаю – лишь то, что запечатлелось в моей памяти. Опять же скажу – он запомнился мне юнцом, хотя я сам был всего двумя годами старше. Ты знаешь, как он выглядит сейчас – так вот, он мало изменился с тех пор. Правда, теперь он властитель мира, и мне необходимо забыть об этом, чтобы припомнить, каким он был тогда. Уверяю тебя, даже я, по своему положению обязанный знать, что творится в душах его друзей, равно как и врагов, не мог и вообразить себе, кем он станет. Я находил его достаточно приятным юношей, но не более того, внешне слишком хрупким, чтобы противостоять ударам судьбы, нрава слишком мягкого, чтобы неуклонно идти к поставленной цели, и с голосом слишком тихим, чтобы изрекать суровые истины, как оно пристало настоящему вождю. Я полагал, что он скорее будет адептом праздности или литератором; я не видел в нем достаточно внутренней силы, чтобы стать даже сенатором, к чему располагало его происхождение и богатство.
Итак, вот кто были те четверо, что ранней осенью в год пятого консульства Юлия Цезаря сошли на берег в Аполлонии на Адриатическом побережье Македонии. Гавань была полна рыбацких лодок, покачивающихся на волнах; на берегу сновали люди; на прибрежных камнях сушились сети; дорога, застроенная с обеих сторон деревянными домишками, круто поднималась к городу, раскинувшемуся на холме, за которым до самого подножия гор простиралась равнина.
Утро мы проводили в учении – вставали до восхода и прослушивали первый урок при огнях, и, лишь когда солнце показывалось из–за гор на востоке, нам подавали на завтрак грубую пищу. Общались мы между собой только по–гречески (к сожалению, эта традиция постепенно отмирает); читали вслух подготовленные с вечера отрывки из Гомера, потом объясняли их своими словами и, наконец, декламировали собственные сочинения, написанные в соответствии с указаниями Аполлодора, который уже тогда казался древним стариком, но при этом человеком спокойного нрава и большой учености.
После полудня нас отвозили за город в тренировочный лагерь, где до конца дня мы практиковались в военном искусстве вместе с легионерами Цезаря. Именно тогда я впервые усомнился в верности моих первых впечатлений об Октавии. Как тебе хорошо известно, дорогой Ливий, он никогда не отличался отменным здоровьем, и его болезненность всегда была более очевидна, чем моя, удел которого оставаться образчиком здоровья, как бы серьезно я ни был болен. Тогда же я почти совсем устранился от участия в учениях и маневрах, в отличие от Октавия, который не пропустил ни одного, предпочитая, как и его дядя, быть в рядах центурионов, нежели их командиров. Однажды, помнится, в одном из учебных сражений его конь споткнулся, и он тяжело рухнул на землю. Агриппа и Сальвидиен стояли неподалеку, и последний бросился было ему на помощь, но Агриппа удержал его. Через несколько мгновений Октавий поднялся на ноги, с усилием выпрямился и потребовал другого коня, после чего взобрался на него и не ступил на землю до конца дня, пока учение не закончилось. Вечером в шатре мы заметили, что его дыхание затруднено, и позвали легионного врача, который обнаружил, что у него сломаны два ребра. Октавий приказал ему потуже перевязать себе грудь и следующим утром как ни в чем не бывало был с нами на занятиях и позже днем участвовал в марш–броске.
Вот за эти несколько первых недель я по–настоящему и узнал Августа, ныне повелителя латинского мира.
Возможно, в твоем замечательном историческом труде, коим я имею честь восхищаться, под твоим пером мое пространное повествование превратится всего в несколько строчек. Как жаль, что столь многому не суждено попасть на страницы книг, о чем я с каждым днем печалюсь все больше и больше.
III
Письмо: Юлий Цезарь из Рима – Гаю Октавию в Аполлонию (44 год до Р. Х.)
Нынче утром, мой дорогой Октавий, мне вспомнилось, как прошлой зимой в Испании ты приехал ко мне в Мунду в разгар осады крепости, где укрылся со своими легионами Гней Помпей. Все мы пребывали в угнетенном состоянии духа и обессилели от безуспешного штурма; припасы наши истощились, но мы, делая вид, что хотим взять врага измором, продолжали держать в осаде неприятеля, который имел вдоволь еды и времени на отдых. В досаде от неминуемого поражения я приказал тебе возвращаться обратно в Рим, откуда ты прибыл, как мне тогда показалось, не отказывая себе по пути ни в удобствах, ни в удовольствиях. Я заявил, что мне некогда возиться с мальчишкой, желающим поиграть в войну. Я уверен, ты и тогда уже понимал, что я был в гневе на самого себя, ибо ты промолчал, только поглядел на меня невозмутимо. Это немного охладило меня, и я сказал тебе со всей откровенностью (с тех пор я всегда говорил с тобой только так), что этот испанский поход против Помпея должен был раз и навсегда покончить с междоусобицами и враждой, раздиравшими республику со времен моей юности, однако то, что представлялось мне победой, оборачивается, скорее всего, верным поражением.
– В таком случае, – заметил ты, – мы сражаемся не за победу, а за свою жизнь.
И тут словно камень свалился с моей души, и я снова почувствовал себя молодым, ибо вспомнил, как более тридцати лет назад, когда шесть легионеров Суллы [33] застали меня врасплох одного в горах, но я сумел прорваться к их командиру и за взятку упросил его доставить меня живым в Рим, мне на ум пришли те же самые слова. Именно тогда меня впервые посетила мысль, что я могу стать тем, кем я стал.
Вспоминая те стародавние времена, я видел в тебе себя в годы моей юности; ты поделился со мной своей молодостью, а я отдал тебе часть мудрости моих лет, и мы оба почувствовали некое странное опьянение властью над капризами судьбы; и мы пошли в атаку, прячась, как за щитами, за телами наших павших товарищей, которые приняли на себя град неприятельских копий; и мы взобрались на стены и взяли штурмом крепость Кордуба там, в долине Мунды.
И еще я помню: утро, мы преследуем Гнея Помпея в Испании; ощущение полного желудка и натруженных мышц; лагерные огни и разговоры солдат, в которых слышится уверенность в победе. Удивительно, как порой боль, и страдание, и радость сливаются воедино, и даже полуразложившиеся трупы кажутся прекрасными, и страх перед поражением и смертью – не больше страха перед очередным ходом в игре! Сидя здесь, в Риме, я не могу дождаться прихода лета, когда мы наконец сможем выступить против парфян и германцев, чтобы обезопасить последнюю из наших главных границ… Ты лучше поймешь мою ностальгию по прошлым военным походам и нетерпеливое ожидание будущих, если я поведаю тебе о событиях того утра, что пробудило мои воспоминания.
Ровно в семь часов под моей дверью уже ждал Глупец (то бишь Марк Эмилий Лепид, с которым, да будет тебе известно, ты номинально будешь делить власть, подчиняясь лишь мне одному) с жалобой на Марка Антония. Дело было в том, что один из казначеев Антония вздумал собирать подати с домов, которые по древнему закону, долго и нудно цитированному Лепидом, должны были платить их не кому иному, как личному казначею Лепида. Затем, видимо полагая, что изобилующая иносказаниями болтовня есть само изящество, он целый час разглагольствовал о честолюбии Антония – наблюдение, которое я находил столь же неожиданным, сколь и утверждение о целомудренности весталок. Я поблагодарил его, мы обменялись банальностями о природе верности и на этом расстались. Лепид, без сомнения, тут же поспешил к Антонию с сообщением о том, что заметил во мне чрезмерную подозрительность по отношению даже к самым близким друзьям. В восемь часов один за другим пришли три сенатора, обвиняя друг друга во взятке за одну и ту же услугу; я тут же понял, что виновны все трое – они не сумели выполнить то, за что получили мзду, и теперь опасались, что податель взятки предаст это дело огласке, что неизбежно повлечет за собой разбирательство перед коллегией, чего они ни в коем случае не желали, ибо оно вполне могло бы закончиться для них ссылкой, если им не удастся подкупом склонить на свою сторону достаточное количество судей. Я рассудил, что их усилия купить правосудие увенчаются успехом, посему с каждого из них взыскал сумму, втрое большую полученной ими взятки, и решил точно так же поступить и со взяткодателем. Такой исход дела весьма их порадовал, и я не нажил себе врагов. Я знаю, что они продажны, а они думают, что и я такой же… Так прошло то утро.
Сколько можно обманывать себя? Рим погрязал во лжи с тех пор, как я себя помню, а возможно, и задолго до этого. Откуда, из какого источника черпает ложь свои силы, что делает ее сильнее правды? Мы были свидетелями убийств, разбоя и воровства именем республики – и считали это неизбежной ценой свободы; Цицерон не устает клеймить извращенную римскую мораль, обожествляющую богатство, – и при этом купается в роскоши и путешествует с одной своей виллы на другую со свитой из сотни рабов; консул рассуждает о мире и спокойствии и в то же время собирает армию, чтобы избавиться от своего коллеги, влияние которого угрожает его интересам; сенат говорит о свободе – и навязывает мне чрезвычайные полномочия, от которых я не вправе отказаться ради сохранения Рима. Неужели ничто не может противостоять лжи?