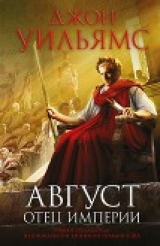
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Если боги будут ко мне благосклонны, я вернусь к тебе в Италию – хватит с меня сражений. Завтра я отправлю это письмо и подготовлю все к отъезду. Если атаки на нас не повторится, мне ничего не грозит; в противном случае я снова сбегу с поля сражения. Так или иначе, я не собираюсь здесь долго задерживаться и принимать участие в резне, цели которой мне неясны.
Я не знаю, кто выйдет из этого всего победителем: партия Цезаря или республиканцы; я не знаю, какое будущее ждет нашу родину или меня самого. Возможно, я разочарую тебя и, как и ты, стану сборщиком податей; но не стоит огорчаться – ведь в это занятие, каким бы низким оно ни было в твоих глазах, ты привнес собственные честь и достоинство. А я – твой сын Гораций и горжусь этим.
V
Воспоминания Марка Агриппы – отрывки (13 год до Р. Х.)
Брут снова отошел к своим укреплениям на возвышенности возле Филипп, которые, как нам скоро стало ясно, не собирался покидать. Мы знали, похоже, даже лучше, чем он сам, что каждый день ожидания обходится нам недешево, ибо наши запасы подходили к концу, и пополнить мы их не могли, так как на море господствовал флот Брута; позади нас были плоские и бесплодные равнины Македонии, а впереди – негостеприимные и такие же бесплодные холмы Греции. Затем мы стали распространять среди войск Брута подметные письма, полные насмешек над его трибунами, обвиняя их в робости и даже трусости. По ночам мы изводили их, выкрикивая оскорбления через разделяющие нас ряды костров, и, терзаемые стыдом, они потеряли сон.
Три недели Брут ждал, пока наконец его воины, не в силах дольше сносить бремя бездействия, возроптали; и Брут, опасаясь массового исхода из своих войск, отдал приказ оставить свои позиции, которые еще могли спасти его армию, и атаковать наш лагерь.
И вот к концу дня они спустились с холма, подобные северному урагану, скрытые от глаз облаками пыли; ни звука не слетало с их губ – лишь стук копыт и глухой топот многих тысяч ног по пыльной земле нарушали нависшую над равниной тишину. Я приказал своим воинам расступиться перед стремительно наступающим противником, а затем снова сомкнуть ряды, взяв его в клещи и вынудив сражаться на два фронта одновременно. Затем мы раскололи вражескую армию надвое и каждую из половин еще раз надвое, лишив их возможности перестроиться для отражения наших атак. К ночи все было кончено – лишь безразличные ко всему звезды бесстрастно взирали с высоты на тела погибших и внимали стонам раненых.
Брут с остатками своих легионов бежал в дикую местность за филиппийскими укреплениями, которые теперь были в наших руках. Он хотел снова перейти в наступление с теми силами, что еще оставались в его распоряжении, но его собственные трибуны отказались жертвовать собой; и вот рано утром на восходе, на следующий день после ноябрьских ид, на одиноком пригорке, откуда была хорошо видна вся картина кровавого побоища, затеянного по его воле и приказу, на глазах у нескольких из оставшихся верными ему трибунов он бросился на меч. Так не стало армии республики; так было отмщено убийство Юлия Цезаря, и смутные времена предательств, измены и междоусобиц уступили место долгим годам мира и порядка в царствование императора государства нашего Гая Октавия Цезаря, ныне Августа.
VI
Письмо: Гай Цильний Меценат – Титу Ливию (13 год до Р. Х.)
После Филипп, очень медленно, часто останавливаясь по дороге, он вернулся в Рим, будучи почти на пороге смерти. Он спас Италию от внешних врагов, и теперь оставалось залечить раны государства, основы которого сотрясали внутренние неурядицы.
Мой дорогой Ливий, не могу передать тебе охвативших меня чувств, когда я снова увидел его по прошествии всех этих долгих месяцев в его доме на Палатинском холме, куда его втайне доставили. Я конечно же все это время, согласно указаниям Октавия, оставался в Риме, чтобы присматривать за тем, что творится в городе, и стараться не дать Лепиду – из корысти или по глупости – полностью развалить систему правления в Италии.
Октавию не исполнилось еще и двадцати двух лет той зимой, когда он вернулся с полей сражений, но, клянусь тебе, он выглядел в два, даже в три раза старше. Будучи худым от природы, он потерял так много веса, что кожа складками свисала с его костей. У него не было сил даже говорить – один лишь хриплый шепот срывался с его губ. Я смотрел в его бледное восковое лицо и в отчаянии думал, что ему не выжить.
– Не говори им ничего, – прохрипел он и надолго замолк, словно выбившись из сил. – Не говори никому о моей болезни – ни Лепиду, ни народу.
– Ни слова, друг мой, – ответил я.
Первые признаки болезни появились у него еще год назад, во время проскрипций, и постепенно ему становилось все хуже и хуже. Несмотря на то что эскулапам, ходившим за ним, хорошо платили и даже угрожали лишить средств к жизни, если не ее самой, за разглашение тайны, слухи о болезни Октавия все равно поползли по городу. От эскулапов (жуткий народ – и тогда и сейчас) толку было так мало, что можно было их и не приглашать совсем: они ни на что не годились, кроме как прописывать настойки из ядовитых трав и прикладывать холодные и горячие припарки. Он почти ничего не мог есть, и его не раз рвало кровью. Но чем больше слабел он телом, тем сильнее становился его дух. Больной, он еще менее щадил себя, чем когда был здоров.
– Антоний решил не спешить возвращаться в Рим, а остаться на Востоке в погоне за трофеями и личной властью, – сказал Октавий этим своим ужасным голосом. – Я дал ему свое согласие – я предпочитаю, чтобы он скорее грабил азиатов и египтян, чем римлян… Он, как мне кажется, ожидает, что я скоро умру, и, хотя очень надеется на такой исход, предпочитает быть вдали от Италии, когда это действительно произойдет.
Он откинулся на подушки, прикрыв глаза и тяжело дыша. После продолжительной паузы он снова собрался с силами и сказал:
– Расскажи мне, что происходит в городе.
– Отдыхай, – ответил я, – у нас еще будет полно времени на это, когда тебе станет лучше.
– Рассказывай, – потребовал он. – Пусть тело мое недвижно, разум мой еще жив.
Новости были плохие, но я знал, что он не простит мне попытки подсластить пилюлю.
– Лепид тайно сговаривается с Секстом Помпеем, намереваясь, как мне представляется, вступить с ним в союз против тебя или Антония – смотря кто окажется слабее. У меня имеются тому доказательства, но, боюсь, если мы предъявим их Лепиду, он станет уверять, что затевает это ради мира и спокойствия Рима… Из сражения при Филиппах Антоний вышел героем, а ты – трусом. Эта свинья, супруга Антония, и его стервятник–брат распространяют слухи о том, что, мол, пока ты, дрожа от страха, прятался среди соляных болот, храбрый Антоний расправился с убийцами Цезаря. Фульвия выступает с речами перед солдатами, где утверждает, что ты и не думаешь выплачивать обещанную им Антонием награду; тем временем Луций колесит по провинции, будоража землевладельцев и землепашцев рассказами о том, что ты собираешься конфисковать их земли для поселения на них ветеранов. Ну что, продолжать дальше?
– Если это надо выслушать, я выслушаю, – чуть заметно улыбнувшись, прошептал он.
– Государство почти на грани банкротства; из тех немногочисленных налогов, которые Лепид способен собрать, лишь ничтожная часть поступает в казну, остальное идет самому Лепиду и, как говорят, Фульвии, которая, тоже по слухам, готовится заиметь свою собственную армию, сверх той, что уже есть у Антония. Твердых доказательств у меня нет, но, я думаю, это правда… Похоже, ничего хорошего тебя в Риме не ждет.
– По мне, даже шаткая позиция в Риме лучше полновластия на Востоке, – ответил он, – хотя я не сомневаюсь, что Антоний рассуждает по–другому. Он ожидает, что если я не умру от болезни, то трудности в самом Риме доконают нас. Но я не собираюсь ни умирать, ни пасть под бременем забот.
Затем он оторвался от подушек и сказал:
– У нас так много дел.
На следующий день, все еще очень слабый, он встал с постели, отмахнувшись от своей болезни как от незначительного пустяка.
Он сказал, что у нас много дел… Мой дорогой Ливий, даже твой замечательный труд – как может он передать то стремительный полет, то медленное течение тех лет после Филипп, все победы и поражения, радости и огорчения, выпавшие на нашу долю? Нет, даже тебе это не по силам, и это только к лучшему. Впрочем, я уклонился от темы, и, хотя при этом не преминул похвалить тебя, ты все равно будешь меня ругать.
Ты попросил меня более детально рассказать о моих обязанностях на службе у императора, как будто моя скромная персона достойна упоминания в твоей истории – такой чести я определенно не заслуживаю. Тем не менее приятно, что меня помнят, даже притом что я давно удалился от общественных дел.
Итак, ты хочешь знать, что входило в мои обязанности при императоре… Должен признаться, что некоторые из них мне теперь представляются достаточно смехотворными, хотя тогда я конечно же так не думал. Например, сватовство. Ныне человек состоятельный и с претензиями, поощряемый нашим императором и его эдиктами, может свободно заключить брак на разумном основании, хотя слово «разумный» не совсем подходящее для такого странного и (как мне иногда кажется) неестественного союза. Все это было невозможно в те дни, о которых я рассказываю, во всяком случае в Риме, а также для тех, кто был на виду. Женились из расчета и политической необходимости – как это случилось со мной, хотя временами а находил компанию моей Теренции достаточно приятной.
Должен сказать, что я неплохо справлялся с этими обязанностями, но не могу не отметить, что ни один из устроенных мной браков не оправдал возлагавшихся на него надежд или хотя бы был необходим. Я всегда подозревал, что именно это обстоятельство позже подтолкнуло Октавия на то, чтобы ввести те не совсем удачные законы о браке, а вовсе не «моральные соображения», как ему приписывалось. Он часто попрекал меня за мои советы в этих вопросах, ибо они с удручающей неизменностью были ошибочными.
Вот тебе наглядный пример – первый брак, который я устроил для него еще до образования триумвирата. Невесту звали Сервилия; она была дочерью того самого П. Сервилия Исавра, который в разгар выступлений Цицерона против Октавия после Мутины согласился выдвинуть свою кандидатуру в старшие консулы вместе с Октавием для противодействия Цицерону, и брак с его дочерью был нашей ему гарантией, что мы готовы оказать ему вооруженную поддержку, если в том будет необходимость. Однако вышло так, что Сервилий оказался совершенно не способен противостоять Цицерону, и толку от него совсем не было; в результате помолвка расстроилась.
Второй случай был еще более смехотворный: на этот раз это была Клодия, дочь Фульвии и падчерица Марка Антония. Помолвка между ней и Октавием стала одним из условий соглашения по триумвирату – таково было желание солдат, и мы не видели причины, по которой могли отказать им в этом капризе, каким бы бессмысленным он ни казался. Девочке было всего тринадцать лет, и она была так же безобразна, как и ее мать. Октавий виделся с ней дважды, если не ошибаюсь, и она так и не переступила порога его дома. Как ты прекрасно знаешь, брак этот нисколько не охладил пыла Фульвии и Антония – они по–прежнему продолжали плести интриги и заговоры, поэтому вскоре после Филипп, когда Антоний был на Востоке, а Фульвия открыто угрожала Октавию гражданской войной, нам надо было дать им ясно понять, что мы об этом думаем, и дело кончилось разводом.
Однако, как мне кажется, его третий брак, за который я целиком и полностью в ответе, вызвал у него наибольшее отвращение. Брак со Скрибонией был заключен через год после развода с Клодией и случился в самое тяжелое для нас время, когда казалось, что мы неминуемо будем сметены или мятежами сторонников Антония в Италии, или вторжением Секста Помпея с юга. В отчаянной попытке заключить с последним союз, я отправился на Сицилию для переговоров – невозможная задача, ибо он был невозможный человек. Мне он казался несколько не в своем уме, повадками больше напоминая зверя, чем человека. Он преступил больше чем просто законы государства и был одним из тех немногих людей, которые вызывали во мне такое почти физическое отвращение, что я с трудом мог выносить их общество. Я знаю, мой дорогой Ливий, что ты в свое время восхищался его отцом, но ты не имел счастья встречаться ни с одним из них и уж точно не знаешь его сынка… И все же я встретился с Помпеем и добился от него, как мне казалось, соглашения, которое мы решили закрепить браком со Скрибонией, младшей сестрой его тестя. Скрибония, Скрибония… Она всегда представлялась мне типичным воплощением слабого пола: в ней уживались холодная подозрительность с прячущимся за маской вежливости дурным нравом, узость мышления – с эгоизмом. Удивительно, как мой друг вообще мог простить мне этот брак – может быть, потому, что он принес ему то, что он любит так же горячо, как он любит Рим, – дочь, его Юлию. Он развелся со Скрибонией в тот же самый день, когда родилась дочь, и остается лишь удивляться, как он мог еще раз решиться на брак. Но он снова женился, на этот раз без моего участия… Как позже выяснилось, брак со Скрибонией был с самого начала ошибкой: пока я вел переговоры с Помпеем, тот уже вовсю сговаривался с Антонием, и предполагаемый брачный союз был всего лишь уловкой, призванной развеять наши подозрения. Таковы были реальности политики в те дни. Однако я должен сказать (хотя и не рискну повторить это в присутствии нашего императора), что, оглядываясь назад, я нахожу во всем этом и свою комическую сторону.
Лишь один случай моего сводничества до сих пор вызывает во мне чувство стыда; даже теперь я не могу с легким сердцем вспоминать о нем, хотя, пожалуй, большого вреда от этого не было.
Примерно в то же самое время, когда я вел переговоры с Помпеем и хлопотал о браке со Скрибонией, варвары–мавры, подстрекаемые Фульвией и Луцием Антонием, восстали претив нашего наместника во Внешней Испании; наши полководцы в Африке, опять же по наущению Фульвии и Луция, затеяли войну друг с другом; Луций, под предлогом того, что его жизни угрожает опасность, повел свои (и Фульвии) легионы на Рим, где его встретил наш друг Агриппа и отогнал его в Перузию, жители которой (по большей части помпеянцы и республиканцы) горячо и охотно принялись помогать Луцию. Мы точно не знали, в какой мере во всем этом замешан Марк Антоний, несмотря на все наши подозрения; поэтому мы не решились воздать Луцию по заслугам из опасения, что, окажись мы не правы, Марк Антоний использует это обстоятельство в качестве предлога для нападения на тс с востока; если же мы правы, то он опять же ложно истолкует наши действия и обрушит на нас свою месть. В результате мы не стали наказывать Луция, но не пожалели тех, кто помогал ему, предав самых закоренелых изменников смерти и отправив в ссылку менее опасных. Остальных жителей мы отпустили с миром, даже возместив им потерю имущества вследствие осады Перузии. Среди попавших в опалу (и это, мой дорогой Ливий, придется по нраву твоему подчас слишком ироничному уму) был и некто Тиберий Клавдий Нерон, которому было позволено удалиться на Сицилию со своим новорожденным сыном Тиберием и молодой женой Ливией.
Во время всех этих тревожных событий в Италии мы не переставали слать Антонию письма, сообщая о действиях его жены и брата и пытаясь выяснить его роль во всех этих беспорядках; и, хотя гонцы доставляли от него письма, ни в одном из них он и намеком не дал понять, что наши послания дошли до него. В самое отчаянное для нас время – зимой – мы писали ему особенно часто, но возможно, из–за того, что почти все морские проходы были для нас закрыты, он не получил наших отчаянных писем. Так или иначе, весна и часть лета прошли, а мы по–прежнему пребывали в неведении относительно его истинных намерений; и вдруг пришло срочное послание из Брундизия о том, что корабли Антония приближаются к его гавани, а флот Помпея спешит присоединиться к нему с севера и что еще раньше, за несколько месяцев до этого, Фульвия отплыла в Афины к мужу.
Мы не знали, чего ожидать, но выхода у нас не было: несмотря на то что наши легионы были разбросаны, занятые защитой границ от многочисленных врагов и подавлением мятежей внутри страны, мы с остававшимися в нашем распоряжении небольшими силами выступили в Брундизий, с опаской ожидая, что Антоний успел высадиться и идет нам навстречу. По дороге нам стало известно, что жители Брундизия не позволили кораблям Антония бросить якорь в их гавани; посему мы решили встать лагерем и ждать дальнейшего развития событий. Если бы Антоний напал на нас тогда со всеми своими силами, нам, без сомнения, было бы несдобровать.
Но он не стал нас атаковать, как, впрочем, и мы его. Наши воины были плохо вооружены и страдали от недоедания; солдаты Антония, с другой стороны, были измотаны походами, и их единственным желанием было увидеть свои семьи в Италии. Стоило той или другой стороне попытаться послать войска в бой, и мятежа было бы не миновать.
И вот однажды наш соглядатай в лагере Антония принес нам удивительные вести: Антоний и Фульвия смертельно поссорились в Афинах; Антоний покинул город вне себя от ярости, а Фульвия скончалась неожиданным и загадочным образом.
Мы стали подбивать наших самых проверенных воинов вступить в переговоры с воинами из противного лагеря, и вскорости поручители от той и другой стороны встретились с предводителями противостоящих войск и потребовали, чтобы Октавий и Антоний снова похоронили свои разногласия и предотвратили очередное братоубийство.
И вот оба предводителя встретились, и войну удалось предотвратить. Антоний уверял, что Фульвия и его брат действовали без его ведома, а Октавий резонно указывал на то, что не стал пытаться им отомстить из уважения к их родственным связям с Антонием. Был подписан договор, объявлена всеобщая амнистия всем врагам Рима и достигнуто соглашение о браке между Антонием и Октавией, старшей сестрой нашего императора, овдовевшей всего несколько месяцев назад и оставшейся одна с младенцем – сыном Марцеллом. Все переговоры относительно этого брака вел я.
Мой дорогой Ливий, ты знаешь мое мнение о слабом поле, но в этом случае даже я почти готов поверить, что мог бы лучше относиться к женщинам, если бы среди них было побольше таких, как Октавия. Я восхищался ею тогда и не перестаю восхищаться ею до сих пор. Нежная и бесхитростная, красивая внешне, она была одной из всего двух известных мне женщин, которые могли похвастаться хорошим знанием и глубоким пониманием философии и поэзии. Другая – это конечно же дочь Октавия Цезаря, Юлия. Октавия, как ты сам понимаешь, была не просто игрушкой в руках мужчин. Мой старый друг Атенодор говорил, что, будь она мужчиной и не такой умной, она могла бы стать великим философом.
Я присутствовал при том, когда Октавий объяснял необходимость этого шага своей сестре, которую он сам очень любил, как тебе известно. Он не смел поднять на нее глаза во все время разговора, но Октавия лишь мягко улыбнулась и сказала:
– Надо так надо – постараюсь быть примерной женой Антонию и останусь хорошей сестрой тебе.
– Это необходимо ради блага Рима, – проговорил Октавий.
– Ради всех нас, – ответила его сестра.
Пожалуй, это и вправду было необходимо: мы надеялись, что этот брак может принести нам прочный мир, и знали, что по меньшей мере он даст нам несколько лет передышки. Но должен тебе признаться, меня до сих пор терзают сожаление и печаль, когда я думаю об этом, – ей, должно быть, пришлось весьма несладко.
Впрочем, вышло так, что Антоний оказался довольно непостоянным супругом – надеюсь, это несколько облегчило ее незавидное положение. Тем не менее она ни разу не помянула Марка Антония плохим словом, даже по прошествии многих лет.
Глава 5
I
Письмо: Марк Антоний – Октавию Цезарю из Афин (39 год до Р. Х.)
Антоний – Октавию, мои приветствия. Я не знаю, чего еще тебе нужно от меня: я отрекся от своей покойной жены и погубил карьеру брата лишь потому, что их поведение вызвало твое неудовольствие; для укрепления нашего совместного правления я женился на твоей сестре, которая, хоть и неплохая жена, тем не менее не в моем вкусе; в доказательство своих честных намерений я отослал Секста Помпея со всем его флотом обратно на Сицилию, хотя, как тебе хорошо известно, он готов был поддержать меня в случае войны между нами; в целях дальнейшего укрепления твоей власти я согласился лишить Лепида всех его провинций, за исключением Африки; вскоре после женитьбы на твоей сестре я даже согласился принять сан жреца обожествленного Юлия Цезаря, хотя по сю пору нахожу это весьма странным – быть жрецом культа своего старого друга, с которым мы вместе пьянствовали и распутничали; к тому же это принесло больше пользы тебе, чем мне; и наконец, я добровольно покинул родину для сбора на Востоке средств, чтобы обеспечить нашей власти будущее, а также навести хоть какой–то порядок в наших восточных провинциях, ввергнутых в хаос. Как я уже сказал, я не знаю, чего еще тебе нужно.
И если я позволил грекам делать вид, что они принимают меня за возрожденного Вакха [38] (или Диониса, если тебе это больше нравится), то лишь затем, чтобы использовать их любовь ко мне для управления ими. Ты укоряешь меня тем, что я «прикидываюсь греком», и осуждаешь за то, что я согласился предстать живым воплощением Вакха на празднествах в честь Афины—Паллады [39]; но должен тебе сообщить, что, сделав это, я, со своей стороны, настоял, чтобы божественная Афина принесла мне приданое, тем самым пополнив казну в гораздо большей степени, чем посредством налогов, а заодно избежал недовольства местного населения, которое неизбежно вызвали бы дополнительные налоги.
Что касается вопроса о Египте, который ты так деликатно затронул, то могу сказать тебе следующее: во–первых, я и вправду принял к себе на службу отдельных подданных царицы – это поможет мне в моих делах и, кроме того, это необходимо из соображений дипломатии. Впрочем, даже если бы я решился на это только из прихоти, я не вижу причин для твоих возражений; с Аммонием ты лично знаком, ибо он был другом твоему покойному дяде (или отцу, если тебе так теперь угодно) и служит мне столь же верно, как служил Юлию и своей царице; что же касается Эпимаха, которого ты называешь «обычным гадателем», то это лишь свидетельствует (да простится мне такая вольность) о твоем полном незнании Востока. Этот «простой гадатель» – необычайно важная фигура: он верховный жрец Гелиополиса, земное воплощение Тота [40] и хранитель магических книг. Он играет гораздо более значительную роль, чем любой из наших так называемых жрецов; кроме того, он оказывает мне полезные услуги, и к тому же я нахожу его весьма занятным.
Во–вторых, я никогда не делал секрета из моих отношений с царицей два года назад в Александрии. Но должен напомнить тебе, что то было два года тому назад, задолго до того, как кто–либо из нас мог предположить, что однажды я стану твоим зятем. И нет никакой необходимости раздувать историю с близнецами, которыми Клеопатра одарила меня; мои или не мои – не имеет значения, ибо всем известно, что у меня имеются дети по всему миру, и эти двое значат для меня не больше и не меньше всех остальных. Когда у меня появляется свободное время, я нахожу отдых от трудов в развлечениях, которым предаюсь где и когда хочу, и вовсе не собираюсь отказываться от этой привычки. По крайней мере, мой дорогой зять, я не пытаюсь скрывать свои пристрастия под маской лицемерного благочестия. Что же до твоих собственных похождений, то должен тебе сказать, они совсем не такая уж тайна, как тебе думается.
Ты плохо меня знаешь, если всерьез думаешь (при условии, что это не поза), что моя связь с Клеопатрой имеет хоть какое–то отношение к моему признанию ее владычества над Египтом. И если это на пользу мне, то, без сомнения, это выгодно и тебе. Египет – богатейшая из всех восточных стран, и его казна всегда будет открыта для нас в случае надобности. Кроме того, это единственная держава на Востоке, имеющая хоть какое–то подобие армии, и по крайней мере часть этой армии будет в нашем распоряжении. И наконец, последнее: проще иметь дело с одним сильным монархом, чувствующим (или чувствующей) себя более или менее уверенно на своем трене, чем с полудюжиной слабых, опасающихся в любой момент потерять свою власть.
Надеюсь, ты достаточно умен, чтобы понять это, как и многое другое.
И можешь не рассчитывать, что я приму условия игры, в которую ты играешь.
II
Письмо: Марк Антоний – Гаю Сентию Таву (38 год до Р. Х.)
Мальчишка и наглый лицемер! Я даже не знаю, что мне делать – смеяться или сердиться: смеяться над его лицемерием или сердиться на то, что может скрываться за ним.
Неужели он полагает, что я, сидя здесь, в Афинах, не получаю сведения обо всем, что происходит в Риме? Меня нимало не занимают его собственные делишки, и я не имею привычки напускать на себя вид оскорбленной добродетели, как это свойственно ему. Он может разводиться со всеми этими Скрибониями сколько его душе угодно, даже в тот самый день, когда она рожает ему дочку (зная Скрибонию, можно с уверенностью сказать, что это его дочь); буквально через неделю после этого он может взять себе другую жену, к тому времени беременную ребенком своего бывшего мужа, вызвав тем самым публичный скандал (помимо других, более частных, о которых ты мне сообщаешь), – и не услышит от меня ни слова осуждения; по мне, он может быть сколь угодно эксцентричным в своих личных пристрастиях.
Но я хорошо знаю моего вновь приобретенного «родственника» – он ничего не делает под влиянием минуты или каприза; это такое хладнокровное существо, что порой невозможно не восхищаться им.
Всем ясно, что его развод со Скрибонией означает разрыв отношений с ее родственником Секстом Помпеем. Как это понимать? Почему со мной никто не посоветовался? Значит ли это, что мы пойдем войной против Помпея? Или Октавий собирается расправиться с ним в одиночку?
А эта его новая жена, Ливия? Ты говоришь, Октавий когда–то выслал ее мужа из Италии за его республиканские взгляды и участие в перузийском мятеже. Значит ли его новый брак, что он снова пытается заигрывать с партией республиканцев? Трудно сказать, что за этим всем скрывается… Пиши почаще, Сентий, держи меня в курсе событий – нынче так мало кому можно верить. Жаль, я сам не могу быть в Риме – мне нельзя бросить свои дела здесь.
Я постоянно пытаюсь убедить себя, что моя жизнь, как она есть сейчас, стоит того. Моя нынешняя жена холодна и благопристойна не на словах, как ее братец, а на деле. И хотя я по–прежнему нахожу развлечения то здесь, то там, мне приходится быть до такой степени осторожным, что все удовольствие практически сводится на нет. Каждый день меня так и тянет выставить ее за ворота, но у меня нет на то веской причины, к тому же она беременна, и, кроме того, развод с ней сейчас приведет к разрыву с ее братом, чего я позволить себе не могу.
III
Эпимах, верховный жрец Гелиополиса – Клеопатре, живому воплощению Изиды и царице обоих миров Египта: выдержки из донесений (40–37 годы до Р. Х.)
Приветствую вас, достопочтенная царица. Сегодня Марк Антоний и Октавий Цезарь метали кости – сначала развлечения ради, а потом Марк Антоний отчаянно пытался отыграться. Все три часа он постоянно проигрывал – примерно из каждых четырех бросков лишь один приносил победу ему. Октавий остался весьма доволен, Антоний – раздражен. Я гадал на песке, затем, погрузившись в транс, поведал им историю Эврисфея [41] и Геракла, который вынужден был прислуживать Эврисфею по злокозненности богов. Предположим, в своем следующем письме к нему вы невзначай упомянете о том, что вам приснился сон, будто ему пришлось заниматься неким унизительным делом для кого–то более слабого и недостойного, чем он сам. Я был серьезен и важен, а вы должны быть шутливы и легковесны.
Мои гадания не помогли – он женился на Октавии, сестре своего врага, уступив пожеланиям черни и легионеров.
Посылаю вам две восковые фигурки; найдите во дворце уединенную комнату с одной дверью, поставьте фигурку Антония в той части комнаты, где расположен вход, а фигурку Октавии – в противоположном конце. Все это вы должны проделать своими руками, без посторонней помощи. Затем возведите между ними толстую глухую стену от пола до самого потолка. Каждый день на восходе и на закате мой жрец Эпиктет будет произносить заклинания, оставаясь за пределами комнаты, – он знает, что делать.
Мы едем в Афины с Октавией, которая ждет ребенка и должна разрешиться через три месяца. Я подарил Антонию пару похожих как две капли воды борзых, которых он выставлял на бегах и безумно к ним привязался. В день рождения ребенка Октавии я сделаю так, чтобы они вдруг исчезли без следа. Через две–три недели вы должны написать ему о сне, в котором вы видели его близнецов.
Ребенок Октавии оказался девочкой, так что он по–прежнему остается без наследника. Бог солнца покорился нашей воле и внял нашим просьбам.
Он ссорится с Октавием; Октавия примиряет их, взяв сторону мужа. Подозрения Антония относительно ее почти совсем исчезли, и, похоже, он как бы нехотя, но любит ее, несмотря на то что она выводит его из себя своим спокойствием и невозмутимостью. Продолжает ли Эпиктет исправно произносить заклинания, как вы наказали ему?
Ему приснился сон, в котором он видел себя привязанным к кровати в охваченном огнем шатре; воины его армии проходили мимо и никак не откликались на его призывы о помощи, как будто не слышали их. Наконец ему удалось разорвать путы, но вокруг него бушевало такое пламя, что он не знал, куда бежать. Он проснулся, объятый страхом, и позвал меня.
После трех дней поста я дал ему толкование его сна: огонь – это заговоры против него в Риме, раздуваемые и поощряемые Октавием Цезарем; то, что он был в шатре, раскрывает, во–первых, его положение (он не имеет постоянного и надежного места в римском мире) и, во–вторых, его природу (воина); путы, связывающие его, указывают на то, что своим бездействием он пошел против собственной природы и позволил себе растерять свою силу и потому не способен противостоять плетущимся против него интригам и превратностям судьбы; то, что солдаты не слышали его призывов, говорит о том, что, изменив себе, он утерял власть над своими людьми и что он, строго говоря, человек дела, а не болтун, и люди склоняются перед его поступками, а не словами.
Он погружен в размышления и пристально смотрит на карты. Я храню молчание, но полагаю, он опять подумывает о походе на парфян. Для этого, как ему станет известно, он нуждается в вашей помощи. Осторожно дайте понять, что она будет ему предоставлена. Таким образом, вы снова вовлечете его в наше дело, к вящей славе Египта.








