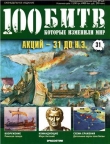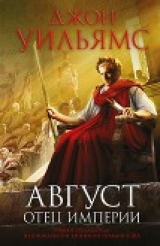
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Отец мрачно взглянул на нее и сказал:
– В таком случае император выкажет свою скорбь так, как приличествует императору. Но скажи, как пристало выразить свою скорбь человеку?
Лишь Теренция сумела по–настоящему утешить его – она горько оплакивала смерть общего друга и вспоминала добрые старые времена, пока наконец мой отец не забыл о своем величии и тоже не разрыдался. В конце концов ему пришлось самому успокаивать Теренцию, и в этом он нашел утешение и для себя.
…Не знаю даже, почему именно сегодня я вдруг вспомнила о Теренции и о смерти Вергилия? Сегодня, когда утро выдалось ясное, на небе ни облачка, и вдали за моим окном, на востоке, мне хорошо виден мыс, выступающий в море далеко за Неаполисом? Может быть, потому, что Вергилий иногда жил там, когда покидал Рим, или потому, что он любил Теренцию в столь характерной для него угрюмой манере, за которой скрывалось так много истинного чувства. А Теренция – настоящая женщина, какой и я когда–то была.
Когда–то была… Может ли быть так, что Теренцию вполне удовлетворяла отведенная ей роль, в то время как меня она тяготила? Когда я жила в том мире, мне казалось, что ее устраивало такое положение вещей, за что я втайне презирала ее. Теперь я даже и не знаю: чужая душа – потемки, а я и в своей–то не разберусь.
IX
Письмо: Николай Дамаскин – Страбону Амасийскому (18 год до Р. Х.)
Ирод в Риме. Он весьма доволен моим «Жизнеописанием», которое опубликовано за границей, и выразил пожелание, чтобы я по–прежнему оставался в столице, дабы у него имелась надежная связь с императором. Как ты сам догадываешься, положение мое довольно деликатное, но я уверен, что справлюсь с возложенными на меня обязанностями. Ироду известно, что я пользуюсь расположением и доверием императора, и я надеюсь, он достаточно мудр, чтобы понимать, что я не стану ими злоупотреблять, и в то же время достаточно практичен, чтобы по меньшей мере знать, что если я и решусь на это, то уже буду без пользы как Октавию Цезарю, так и ему самому.
Несмотря на твои любезные похвалы, я пришел к выводу, что мне не стоит продолжать задуманное мной сочинение, которое я назвал «Беседы с выдающимися римлянами». После более короткого знакомства с этими людьми я вынужден признать, что они не поддаются описанию в рамках Аристотелева метода, на котором мы с тобой выросли. Это непростое для меня решение, ибо оно может обозначать только две вещи: либо то, что данный метод несовершенен, либо то, что я вовсе не такой уж хороший ученик великого грека, каким я себя мнил. Первое из этих предположений почти немыслимо, а второе – слишком унизительно, чтобы его рассматривать. Посему я делаю это признание только тебе, другу моей юности.
Позволь мне продемонстрировать свои слова на таком примере.
Весь Рим до сих пор гудит как растревоженный улей по случаю последнего закона, принятого сенатом, который недавним эдиктом Октавия Цезаря был сокращен до шестисот членов. Скажу вкратце – это попытка упорядочить обычаи, регулирующие вступление в брак в этой непонятной стране, те самые обычаи, существование которых в последнее время признается скорее посредством их нарушения, чем строгого им следования. Среди прочего новый закон дает рабам больше прав для вступления в брак и владения собственностью, чем они имели до сих пор, что вызвало некоторое неудовольствие в определенных кругах; но оно без следа потонуло среди отчаянных воплей возмущения по поводу двух других, гораздо более поразительных разделов закона, из которых первый запрещает любому гражданину, уже имеющему или могущему в будущем иметь, согласно своему имущественному цензу, право быть избранным в сенат, жениться на вольноотпущеннице, актрисе или дочери актера или актрисы. Дочери или внучке сенатора запрещается выходить замуж за вольноотпущенника, актера или сына представителей актерской профессии. Ни один свободнорожденный гражданин независимо от общественного положения не может жениться на куртизанке, своднице, на женщине, имевшей судимость или бывшей актрисе, а также на любой женщине вне зависимости от ее положения, задержанной и осужденной по суду за акт прелюбодеяния.
Второй раздел закона еще более радикальный, чем первый: он разрешает (хотя и не вменяет в обязанность) отцу, заставшему соблазнителя своей дочери в своем собственном доме или доме зятя, безнаказанно убить такового соблазнителя; точно так же он волен поступить и с дочерью. Муж имеет право самолично разделаться с обидчиком, но не с женой, преступные действия которой он обязан осудить и немедленно с ней развестись; в противном случае ему самому грозит наказание за сводничество.
Как я уже заметил выше, весь Рим взбудоражен: повсюду распространяются злые памфлеты; город полон слухов, и у каждого жителя имеется особое мнение о том, как это все понимать. Некоторые принимают это всерьез, другие – нет; одни говорят, что новому закону более пристало называться ливийским, чем юлианским, подозревая, что Ливия каким–то неведомым образом сумела протащить его за спиной Октавия Цезаря в отместку за его любовную связь с некой дамой, являющейся помимо всего прочего женой его друга; другие же относят закон на счет самого Октавия, при этом враги императора разыгрывают возмущение его двуличием, а друзья воспринимают как попытку возврата к «традиционной римской добродетели»; есть и такие, которые видят в этом некий заговор со стороны либо самого Октавия Цезаря, либо его врагов.
Среди царящей вокруг сумятицы сам император остается предельно спокоен, как будто и понятия не имеет, что говорят или думают другие. Но это не так – он всегда и все знает.
Вот тебе одна сторона этого человека.
А вот и другая, о которой известно лишь мне и некоторым из его друзей. Она совсем не похожа на ту, о которой я говорил выше.
Я не раз присутствовал на официальных приемах в его доме на Палатине, где целиком и полностью царствует Ливия. Визиты эти я находил приятными и вовсе не утомительными; при этом Октавий и Ливия, держались друг с другом необыкновенно любезно, если не сказать, сердечно. Кроме того, я бывал в гостях у Марка Агриппы и Юлии, где встречал Октавия, обычно в компании с Теренцией, женой Гая Мецената, а также у самого Мецената, где мы проводили время в самой задушевной и интимной обстановке, опять же в обществе Октавия и Теренции. При этом все трое вели себя с непосредственностью старых друзей.
О его связи с Теренцией известно всем, и не первый год.
Еще один штрих; он, подобно философу, не верит в старых богов своей страны, но, словно простой крестьянин, чрезвычайно суеверен. Он прибегает к предсказаниям всякий раз, когда берется за какое–нибудь дело, и убежден в их истинности благодаря своему умелому пользованию ими; он смеется (но по–доброму) над тем, что он называет «трансцендентной напыщенностью» бога моих соотечественников, и не перестает удивляться лености народа, не потрудившегося придумать себе больше чем одного бога. Он как–то сказал: «Богам надлежит быть во множестве, дабы они могли бороться друг с другом, как люди… Нет, я не думаю, что этот ваш странный иудейский бог подойдет нам, римлянам». Помнится, когда я журил его (к тому времени мы стали очень близки) за то, что он придавал такое большое значение знамениям и вещим снам, он ответил: «Не раз и не два мне удалось спастись лишь благодаря моей вере в вещие сны. Стоит им однажды подвести меня, и я тут же перестану в них верить».
За что бы он ни брался, он ко всему подходит с величайшей осторожностью и осмотрительностью и никогда не оставляет на волю случая то, чего можно добиться тщательной подготовкой; и в то же самое время ничто не увлекает его больше, чем игра в кости, которой он может предаваться часами. Бывало, он отряжал ко мне гонца и, узнав, что я располагаю временем, приглашал составить ему компанию, что я и делал, хотя, признаться, получаю большее удовольствие от наблюдения за ним, чем от самой глупой игры в случай, к которой он подходит со всей серьезностью, как если бы от ее исхода зависела судьба империи; и когда после двух или трех часов игры он оказывался в выигрыше, пусть даже всего нескольких серебреников, то радовался так, как будто покорил Германию.
Однажды он признался мне, что в молодости мечтал стать литератором и даже писал стихи, составляя конкуренцию своему другу Меценату.
– Где они сейчас, твои стихи? – спросил я.
– Утеряны, – ответил он с грустью, – пропали при Филиппах. Я даже как–то написал трагедию в греческом стиле.
Я не удержался, чтобы не поддеть его:
– Об одном из ваших странных богов?
– Нет–нет, – рассмеялся он. – О смертном. О глупце, обуянном гордыней, – греке Аяксе [53], лишившем себя жизни, бросившись на меч.
– И что, она тоже утрачена?
Он кивнул:
– Я из скромности снова лишил его жизни – на этот раз с помощью ножа для соскабливания текста… То была не очень удачная попытка в сочинении трагедии – мой друг Вергилий заверил меня в этом.
Мы оба замолчали. Лицо Октавия помрачнело, и он сказал чуть ли не грубо, бросив на стол кости:
– Пойдем сыграем еще.
Понимаешь теперь, что я имею в виду, мой дорогой друг Страбон? Как много всего осталось за пределами моего рассказа! Я почти готов поверить, что не существует такой формы, которая позволила бы мне сказать то, что я хочу сказать.
X
Письмо: Квинт Гораций Флакк – Октавию Цезарю (17 год до Р. Х.)
Прости меня за то, что я отослал обратно гонца, не ответив на твое приглашение. Он сообщил мне, что ты приказал ему дождаться меня, но я отпустил его под свою ответственность.
Ты просишь меня сочинить хорал для празднеств по случаю столетия основания города, которые ты назначил на май. Я чрезвычайно польщен твоим доверием, хотя мы оба прекрасно понимаем, что того, кто действительно заслуживает этой чести, уже нет в живых; мне также известно, какое исключительно большое значение ты придаешь этим торжествам.
Посему ты не можешь не удивляться моим колебаниям по поводу твоего заказа, из–за которых я всю ночь не сомкнул глаз. В конце концов я пришел к выводу, что почту за долг и высокую честь принять твое предложение; однако предварительно должен поставить тебя в известность относительно того, что вызвало мои сомнения.
Я отлично понимаю всю сложность стоящей перед тобой задачи по управлению тем удивительным народом, который я одновременно люблю и ненавижу, и еще более удивительной империей, наводящей на меня страх и заставляющей испытывать гордость за то, что я именуюсь римлянином. Я знаю, может быть, даже лучше, чем многие другие, сколь многим ты пожертвовал ради спасения нашего государства; и мне известно, с каким презрением ты всегда относился к той власти, что против твоей воли была возложена на тебя, ибо только тот, кто презирает власть, мог так умело ею распорядиться. Все это – и многое другое – мне хорошо известно. Поэтому, когда я решаюсь поспорить с тобой, я прекрасно понимаю, какой незаурядный ум мне противостоит.
И все же я никак не могу убедить себя, что твои новые законы способны принести что–либо иное, кроме горя, – как для тебя, так и для всей страны.
Мне хорошо известно, сколь низко пали нравы в нашем городе и что ты хочешь остановить это разложение – в чем, как я понимаю, и заключается идея твоих законов. В тех кругах, в которых ты вращаешься и которые я имею возможность наблюдать, совокупление стало действием, направленным на достижение власти – либо политической, либо светской; прелюбодей может представлять собой большую угрозу – как тебе лично, так и государству, – чем даже заговорщик; естественный акт, единственная цель которого есть чувственное наслаждение, превратился в опасное средство осуществления честолюбивых устремлений. Так, раб может получить власть над сенатором, а через него – над рядовыми гражданами, что неизбежно приведет к крушению всего заведенного порядка. Как видишь, я догадываюсь, что ты стремишься предотвратить своими законами.
Однако ты и сам не захотел бы, чтобы они проводились в жизнь без разбора, с положенной закону неукоснительностью, ибо это окажется гибельным и для тебя, и для твоих ближайших друзей. И хотя те, кто знает твои намерения, понимают, что ты просто хочешь обозначить тенденцию, дать некий идеал, основная масса твоих врагов не станет вдаваться в такие тонкости; и может случиться так, что твои законы против прелюбодеяния обернутся еще большим злом, чем то, против которого они направлены.
Ибо нет такого закона, который мог бы регулировать душевные порывы или обусловливать стремление к добродетели. Это область поэтов или философов, которые обладают даром убеждения, поскольку не имеют реальной власти; та же власть, коей обладаешь ты (и которой, как я уже отмечал, ты так мудро пользовался в прошлом), бессильна против страстей человеческих, какими бы разрушительными они ни были.
Тем не менее я напишу ораторию, о которой ты меня просишь, и приложу все усилия для того, чтобы оправдать оказанную мне честь. Я разделяю твои чаяния и надежды, но боюсь мер, которыми ты намерен осуществить их. Я ошибался относительно тебя в прошлом; надеюсь, ошибаюсь и сейчас.
XI
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
Доживая свои дни на этом острове–тюрьме, я отстраненно размышляю о том, что мне, пожалуй, и не пришло бы в голову раньше, когда впереди была вся жизнь.
Внизу в своей маленькой спальне крепко спит мать; служанка тоже не подает признаков жизни; даже море, обычно с шумом накатывающееся на прибрежный песок, неподвижно. Полуденное солнце плавит темные скалы, которые жадно вбирают в себя его жар лишь затем, чтобы снова испустить его в неподвижный воздух; в тяжелом зыбком мареве нет ни малейшего движения – даже случайная чайка не тревожит его. И среди этого покоя и безразличия я покорно жду своего конца.
Да, я живу в мире безвластия, где все незначительно, в отличие от того мира, из которого я вышла, где все было власть и все имело значение; где даже любят ради власти и конечная цель любви не радость, приносимая ею, а бесчисленные утехи власти.
Девять лет я была замужем за Марком Агриппой, и в глазах всего света я была ему примерной женой; я принесла ему четверых детей при его жизни и еще одного – после смерти. Все они принадлежали ему, и трое из них, поскольку были мальчиками, могли бы что–то значить в этом мире. Однако судьба распорядилась иначе.
Как мне кажется, именно после рождения моих сыновей Гая и Луция я впервые по–настоящему познала ту самую неудержимую из всех страстей – жажду власти. Мой отец немедленно усыновил их, давая, таким образом, понять, что в случае его смерти в первую очередь мой муж, а за ним тот или другой из моих сыновей унаследует титул императора и звание первого гражданина Римской империи. И вот на двадцать втором году жизни я узнала, что, не считая Ливии, я самая могущественная женщина в мире.
По мнению философов, власть – ничто, но откуда им знать, не изведавши ее? Как может евнух, никогда не знавший женщины, вожделеть к ней? Всю свою жизнь я не могла взять в толк, почему мой отец не умел постичь радости обладания властью, которой жила я; именно благодаря ей я была столь счастлива с Марком Агриппой, который (как часто в сердцах говорила Ливия) годился мне в отцы.
Я часто думала, что я могла бы сделать с этой властью, если бы не была женщиной. По заведенному обычаю, даже наиболее влиятельные женщины, такие, как Ливия, и те обязаны были держаться в тени и напускать на себя покорность, зачастую им вовсе несвойственную. Я рано поняла, что такой путь не для меня.
Я помню, как однажды, когда отец укорял меня тем, что я говорила в неподобающей (как он полагал) для женщины заносчивой манере с одним из его друзей, я ответила, что даже если он порой забывает, кто он есть, то я всегда помню, что я – дочь императора. Эта моя колкость в дальнейшем получила широкое хождение в Риме. Отец, похоже, находил ее забавной, ибо не раз потом повторял мои слова. Мне кажется, он не понял, что я имела в виду.
Я была дочерью императора и женой Марка Агриппы, друга моего отца, но прежде и помимо всего – дочерью Октавия Цезаря, и мой первейший долг был – перед Римом.
И все же что–то внутри меня отчаянно сопротивлялось такому порядку вещей, который, как я прекрасно знала, так много требовал от человека и так мало давал взамен. И с каждым проходящим годом это чувство во мне росло все сильнее…
Только что, несколькими строчками выше, я говорила о власти и радости обладания ею. И вот теперь я размышляю о тех окольных путях, которые приходится выбирать женщине, чтобы познать утехи власти, суметь добиться ее и затем наслаждаться ею. В отличие от мужчины, она не может захватить ее простой силой, ловкостью ума или напором страсти, как не может она и открыто упиваться ею – а в этом–то и есть высшее наслаждение обладания властью и то, что питает ее. Посему женщина всегда должна иметь под рукой маску, за которой она может спрятать от мира свое сокровище. Так, у меня на протяжении жизни было несколько личин, за которыми я скрывалась от чересчур пытливых взглядов: личина невинной девочки, не знавшей жизни, на которую души в ней не чаявший отец расточал свою невостребованную любовь; добродетельной жены, единственной радостью которой был ее долг перед мужем; властной молодой матроны, малейший каприз которой тут же становился волею народа; не обремененного заботами ученого, мечтающего о добродетели более высокого свойства, чем просто служение Риму, и наивно делающего вид, что верит в правоту философии; женщины, лишь в зрелые годы познавшей вкус плотских наслаждений и жадно вкушавшей их, как если бы они были амброзией со стола богов, женщины, в конце концов самой ставшей орудием в руках других, что принесло ей величайшее из когда–либо изведанных наслаждений…
Мне было двадцать один год, когда мой отец устроил празднования в честь столетия основания Рима; в этот же год я родила своего второго сына. Отец с моим мужем были главными действующими лицами во всех церемониях, где они приносили жертвы тем самым богам, потомки которых, как говорят, основали наш город. Мне и Ливии выпало делить обязанности хозяек на пиру, устроенном для ста самых знатных замужних дам города: я восседала на троне Дианы, а Ливия напротив меня – на троне Юноны, принимая ритуальное поклонение. Я видела лица наиболее богатых и влиятельных дам в Риме, смотревших на меня снизу вверх; я знала, что многие из них были замужем за врагами моего отца, которые с готовностью расправились бы с ним, не удерживай их страх. И вот теперь все эти могущественные матроны глядели на меня со странным выражением, которое сопутствует признанию власти; на их лицах я читала не любовь или уважение, не ненависть и даже не страх – нет, это было что–то такое, с чем я никогда не сталкивалась раньше, и на мгновение я почувствовала себя так, как будто заново родилась.
Через несколько недель после завершения празднеств мой муж отбывал на Восток – в провинции Малая Азия, Македония, где мой отец провел свое отрочество, Греция, Понт и Сирия, в общем, туда, куда его звали дела. Действительно, мое желание сопровождать его в этой поездке шло вразрез со всеми принятыми нормами, и прежде мне и в голову не пришло бы бросить им вызов.
Тем не менее я поехала с ним, несмотря на гнев отца и его безуспешные попытки переубедить меня. Я помню, как он сказал: «Никогда за всю историю Рима жена проконсула не сопровождала его и его солдат в чужеземные края – это дело вольноотпущенниц и куртизанок».
На что я ответила: «Вот и посмотрим, кого ты предпочитаешь: куртизанку мужа или любовницу всего Рима».
Мой ответ был довольно легкомысленным, каким отец и воспринял его, и, хотя тогда я и не имела ничего такого в виду, позже мне пришло в голову, что я не шутила и, возможно, была гораздо серьезнее, чем сама думала. В любом случае отец в конце концов уступил, и я присоединилась к свите моего мужа и впервые за всю свою жизнь вместе с детьми и слугами пересекла границу Италии.
Из Брундизия через узкий пролив, где Адриатическое море сливается со Средиземным, мы прибыли в Аполлонию; здесь мы посетили места, где мой муж с моим отцом провели столько времени вместе, будучи еще совсем мальчишками. Наше пребывание там было приятным и необременительным, но мне не терпелось двинуться дальше и увидеть места более необычные, где не ступала нога римлянина. Из Аполлонии мы проехали через всю Македонию в новые земли Мезии вплоть до реки Данувий; я видела странных людей, которые, едва завидя наши повозки, запряженные лошадьми, бросались обратно в лес, из которого их выгнало любопытство, и ни за что не желали из него выходить; они говорили на незнакомых языках, и многие из них были одеты в шкуры диких животных. Я также могла наблюдать невеселую жизнь солдат, имевших несчастье служить на этом далеком краю империи. Они, как ни удивительно, не роптали, а мой муж говорил с ними так, как будто естественней их жизни ничего и быть не может. Я сама уже почти не помнила, что большую часть своей собственной жизни, еще до того, как я родилась, он провел именно так.
Закончив ранней осенью инспекцию данувийских гарнизонов, мы поспешили повернуть на юг, пока нас не застала суровая северная зима. Я уже чуть не пожалела о моем решении сопровождать Марка Агриппу в его путешествиях и стала скучать по удобствам римской жизни.
Но после отдыха в Филиппах я снова воспрянула духом. Мой муж провел меня по местам, где он сражался против Брута и Кассия, и рассказал множество историй о тех далеких днях; а потом мы не торопясь вернулись на берега Эгейского моря, от которых по его голубым водам поплыли среди скоплений островов; по мере того как мы продвигались к югу, климат становился все теплее.
И я начала понимать, зачем боги увели меня так далеко от города, в котором я родилась.