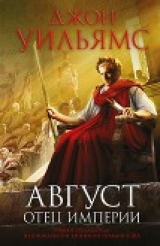
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Глубокая тишина повисла над залой; Гораций снова зачерпнул полную чашу вина и выпил ее до дна.
– Боги в своей мудрости, – сказал он, – подают нам знамения – стоит лишь прислушаться. Теперь я расскажу вам о другом Орфее, не сыне бога и богини, а об италийском Орфее, отец которого был рабом, а у матери не было даже имени. Некоторые, без сомнения, лишь посмеются над таким Орфеем, но насмешники эти забывают, что все римляне происходят от бога – и потому носят имя его сына – и от смертной женщины, от которой унаследовали принадлежность к роду человеческому. Посему даже на карлика с копной сена на голове может снизойти милость богов, если он рожден землей, любимой Марсом… Тот Орфей, о котором я говорю, не золотую лиру, а тусклый светильник получил в дар от своего незнатного отца, готового жизнь положить за то, чтобы сын его выбился в люди. И вот еще в детстве этот молодой Орфей сподобился увидеть свет Рима, как и сыновья богатых и могущественных мира сего; а потом в юные годы на средства своего отца он приобщился к свету, исходящему из обители всех мыслимых знаний – Афин. В нем страстно пылал огонь любви, но не к женщине: его Эвридикой было знание, незримый мир грез, которому он посвятил свои песни. Но сей мир света, мечту об абсолютном знании затмила тень междоусобной распри; и, отринув свет, молодой Орфей вверг себя во тьму, дабы вернуть свою мечту; и при Филиппах, почти совсем позабыв свою песнь, он бился против Того, кого считал порождением сил тьмы. А потом боги или демоны – он и посейчас не знает точно – благословили его даром малодушия и наказали ему бежать с поля боя, пока его мечта и знание еще живы, и не оглядываться назад, на то, что он оставлял за собой. Но как и тот, другой Орфей, на самом пороге царства мрака он оглянулся, и мечта его, словно туман, растаяла без следа во тьме времени и пространства. Он увидел мир и свое одиночество в нем – без отца, без имущества, без надежды, без мечты… И вот тогда боги наконец вручили ему золотую лиру и велели играть на ней, следуя своему сердцу, а не их прихоти. Боги мудры в своей безжалостности, ибо теперь тот, кто не имел голоса, запел. Прекрасные фракийские девы не приходят обольстить его и не предлагают ему своих прелестей – он довольствуется услугами честной блудницы, оплатив их сполна. И когда он поет, то не безумные девы, а жалкие шавки пытаются своим тявканьем заглушить его голос; и чем дальше, тем больше их становится, и, без сомнения, и его тело будет однажды разорвано на части, хоть его песнь и звучит громче, чем тявканье; и так, с песней на устах, несет его судьба в море забвения, которое поглотит нас всех… Такова, мои благородные господа, скучная история местного Орфея, и я желаю вам всего доброго и оставляю с его песнями.
Мой дорогой Вергилий, я не могу сказать, сколько времени длилась пауза после его слов, как не могу назвать и причину ее – было ли то потрясение и страх или все присутствующие (включая и меня) пребывали в завороженном состоянии, словно и вправду услышали волшебную лиру Орфея. Тускло горящие факелы бросали дрожащие отсветы по стенам, и мне вдруг на мгновение почудилось, будто мы все находимся в том самом подземном царстве, о котором говорил Гораций, и только–только выходим из него на свет, не осмеливаясь оглянуться назад. Наконец Мевий пошевелился и с возмущением в голосе прошептал, прекрасно сознавая, что будет услышан тем, кому его слова предназначались:
– Филиппы, силы тьмы – какая чепуха! Это же измена, заговор против триумвира!
На протяжении всего выступления Горация Октавий сидел не шевелясь. Но вот он приподнялся со своего ложа и уселся рядом с Ливией.
– Измена? – мягко спросил он. – Нет, это не измена, Мевий. И пожалуйста, не говори больше об этом в моем присутствии.
Он встал и через всю комнату прошел к тому месту, где сидел Гораций.
– Ты не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? – спросил он.
Наш юный друг молча кивнул. Октавий сел рядом с ним, и они стали тихо беседовать. После этого Мевий до самого конца не проронил ни слова.
Так, мой дорогой Вергилий, наш Гораций, которого мы с тобой полюбили всей душой, нашел себе друга в лице Октавия Цезаря. Должен сказать, что в общем и целом вечер удался.
IV
Письмо: Мевий – Фурию Бибакулу из Рима (январь, 38 год до Р. Х.)
Мой дорогой Фурий, я все никак не мог решиться написать тебе подробно о том злополучном вечере в доме Клавдия Нерона прошлым сентябрем, где единственным утешением было отсутствие нашего «друга» Вергилия. Но, возможно, это даже и к лучшему, ибо определенные события, произошедшие с тех пор, представили все это дело в еще более нелепом свете, чем казалось тогда.
Я уже не припомню всех, кто был там, – конечно, Октавий и эти его странные друзья: этруск Меценат, усыпанный драгоценностями и надушенный с головы до ног, и Агриппа, от которого так и разит потом и сырой кожей. Все мероприятие явно было задумано как литературный вечер, но, друг мой милый, если бы ты знал, как низко пала наша изящная словесность! По сравнению с нынешними литераторами даже вечно хныкающий жалкий мошенник Катулл почти сойдет за поэта. Там был этот надутый осел Поллион, перед которым приходится расшаркиваться из–за его богатства и политической власти и который часами утомляет своими сочинениями тех, кто имел глупость откликнуться на его приглашение и теперь вынужден, с трудом подавляя смех, выслушивать его трагедии и разыгрывать глубокое волнение от его виршей; Мацер, обнаруживший десятую музу, музу скуки; а также этот невозможный выскочка Гораций, которого я, да будет тебе известно, на глазах у всех присутствующих довольно успешно осадил. Словоохотливые политики, напыщенные болтуны, безграмотные простолюдины – все они лишь наносят урон цветущим садам прекрасных муз. Остается только удивляться, как мы с тобой еще находим смелость не бросать своего занятия!
Но намного интереснее, чем литературные, были в тот вечер светские интриги. Вот о них–то я и хочу тебе поведать.
Все мы слышали о женолюбивых наклонностях Октавия. Я лично вплоть до того вечера не придавал этим рассказам большого значения, ибо он с виду такой замухрышка, бледный и невзрачный, что, казалось бы, одной чаши неразбавленного вина и страстного объятия вполне достаточно, чтобы навечно отправить его к праотцам (кем бы они ни были); однако теперь я начинаю подозревать, что в этих слухах все–таки может быть доля истины.
Жена нашего гостеприимного хозяина, некто Ливия, происходящая из древнего рода приверженцев республики (я слышал, что ее собственный отец погиб от руки воина Октавия при Филиппах), оказалась необыкновенно красивой, если кому нравится такой тип: довольно неплохая фигура, светлые волосы, безупречно правильные черты лица, тонкие губы, мягкий голос и т. д. и т. п., в общем, как говорят, – «патрицианский идеал». Будучи еще совсем молодой женщиной – ей всего–то лет восемнадцать, она уже успела родить своему мужу, который раза в три ее старше, сына и явно снова была беременна.
Должен признаться, мы все выпили немало, но и при этом поведение Октавия было из ряда вон: он увивался вокруг нее, словно снедаемый любовью Катулл, держал ее за руку и нашептывал на ушко, радуясь как мальчишка (в конце концов, он и есть мальчишка, несмотря на весь важный вид, который на себя напускает), и тому подобные глупости. Все это происходило прямо на глазах у его собственной жены (не сказать, чтобы это было так уж важно, хотя она тоже ждала ребенка) и мужа Ливии, который, казалось, ничего не замечал, сидя с кроткой улыбкой на устах, словно честолюбивый отец дочки на выданье, а не муж, честь которого была под угрозой. Как бы то ни было, в тот момент меня это мало занимало; я находил такое поведение довольно вульгарным, но что (спрашивал я сам себя) можно ожидать от внука обычного захолустного менялы. Если, нагрузив одну повозку, он желал прокатиться на другой, уже полной, то это его личное дело.
И вот теперь, четыре месяца спустя, когда по Риму ходят самые невероятные скандальные слухи, я уверен, ты бы мне не простил, если бы я не рассказал тебе о том вечере у Клавдия Нерона.
Менее чем две недели назад Скрибония, тогда еще его жена, разрешилась дочкой – хотя, казалось бы, даже приемный сын божества мог бы сподобиться родить сына. В тот же день Октавий вручил Скрибонии письмо с разводом – что само по себе неудивительно, ибо, если верить молве, соглашение на этот счет было достигнуто заранее.
Но – и вот в чем весь скандал–то – неделей позже Тиберий Клавдий Нерон развелся с Ливией и уже на следующий день отдал ее, все еще беременную, вместе со значительной суммой приданого Октавию в жены. Сенат это дело одобрил, жрецы принесли жертвы – ну и тому подобный глупый вздор.
Спрашивается, как может хоть кто–нибудь принимать подобного человека всерьез? И тем не менее глупцы находятся.
V
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
Обстоятельства, окружавшие мое рождение, были известны всему миру задолго до того, как они стали известны мне; и когда я наконец достигла того возраста, когда могла их понять, мой отец уже правил миром и почитался за бога; а мир давно понял, что деяния бога, какими бы странными они ни казались простым смертным, ему самому представляются вполне естественными и в конце концов неминуемо становятся таковыми в глазах тех, кто боготворит его.
Посему мне вовсе не казалось странным то, что Ливия была мне матерью, а Скрибония – лишь редким гостем в моем доме, дальним, но необходимым родственником, которого вынужденно терпели из не вполне осознанного чувства долга. Мои воспоминания об этом времени весьма туманны, и я не совсем доверяю им, но, как мне теперь кажется, эти годы были обыденны в своей безмятежности. Ливия была строгой, церемонной и сдержанно любящей матерью, и никакой другой я не знала.
В отличие от большинства людей в его положении, мой отец настоял, чтобы я воспитывалась по старинке, в его собственном доме, оставаясь на попечении Ливии, а не няньки, и следил, чтобы я в соответствии с семейной традицией умела ткать, шить и готовить пищу – как это издревле повелось в семействе Октавиев; при всем при этом я должна была получить образование, достойное дочери императора. Итак, с самых ранних лет я ткала полотно наравне с простыми рабами и училась латыни и греческому с Федром, невольником моего отца; впоследствии я постигала премудрости наук под руководством его доброго друга и учителя Атенодора. И хотя тогда я этого не знала, самым важным обстоятельством в моей жизни являлось то, что у отца не было других детей, – порок, которым страдали все Юлии.
Я не часто видела его в те годы, но тем не менее его влияние на меня было самым значительным в моей жизни. Географию я учила по его письмам, приходившим целыми связками отовсюду, где бы он ни находился – в Галлии, Испании или на Сицилии, в Далмации, Греции, Азии или Египте, – и которые ежедневно мне зачитывались.
Как я уже заметила, мы редко с ним виделись, но даже до сих пор мне кажется, будто он все время был рядом. Стоит мне закрыть на мгновение глаза, как я почти физически ощущаю его руки, подбрасывающие меня высоко в воздух, – в то время как я заливаюсь смехом и замираю от сладкого ужаса, – и затем выхватывающие меня из пустоты, в которую я только что была ввергнута; слышу его низкий голос, говорящий нежные и ласковые слова; чувствую прикосновение его ладони, поглаживающей меня по голове. Я помню игры в мяч и камешки, усталость в ногах, когда мы взбирались на небольшие холмы в садах за нашим домом на Палатине, откуда открывался прекрасный вид на город, словно огромная головоломка широко раскинувшийся под нами. Но почему–то лица его в те годы я никак не припомню. Он звал меня Римом, своим «маленьким Римом».
Мой первый ясный зрительный образ отца относится к тому времени, когда, вступив в свое пятое консульство (мне тогда было девять лет), он был удостоен тройного триумфа в честь побед в Далмации и Египте и в битве при Акции.
С тех пор празднования военных успехов в Риме не проводились; позже отец объяснил мне, что, по его мнению, даже то, в котором он принимал участие, было довольно вульгарным и варварским зрелищем, но тогда необходимым с политической точки зрения. Поэтому теперь мне трудно с точностью сказать, чему великолепие этой церемонии было обязано больше: своей исключительности и тому факту, что впоследствии ничего подобного Рим не видел, или искаженному преломлению реальных событий в моей склонной к преувеличению памяти.
Больше года я не виделась с отцом, который за все это время, вплоть до своего триумфального возвращения, так ни разу и не смог выбраться в Рим. В тот день Ливия, я и другие дети нашего семейства должны были встретить его у городских ворот, куда мы прошли в сопровождении группы сенаторов; мы заняли приготовленные для нас почетные места и стали ждать его появления. Для меня это все было игрой; Ливия сказала мне, что мы идем смотреть парад и чтобы я вела себя хорошо. Но я не могла усидеть на месте и постоянно вскакивала со своего сиденья и изо всех сил старалась увидеть, как появится мой отец на извилистой дороге, ведущей к городу. И когда наконец я его заметила, то радостно вскрикнула и захлопала в ладоши и кинулась было ему навстречу, но Ливия вовремя остановила меня. Когда он оказался достаточно близко, чтобы узнать меня, он пришпорил лошадь и, оторвавшись от остальной процессии, оказался рядом с нами; он, смеясь, подхватил меня на руки, затем нежно обнял Ливию – и у меня снова был отец. Пожалуй, то был последний раз, когда я помню его обычным отцом, таким, как у всех других детей.
Вскоре преторы сената отвели его в сторону, завернули в пурпурный с золотом плащ и посадили на украшенную башенками колесницу, где к нему присоединились Ливия и я; после этого вся процессия медленно тронулась по направлению к форуму. Мне запомнилось охватившее меня тогда чувство страха и разочарования, ибо я больше не узнавала в стоявшем рядом со мной человеке, ласково поддерживающем меня за плечо, своего отца. Трубачи и горнисты во главе процессии дали военный сигнал; ликторы со своими увитыми лавром топориками степенно двинулись вперед, и мы вошли в город. По дороге собравшиеся на площадях толпы народа приветствовали нас такими громкими криками, что порой даже заглушали звук труб; на форуме, где мы наконец остановились, скопилось такое количество римлян, что яблоку негде было упасть.
Три дня продолжались празднества. Я говорила с отцом, когда мне представлялась такая возможность; и хотя и я и Ливия постоянно находились при нем – во время речей, жертвоприношений и поднесений подарков, – я чувствовала, что он принадлежит не мне, а тому, чуждому мне миру, который я только начинала понимать.
При этом он неизменно оставался ласков и внимателен ко мне и с готовностью отвечал на все мои вопросы, как будто я по–прежнему была дорога ему. Я помню, как однажды во время одной из процессий я обратила внимание на украшенную золотом и бронзой повозку с огромной, больше человеческого роста, резной фигурой женщины, возлежащей на ложе из эбенового дерева и слоновой кости, с двумя детскими фигурами по бокам; глаза их были закрыты, как будто они спали. Я спросила отца, кто эта женщина; он долго в задумчивости смотрел на меня, а затем сказал:
– Это Клеопатра. Она была царицей великой страны и врагом Рима, но при этом храброй женщиной, любившей свою страну не меньше, чем римлянин любит свою; она собственной жизнью заплатила за то, чтобы не видеть ее поражения.
Даже теперь, по прошествии стольких лет, я хорошо помню странное ощущение, охватившее меня при упоминании ее имени в тех обстоятельствах. Мне конечно же было знакомо имя Клеопатры – я часто слышала его и раньше. Тогда, помнится, я подумала о моей тетке Октавии, которая, кстати, вела домашнее хозяйство в нашем доме наравне с Ливией и, как я знала, побывала когда–то замужем за супругом той покойной царицы, Марком Антонием, который тоже умер. И еще я подумала о детях, оставшихся на попечении Октавии, вместе с которыми я чуть ли не каждый день играла, занималась домашними делами или училась: Марцелле и его двух сестрах от первого брака; двух Антониях – от второго, с Марком Антонием; Юле, сыне Марка Антония от его раннего брака, и, наконец, о маленькой девочке, любимице всего дома, крошке Клеопатре, дочери Марка Антония и его царицы.
Но вовсе не это странное обстоятельство заставило мое сердце сжаться в комок. В тот момент я не сумела бы выразить свои чувства, но, как мне кажется, именно тогда мне впервые пришло в голову, что даже женщина может оказаться вовлечена в жестокий круговорот Истории лишь затем, чтобы быть безжалостно раздавленной ею.
Глава 2
I
Почтовое отправление из Рима: письма Октавию Цезарю в Галлию (27 год до Р. Х.)
Своему супругу Ливия шлет поклон и заздравные молитвы; согласно его воле, ниже следует отчет об интересующих его событиях.
Работы, которые ты начал перед отъездом на север, исправно ведутся в соответствии с твоими распоряжениями. Ремонт Фламиниевой дороги завершен на две недели раньше срока, назначенного тобой Марку Агриппе, который вышлет тебе полный доклад о проделанной работе со следующей почтой. Оба они – Меценат и Агриппа – каждодневно держат со мной совет и просят заверить тебя, что перепись народа будет закончена к твоему возвращению; Меценат предрекает, что прибавка к поступлениям в казну за счет пересмотра размера подушного налога будет еще значительнее, чем он предполагал ранее.
Меценат также просил меня передать тебе свою радость по поводу твоего решения отказаться от вторжения в Британию; он убежден, что переговорами можно добиться не меньшего, и даже если таковые не помогут, то возможные расходы на военную кампанию намного перевесят доход от взыскания просроченной дани. Меня твое решение тоже порадовало, но по причине более личного порядка – из опасения за твою жизнь.
Я излагаю эти сведения без должного тщания, зная, что ты получишь более подробные сообщения от тех, кто лучше знаком со всеми деталями, и подозревая, что ты ждешь от меня совсем не этого. Дочка твоя в добром здравии и шлет тебе свою любовь. Да, твои письма зачитываются ей ежедневно, и она часто говорит о своем отце.
Тебе будет приятно узнать, что начиная с прошлой недели мы заметили решительный поворот к лучшему в ее обращении с домашней прислугой. Я уверена, что твое письмо на данный предмет тому причиной. Сегодня утром она провела почти два часа за прялкой, и никто не слышал от нее ни единой жалобы или непочтительного слова. Я полагаю, она наконец начинает привыкать к мысли о том, что может в одно и то же время быть и женщиной, и дочерью императора. Здоровье ее лучше некуда; ты ее не узнаешь, когда вернешься, – так она выросла.
Отчет о ее успехах в учении, на котором ты настоял, а я скрепя сердце согласилась, я оставляю другим, чьи доклады ты найдешь среди писем в этой связке.
Спешу поделиться с тобой некоторыми из слухов, которые, надеюсь, порадуют и позабавят тебя. Меценат просил поставить тебя в известность, что, уступая твоим желаниям, он наконец женится; он обратился за помощью ко мне, ибо данный предмет слишком для него больной (по его словам), чтобы самому затронуть его. Как и следует ожидать, Меценат сильно преувеличивает свои страдания; по правде сказать, я лично думаю, что ему эта идея даже нравится. Его будущая жена, некто Теренция, происходит из ничем не примечательного рода, на Что Меценат лишь фыркает, заявляя, что его собственной родовитости хватит на них обоих. Она такая прелестная крошка и, сдается мне, довольна своей судьбой; она, похоже, прекрасно понимает, к чему направлены склонности Мецената, и готова смириться с этим. Я думаю, тебе она понравится.
Твоя сестра шлет тебе поклон и просит передать привет ее сыну Марцеллу, который, как она надеется, остается приятным спутником своему дяде. Прими мои сердечные пожелания и передай таковые моему Тиберию. Вся твоя семья в Риме с нетерпением ждет твоего возвращения.
Гаю Октавию Цезарю в Нарбоне, Галлия, от его слуги и преданного друга Федра. Я обращаюсь к тебе, Гай, ибо собираюсь говорить о семейных делах.
Твоя дочь Юлия так стремительно преуспевает в обучении, что скоро я не смогу быть ей наставником в той степени, в какой ты желал бы. Я говорю об этом с сожалением – ты знаешь, что я люблю ее как собственное дитя. Ты оказался прав: я сомневался, что может найтись девочка, которая сумеет за столь короткий срок добиться таких же успехов, что и мальчик, равный ей по положению, проявив при этом ничуть не меньше усердия и сметливости. Более того, из всех детей твоих родственников, которых ты по доброте своей предоставил мне для обучения, как мальчиков, так и девочек, Юлия смогла продвинуться дальше всех и потому в свои одиннадцать лет уже почти достигла того уровня, когда ей нужен другой, более просвещенный учитель. Она свободно пишет по–гречески; она овладела основами риторики, с которыми я ее познакомил, несмотря на то что обучение ее такому неженскому предмету вызвало недовольство среди других учеников; твой друг Гораций время от времени наставляет ее в латинской поэзии, которую и я знаю неплохо, но все же недостаточно хорошо, чтобы стать полезным для твоей дочери. Как мне кажется, предметы, более приличествующие женщине, нравятся ей значительно меньше: ее успехи в музыке едва ли можно назвать выдающимися и, хотя она и не лишена природной грации, не сказать, чтобы она была слишком усердна в овладении искусством танца; однако я полагаю, такие новомодные увлечения лежат за пределами и твоих интересов. Будь я столь глуп, чтобы возомнить себе, будто ты можешь быть падок на лесть, я бы сделал вид, что меня отнюдь не удивляют ее способности, ибо она является дочерью сына бога, повелителя всего мира… и тому подобный вздор. Мы с тобой оба знаем, что у нее собственный характер, и весьма сильный при этом.
Посему я предлагаю, чтобы в ближайшем будущем ее образованием занялся некто более мудрый и просвещенный, чем я. Я имею в виду Атенодора, когда–то твоего учителя, а теперь друга. Он знает ее образ мыслей; они хорошо ладят друг с другом, и он уже согласился принять на себя эту ответственность после того, как я имел смелость сделать ему такое предложение. Как я понимаю, он собирается послать тебе письмо, в котором помимо других предметов поделится своими мыслями и по этому поводу.
Хотелось бы верить, что твоя поездка в Галлию не продержит тебя вдали от дочери дольше, чем того требуют обстоятельства. Единственным препятствием в наших с ней занятиях является ее страстное желание быть с тобой. Засим остаюсь твоим верным слугой и, смею надеяться, другом – Федр Коринфский.
Атенодор – Октавию: мои приветствия. Как ты уже догадался, я приветствую твое решение учредить в Галлии сеть школ. Ты совершенно прав: если тамошним жителям суждено когда–нибудь стать частью Рима, им необходимо знать язык римлян; благодаря ему они смогут приобщиться к истории и культуре, с которыми им предстоит жить. О боги, как бы мне хотелось, чтобы все эти светские пустышки здесь, в Риме, кое–кого из которых ты имеешь удовольствие называть своими друзьями, были бы так же озабочены образованием собственных детей, как ты – своих подданных из отдаленных провинций. Очень возможно, что те, кто проживает в тех дальних краях, станут более римлянами, чем мы, живущие в самом сердце страны.
Я не предвижу никаких трудностей в наборе учителей для твоих школ; однако, если пожелаешь, я могу дать некоторые конкретные рекомендации. С тех пор как ты принес мир и до известной степени преуспеяние нашему народу, среди тех сословий, из которых ты должен черпать своих учителей, стало процветать знание (хотя, возможно, слово «процветать» здесь не совсем подходит). В общем, вот что я советую: 1) не стоит доверять легковесному идеализму состоятельных молодых людей, первоначальный энтузиазм которых почти наверняка пропадет в провинциальной глуши; 2) насколько возможно, постарайся набирать учителей из местного населения, а не полагаться на греков, египтян или кого там еще, ибо их ученики должны, по крайней мере, знать, как выглядит настоящий римлянин, если хотят действительно постичь римскую культуру; и 3) не рассчитывай на рабов или даже вольноотпущенников для пополнения рядов твоих педагогов. Я полагаю, ты понимаешь причины, которыми я руководствуюсь, давая этот совет. Я знаю, что в Риме давно существует традиция ставить даже раба выше человека благородного происхождения, если тот достаточно образован. В Риме такой раб останется доволен своим положением, если он может разбогатеть; но в Галлии такой возможности для личного обогащения не будет, что послужит лишним поводом для недовольства. Тебе самому известно, как много рабов, особенно образованных и богатых (за исключением, конечно, нашего друга Федра), откровенно презирают Рим и все с ним связанное и таят обиду на всех и вся за то свое положение, из которого сами же не желают себя выкупить. Короче говоря, в Галлии нет должных условий, чтобы держать их в узде, как в Риме. Уверяю тебя, в стране найдется достаточное количество италийцев, как из провинций, так и из самого Рима, которые за приличную плату и небольшую толику почестей с удовольствием согласятся услужить тебе.
Что касается твоей дочери: Федр говорил со мной, и я согласился взять ее к себе в учение. Я полагаю, ты не против. Через мои руки прошло столько молодых людей из трибы Октавиев, что отказать тебе было бы просто неуместно. Ты можешь называть себя императором всего мира – меня это не волнует, но в том, что касается моих учеников, тут я полный хозяин (это мое непременное условие); кроме того, мне бы очень не хотелось, чтобы завершением образования Юлии занимался кто–нибудь другой.
II
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
Последние несколько лет, вскоре после поселения на острове Пандатерия, я завела себе привычку вставать до восхода солнца и встречать зарю. Оно стало для меня почти ритуалом, это утреннее бдение, – я неподвижно сижу у окна, выходящего на восток, и наблюдаю за постоянно меняющимися красками нарождающегося дня: от серого цвета к желтому, затем к красному, пока, наконец, мир не заливается ослепительно ярким светом, в котором цвета уже неразличимы. Этот свет наполняет мою комнату, где я провожу утро в чтении книг из своей библиотеки, которую мне позволили привезти с собой из Рима. Привилегия пользования библиотекой – одна из немногих, позволенных мне, но, пожалуй, единственная из всех возможных, способная сделать мое изгнание почти выносимым, ибо я вернулась к тем своим занятиям, которые прервала много лет тому назад. Мне вряд ли пришло бы в голову снова обратиться к ним, не будь я осуждена на одиночество; я иногда почти готова поверить, что мир в своем стремлении наказать меня на самом деле оказал мне неоценимую услугу.
Мне вдруг подумалось, что все это: и ежедневный утренний ритуал, и мои занятия – возвращает меня к тому распорядку дня, который определял мою жизнь с тех пор, как я вышла из младенческого возраста.
Когда мне исполнилось двенадцать лет, мой отец решил, что мне пришла пора забыть свои детские забавы и заняться серьезным делом под началом его бывшего учителя Атенодора. До той поры помимо обучения, навязанного всем женщинам в нашем доме Ливией, я упражнялась в чтении и письме на греческом и латыни, что давалось мне удивительно легко, и в арифметике, что я тоже находила делом несложным, но весьма скучным. Занятия эти были для меня совсем не обременительны; к тому же мой учитель находился в моем распоряжении и днем и ночью, так что никакого строгого распорядка я не знала.
В отличие от Федра, Атенодор, первым раскрывший мне глаза на весь тот огромный мир, что существовал сам по себе, вне меня, на мою семью и даже на Рим, был строгим и требовательным наставником. Учеников у него было не много: сыновья Октавии, приемные и собственные, сыновья Ливии – Друз и Тиберий, а также сыновья других родственников моего отца. Я была единственной девочкой среди них, и при этом самой юной. Мой отец дал всем нам ясно понять, что Атенодор поставлен над нами и посему мы должны беспрекословно ему подчиняться; и чье бы имя ни носили его ученики, какими могущественными ни были бы их родители, его слово окончательное и обжалованию не подлежит.
Мы поднимались еще до восхода и собирались в доме Атенодора, где читали наизусть отрывки из Гомера, или Гесиода [48], или Эсхила [49], заданные нам днем раньше, и пробовали свои силы в сочинении собственных стихов в стиле этих поэтов; в полдень нам подавали легкий обед. Во второй половине дня мальчики упражнялись в риторике и декламации и изучали право; данные предметы считались для меня неподходящими, и поэтому мне разрешалось использовать это время для изучения философии и толкования латинских или греческих стихов по выбору, а также написания сочинений на любую привлекающую меня тему. После этого меня отпускали домой, чтобы я могла заняться там под наблюдением Ливии домашними делами, которые я находила все более и более невыносимыми.
По мере того как в моем теле начали происходить изменения, превращающие меня в женщину, в голове моей стала рождаться картина мира, о существовании которого я и не догадывалась. Позже, когда мы уже были друзьями с Атенодором, мы часто говорили о странном отвращении, которое римляне питают к самоценному знанию, не ведущему к достижению какой бы то ни было практической цели; как–то однажды он сказал мне, что за сто с лишним лет до моего рождения сенат издал эдикт, изгоняющий всех учителей литературы и философии из Рима; правда, обеспечить его соблюдение оказалось невозможным.
Насколько мне теперь помнится, я была счастлива, как никогда больше за всю свою жизнь; но через три года эта счастливая страница моей жизни закончилась, и мне пришлось навеки распрощаться с детством. Это было изгнание из мира, который я только–только начала для себя открывать.
III
Письмо: Квинт Гораций Флакк – Альбию Тибуллу [50] (25 год до Р. Х.)
Дорогой Тибулл, ты хороший поэт и мой друг, но при этом невозможный глупец.
Скажу тебе как можно более доходчиво: даже и не думай браться за эпиталаму во славу молодого Марцелла и дочери императора. Ты просил моего совета, и я даю его тебе, как если бы то был приказ, причины чего я указываю ниже.
Во–первых: Октавий Цезарь дал ясно понять всем, включая даже меня и Вергилия – его ближайших друзей, что он был бы чрезвычайно огорчен, если бы мы в каком–нибудь из своих произведений хотя бы полсловом намекнули, прямо или косвенно, на личные обстоятельства любого из членов его семьи. Этого принципа он твердо придерживается, и я хорошо понимаю его. Что бы ты об этом ни думал, он глубоко привязан как к жене, так и к дочери и потому не желает хулить плохие стихи, которые их прославляют, или хвалить хорошие, но обидного для них содержания. Кроме того, семейная жизнь – это практически его единственное отдохновение в весьма обременительном и тяжелом деле управления тем беспорядочным миром, что достался ему в наследство. И он ни в коем случае не хочет потерять этот драгоценный тихий уголок души.








