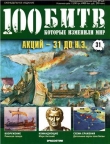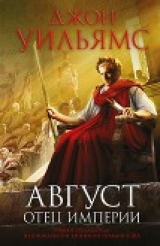
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Глава 4
I
Письма: Страбон Амасийский [36] – Николаю Дамаскину [37] из Рима (43 год до Р. Х.)
Дорогой мой Николай, шлю тебе мои приветствия, к коим присоединяется и наш друг и учитель Тираннион. Пишу тебе из Рима, куда я прибыл лишь на прошлой неделе, после долгого и весьма утомительного путешествия из Александрии через Коринф, во время которого мне довелось плыть морем под парусом и на веслах и добираться сушей на повозках, колесницах и верхом, а подчас даже пешком, сгибаясь под тяжестью моих манускриптов. Просто глядя на карту, невозможно представить себе всю необъятность и разнообразие мира – я открыл для себя новый способ познания его, способ, не требующий наставников. Более того, опытный путешественник может сам превратиться из ученика в учителя; так, наш Тираннион, такой просвещенный во всем, и тот испытывал затруднения, расспрашивая меня о моих путешествиях.
Я остановился у Тиранниона в одной из хижин, теснившихся на холме над городом. Я бы назвал это своего рода обителью, где живут несколько признанных учителей (в Риме их не называют философами, так как к философии здесь относятся с некоторым подозрением) вместе с несколькими молодыми учениками, которые, как и я, были приглашены жить и обучаться у своих прежних наставников.
Я был немало удивлен, когда Тираннион привез меня сюда, так далеко от Рима, но еще больше удивился, когда он объяснил мне причину такого странного выбора места проживания. Оказывается, публичная библиотека в Риме хуже, чем можно себе представить: собрание манускриптов до смешного малое, да и те в плохих копиях, и в довершение ко всему только половина из них на греческом, остальные же – на этой ужасной латыни! Впрочем, Тираннион уверяет, что все необходимые для занятий тексты имеются – правда, в частных коллекциях. Один из его друзей, живущий рядом с нами, – тот самый Атенодор из Тарса, о котором мы так много слышали в Александрии. Так вот, по уверению Тиранниона, он имеет доступ к лучшим частным собраниям в Риме, которые открыты и для нас, странствующих философов.
Об этом Атенодоре я должен тебе кое–что рассказать – я не могу не поражаться ему. Будучи всего несколькими годами старше Тиранниона – ему, должно быть, за пятьдесят, – он тем не менее производит впечатление человека, вобравшего в себя всю мудрость веков. Держится он строго и отчужденно, но при этом чувствуется, что у него добрая душа; он мало говорит и никогда не вступает в дискуссии ради забавы, как это делают все остальные; мы во всем следуем за ним, хотя он и не претендует на роль пастыря. Говорят, у него имеются могущественные друзья, однако сам он ни разу не обронил о них ни слова; он внушает нам такое почтение, что мы не смеем обсуждать нечто подобное даже в его отсутствие. И все же при всем величии ума и положении в обществе я заметил в нем какую–то странную печаль, причина которой остается от меня скрытой. Но, несмотря на охватывающий меня трепет при одной мысли об этом, я намерен поговорить с ним и разузнать побольше о нем самом и его покровителях.
Кстати, мои письма будут пересылаться тебе его заботами – у него имеется доступ к посольской почте, еженедельно доставляемой в Дамаск, и он сам предложил мне отправлять с ней мои письма.
Итак, мой дорогой Николай, вот и начинается моя жизнь в Риме. Как я и обещал, я буду регулярно оповещать тебя обо всем, что мне удалось узнать нового. Мне так жаль, что семейные дела удерживают Тебя в Дамаске, но я не оставляю надежды, что ты вскорости покончишь с ними и приедешь сюда, в этот удивительный мир, зовущийся Римом.
Ты, наверное, совсем разочаровался во мне и как в друге, и как в философе. Смею тебя уверить, что относительно первого это определенно не так, а вот что касается второго, то не исключено, что все идет именно к тому. Я собирался писать тебе каждую неделю – и вот уже целый месяц прошел, а я так и не взялся за перо.
В оправдание себе скажу, что это такой необыкновенный город, что даже величайшим умам трудно не поддаться его чарам. Дни катятся с такой безумной быстротой, какой ни один из нас не мог себе и представить во время наших безмятежных лет ученичества в Александрии. Не знаю даже, способен ли ты в сонной тиши своего любимого Дамаска в полной мере оценить всю значимость того, что я пытаюсь донести до тебя.
Все чаще и чаще мне на ум приходит мысль (это всего лишь мое мнение), что мы, греки, погрязли в самодовольстве, кичась своей историей и языком, слишком легко поддаваясь чувству превосходства над «варварами» с Запада, которые изволят называть себя нашими господами, – как видишь, я нынче рассуждаю скорее не как философ, а как обыкновенный человек. Без сомнения, и в наших краях есть свое обаяние и утонченность, но этот город полон какой–то невиданной жизненной силы, которая еще год назад не показалась бы мне и отдаленно привлекательной. Год назад я только лишь слышал о Риме – теперь я увидел его и в настоящий момент не уверен, что когда–нибудь снова вернусь на Восток или в мой родной Понт.
Представь себе город, вдвое меньший по площади, чем Александрия, где мы учились мальчишками, и при этом с населением вдвое большим – вот что такое Рим, в котором я теперь живу, город с почти миллионом жителей, как мне сказали. Ничего подобного я не видел в своей жизни; здесь можно встретить людей со всего мира: от черных, как эбеновое дерево, сынов горячих песков Африки до бледных русоголовых выходцев со студеного севера и людей всех остальных оттенков и цветов кожи. А какое разнообразие языков! Однако все знают немного по–латыни или по–гречески, так что никто не чувствует себя чужим.
И как они все норовят сбиться в кучу, эти римляне. За городскими стенами лежит такая неописуемо красивая местность, что и представить себе невозможно, но нет, эти люди, подобно рыбе в сетях, до отказа заполняют узкие кривые улочки, бессмысленно петляющие по всему городу миля за милей; В светлое время дня эти улицы – все без исключения – буквально задыхаются от несметного количества людей, а шум и смрад стоят такие, что словами не передать. За несколько месяцев до своей смерти великий Юлий Цезарь постановил, что лишь с наступлением темноты, с заката до восхода, разрешается въезжать в город с повозками, телегами и вьючными животными. Остается только гадать, как же оно было до этого закона, когда многочисленные лошади, быки и всевозможного рода повозки мешались с толпой на немыслимо узких улочках.
Простые римляне, живущие в самом городе, должно быть, совсем лишились сна, ибо дневной галдеж толпы днем после захода солнца сменяется криками погонщиков, громко понукающих своих лошадей и быков, скрипом деревянных повозок и неумолчным грохотом колес по мощеным улицам.
С наступлением темноты никто не осмеливается выйти на улицу в одиночку, за исключением торговцев, вынуждаемых к этому их занятием, да очень богатых людей, кои могут себе позволить вооруженную охрану. Даже в лунные ночи улицы тонут в кромешной тьме, ибо стоящие вкривь и вкось дома тянутся так высоко к небу, что и случайный отблеск луны не попадает в темные закоулки, где доведенные до отчаяния бедняки готовы перерезать тебе горло ради куска материи на твоих плечах и жалкой горстки серебра, что ты имел несчастье держать при себе.
Но и жизни тех, кто ютится в этих вздымающихся ввысь ветхих строениях, угрожает не меньшая опасность, чем тех, кто бродит по ночным улицам города, ибо они живут под постоянной угрозой пожара. По ночам из своей хижины на холме я часто вижу вдалеке огни пожаров, расцветающих, словно пышные цветы, среди моря тьмы, и слышу приглушенные расстоянием вопли ужаса и предсмертные стоны. Конечно же в городе имеются пожарные, но все они, как один, продажны и их слишком мало, чтобы оказать должную помощь.
В центре всего этого хаоса, словно заброшенный сюда из другого мира, – великий форум. Он напоминает форумы, которые можно увидеть в провинциальных городах, но только гораздо более величественный: огромные мраморные колонны поддерживают громады казенных зданий; десятки статуй, разбросанных тут и там; бесчисленные храмы их римским богам, заимствованным у нас, и нагромождения зданий поменьше, где размещаются служебные ведомства. При всем этом в нем полно открытых пространств, а шум и зловоние окружающего города почему–то не проникают туда. Люди здесь неспешно прогуливаются, наслаждаясь солнцем, непринужденно беседуют, обмениваются слухами и читают эдикты, развешанные на трибунах вокруг здания сената. Я прихожу сюда, на форум, каждый день, чтобы почувствовать себя в центре вселенной.
Я постепенно начинаю понимать, почему римляне с таким пренебрежением относятся к философии: их мир – это здесь и сейчас, мир причины и следствия, фактов и слухов, богатства и нужды. Даже я, посвятивший свою жизнь поискам истины и знаний, не могу не испытывать некоторой симпатии к тому мироощущению, что лежит в основе этого пренебрежения. Знания для них – всего лишь средство для достижения цели, а истина – нечто утилитарное. Даже боги у них служат государству, а не наоборот.
Посылаю тебе копию стишка, который сегодня утром можно было видеть почти у каждого въезда в город. Не стану пытаться переводить его на греческий – посылаю его, как есть, в латинской транскрипции:
Путник, остановись и о себе поразмысли,
Переступая порог скотного как бы двора,
Где мальчик живет один, зовущийся именем мужа,
За стол ты присядешь с ним на собственную погибель;
Не бойся – тебя пригласят, как приглашают всех.
Месяц тому назад он потерял отца -
Теперь же прокисшим вином вновь обретенной свободы -
Он упивается всласть – меж тем
Живность его без присмотра бродит, не зная преград;
Лишь одного поросенка из всего опороса свиньи
Взял он недавно в свой дом.
Есть, ли дочь у тебя? Береги ее -
Мальчик этот когда–то девочек нежных любил -
Он еще может опять вкусы свои изменить.
Предлагаю свое толкование, на манер наших с тобой учителей: «мальчик с именем мужа» – это, конечно, Гай Октавий Цезарь; «отец», давший ему имя, – Юлий Цезарь; «поросенок» – некто Клодия, дочь «свиньи» (кличка, данная ей ее недоброжелателями) – Фульвии, жены Марка Антония, с которым Октавий попеременно то ссорится, то примиряется. «Девочка», упомянутая в предпоследней строчке, – некая Сервилия, дочь бывшего консула, с которой был обручен Октавий, пока (как говорят) по требованию своих и Антониевых солдат не согласился на брак с падчерицей Антония. Как оказалось, это простая формальность – по моим сведениям, девочке всего тринадцать лет. Тем не менее факт помолвки удовлетворил тех, кто хотел бы видеть Октавия и Антония в дружеских отношениях. Сам по себе стишок, без сомнения, содержит и другие намеки, которые понятны лишь местным жителям; по всей вероятности, он был сочинен по заказу кого–то из сенаторов, не желающих примирения между Октавием и Антонием, – довольно вульгарное сочинение, надо признать… Но что–то в нем есть, не правда ли?
Я не перестаю удивляться – имя Октавия Цезаря постоянно у всех на устах: он в Риме – он покинул Рим; он спаситель отечества – он несет погибель государству; он покарает убийц Юлия Цезаря – он вознаградит их. Что бы то ни было, этот загадочный молодой человек захватил воображение всего Рима, и даже меня не миновало это поветрие.
Поэтому, зная, что наш Атенодор долго жил как в самом Риме, так и его окрестностях, вчера вечером после ужина я воспользовался представившимся мне случаем, чтобы задать ему несколько вопросов (он со временем стал ко мне благосклоннее, и порой мы даже перекидываемся полудюжиной слов зараз).
Я спросил его, что за человек этот Октавий Цезарь (как он называет себя), после чего показал Атенодору стишок, копию которого выслал тебе ранее.
Тот уткнулся в него, почти касаясь пергамента своим крючковатым носом, втянув щеки и сжав тонкие губы. Затем он вернул мне свиток тем же самым характерным жестом, каким обычно возвращал мои собственные сочинения, которые я давал ему на проверку.
– Метр неровен, – заметил он, – а предмет тривиален.
Я научился быть терпеливым с Атенодором и снова спросил его об Октавии.
– Он такой же человек, как и все, – ответил Атенодор, – и станет тем, кем ему суждено стать, – силою своей воли и волею судьбы.
Я спросил его, доводилось ли ему встречаться или беседовать с этим юношей, на что Атенодор ворчливо ответил:
– Я был его учителем в Аполлонии, когда до нас дошли вести о смерти его дяди, и он избрал путь, приведший его к тому, что он есть сейчас.
Поначалу я подумал, что Атенодор говорил в метафорическом смысле, но, взглянув ему в лицо, понял, что это сущая правда.
– Т-ты… знаешь его? – заикаясь от удивления, спросил я.
– Я обедал у него на прошлой неделе, – ответил Атенодор, усмехнувшись.
После этого я не смог добиться от него ни слова – он наотрез отказался отвечать на мои дальнейшие вопросы, считая весь этот предмет недостойным столь пристального внимания. Единственное, что я сумел из него выудить, – это замечание о том, что, захоти Октавий, из него мог бы получиться неплохой философ.
Итак, я, оказывается, еще ближе к центру вселенной, чем думал.
Я присутствовал на похоронах.
Умерла Атия, мать Октавия Цезаря. По улицам города прошли глашатаи, извещая о том, что следующим утром на форуме состоится погребальная церемония. И вот наконец мне довелось увидеть человека, владеющего умами и сердцами римлян, а посему (я полагаю) и всего мира.
Я пришел на форум заранее, чтобы занять место получше, и устроился в ожидании начала церемонии у подножия трибуны, с которой должен был выступать с речью Октавий Цезарь. К пятому часу утра форум был заполнен почти до отказа.
Скоро показалась похоронная процессия: впереди шли факельщики с зажженными факелами в руках, за ними – музыканты, играющие медленный марш, потом – носилки, где, полулежа, покоилось тело, за ними – плакальщики, и в самом конце – одинокая хрупкая фигура, которую я принял поначалу за подростка, с пурпурной полосой на тоге, – мне и в голову не могло прийти, что я вижу перед собой сенатора. Вскоре, впрочем, стало ясно, что это сам Октавий, ибо по мере того, как он приближался к трибуне, в толпе происходило движение, так как каждый старался протиснуться вперед, чтобы получше рассмотреть его. Носильщики опустили носилки с телом на землю перед трибуной; близкие родственники расселись на низких скамьях впереди. Октавий Цезарь медленно подошел к носилкам, на мгновение остановился и посмотрел в лицо своей матери; затем взошел на трибуну и окинул взглядом толпу в тысячу или более человек, собравшихся по этому случаю на форуме.
Я оказался совсем рядом – не более чем в пятнадцати шагах от него. Он стоял бледный и малоподвижный, будто труп; лишь в его поразительно голубых глазах светилась жизнь. Толпа притихла; вдалеке слышался приглушенный гул безразличного, как тупая скотина, города.
И вот он заговорил – очень тихо, но голосом таким ясным и отчетливым, что каждое его слово легко доходило до всех собравшихся.
Посылаю тебе его речь – на церемонии присутствовали писцы со своими табличками, и на следующий день копии ее можно было увидеть в каждой лавке города.
«Рим навсегда прощается с тобой, Атия, с той, кто сама была Римом. Это потеря, которую лишь память о твоих достоинствах дает нам силы пережить; она подсказывает нам, что, целиком предавшись скорби, мы тем самым умаляем саму суть твоей жизни.
Ты была верной женой моему кровному отцу, Гаю Октавию, претору и наместнику Македонии, безвременная кончина которого преградила ему путь к консульскому званию. Ты была строгой и любящей матерью твоей дочери Октавии, распростертой в рыданиях перед твоим бездыханным телом, и твоему сыну, который в последний раз стоит перед тобой с этими жалкими словами на устах. Ты была почтительной и достойной племянницей того, кто дал наконец твоему сыну отца, которого судьба обманом лишила этого отца, того самого Юлия Цезаря, что был злодейски убит в двух шагах от места, где покоятся твои благородные останки.
Происходя из славного римского рода, ты в полной мере обладала всеми достоинствами, издревле присущими этой земле, взрастившей и питавшей наш народ на всем протяжении его истории. Ты своими собственными руками пряла и ткала полотно, одевавшее всех твоих домочадцев; к слугам ты относилась как к собственным детям; ты почитала богов своего дома и города; кроткая нравом, ты не имела иных врагов, кроме смерти, которая ныне явилась за тобой.
О Рим, взгляни на ту, что покоится здесь перед тобой, и ты узреешь все, что есть лучшего в тебе и твоем прошлом. Близок тот час, когда мы вынесем эти благородные останки за городские стены и пламя погребального костра поглотит бренное вместилище того, чем была Атия. Но я взываю к вам, граждане Рима, не дайте ее добродетелям сгинуть вместе с ней в могилу! Пусть они станут сутью и вашей жизни, чтобы все лучшее, что было в той, которая обратилась в прах, запечатлелось в бессмертных душах грядущих поколений римлян.
Да хранят твой покой духи мертвых, Атия!»
Долгая тишина нависла над площадью. Помедлив, Октавий спустился с трибуны. Затем носилки с телом вынесли с форума и за пределы городских стен.
Я никак не могу убедить себя в том, что все это я видел собственными глазами и слышал собственными ушами – в царящем здесь хаосе достоверных известий как таковых не существует, никаких эдиктов на стенах сената больше не вывешивается; нельзя даже с точностью сказать, существует ли сам сенат. Октавий Цезарь вступил в союз с Антонием и Лепидом, что, по существу, означает военную диктатуру; враги Юлия Цезаря подлежат проскрипции. Более сотни сенаторов – сенаторов! – преданы казни, а их имущество и казна конфискованы; и еще несчетное множество богатых римлян, многие благородных кровей, убиты или бежали из города, а все, чем они владели, оказалось в руках триумвиров. Какая чудовищная жестокость! Среди тех, кто подвергся гонениям, – Павл, родной брат Лепида, Луций Цезарь – дядя Антония, и даже знаменитый Цицерон и тот попал в черные списки. Однако я полагаю, эти трое, а также некоторые другие сумели бежать из города и, возможно, остались живы.
Похоже, самые кровавые расправы – дело рук солдат Антония. Я своими собственными глазами видел обезглавленные трупы римских сенаторов, раскиданные по тому самому форуму, которым еще неделю назад они больше всего гордились; из своего отдаленного от всех этих ужасов жилища я слышал предсмертные вопли тех, кто слишком долго откладывал свой побег из Рима и расставание со своим богатством. Все, кроме бедняков, людей с очень скромным достатком и друзей Цезаря, живут в постоянном страхе грядущего дня, в любой момент ожидая увидеть свои имена в проскрипционных списках.
Говорят, Октавий Цезарь заперся в своем доме и носа не кажет на улицу, чтобы ненароком не наткнуться на труп кого–нибудь из своих бывших соратников. Еще говорят, что именно Октавий настаивает на том, чтобы проскрипции проводились быстро, решительно и без всякого снисхождения. Просто не знаешь, чему и верить.
События последних нескольких месяцев повергают меня в сомнение: неужели это тот самый Рим, который, как мне казалось, я начал наконец узнавать? Действительно ли я понимаю этих людей? Атенодор отказывается обсуждать что–либо со мной, Тираннион лишь печально качает головой.
Наверное, во мне гораздо больше от пылкого юноши, чем от взрослого мужчины, каким я сам себя представлял.
Цицерону спастись не удалось.
Вчера, прохладным ясным декабрьским днем, бродя среди книжных лавок в торговых рядах за форумом (сейчас уже не опасно появляться на улицах), я заслышал невдалеке шум; и вопреки здравому смыслу, влекомый неуемным любопытством, которое однажды приведет меня либо к славе, либо к погибели, я пробрался через ворота, ведущие на форум. Взволнованная толпа окружила одну из трибун возле здания сената. «Это Цицерон», – произнес кто–то, и имя это тихим вздохом пробежало по толпе: «Цицерон… Цицерон…»
Не зная, чего ожидать, но содрогаясь при одной мысли о том, что я могу увидеть, я протолкался вперед.
Здесь, на трибуне сената, аккуратно установленная между его собственными отрубленными руками, покоилась усохшая, сморщенная голова Марка Туллия Цицерона. Я слышал, как кто–то сказал, что она выставлена здесь по приказу самого Антония.
Это была та самая трибуна, с которой всего три недели назад Октавий Цезарь с такой нежностью говорил о своей покойной матери. И вот снова тлетворный дух смерти царил над ней; и в этот момент я не мог не порадоваться тому, что Атии не суждено было увидеть ужасные деяния собственного сына.
II
Письмо: Марк Юний Брут – Октавию Цезарю из Смирны (42 год до Р. Х.)
Сомневаюсь, что ты до конца понимаешь всю серьезность своего положения. Я знаю – ты не питаешь ко мне любви, и с моей стороны было бы глупо отрицать, что и мною владеет неприязнь по отношению к тебе; посему я взываю к тебе не ради тебя лично, а ради моего народа. Писать Антонию бесполезно – он безумец; Лепид – набитый дурак; остаешься лишь ты, и я надеюсь, ты прислушаешься к моим словам, ибо ты ни то и ни другое.
Мне доподлинно известно, что именно твоими стараниями Кассий и я объявлены вне закона и осуждены на вечную ссылку, но давай не будем обольщаться: решение это остается в силе лишь до тех пор, пока его поддерживает смятенный и деморализованный сенат. И не будем делать вид, что такого рода эдикт обладает действительной силой и непреклонностью закона.
Теперь поговорим об истинном положении дел: вся Сирия, Македония, весь Эпир, Греция и вся Азия – в наших руках. Весь Восток против тебя, а силу и богатство Востока трудно переоценить. Восточное Средиземноморье целиком и полностью в нашей власти, посему тебе не приходится ждать помощи от любовницы твоего покойного дяди, которая иначе могла бы помочь тебе средствами и людьми. И хотя сам я вовсе не жалую его, пират Секст Помпей, как мне известно, наступает тебе на пятки на западе. По всему этому ни мне, ни моим армиям не страшна война с тобой, которая в настоящий момент кажется неизбежной.
Но я боюсь за Рим и за будущее нашего государства. Проскрипции, которые ты и твои друзья обрушили на него, подтверждают эти опасения, и моя личная скорбь должна отступить на задний план перед лицом нависшей над страной угрозы.
Поэтому давай забудем о проскрипциях и покушениях: если ты сможешь простить мне смерть Цезаря, я постараюсь не вспоминать об убийстве Цицерона. Мы никогда не будем друзьями – да это никому из нас и не нужно, но, может быть, мы можем быть друзьями Риму.
Я умоляю тебя – отступись от Марка Антония. Боюсь, еще одна битва римлян с римлянами уничтожит последние остатки добродетели, еще живущей в нашем народе. А без тебя Антоний выступить не решится.
Если ты откажешься от похода на Восток, то можешь твердо рассчитывать на мое уважение и благодарность, зная, что у тебя есть будущее. Так давай же объединим наши усилия, если не ради дружбы, то ради блага Рима.
Но позволь мне добавить следующее: если ты оттолкнешь протянутую мной руку дружбы, я преисполнен решимости всеми силами противостоять тебе, и в таком случае тебя ждет смерть. Я говорю об этом с тяжелым сердцем, но промолчать не могу.
III
Воспоминания Марка Агриппы – отрывки (13 год до Р. Х.)
После образования триумвирата и разгрома внутренних врагов Юлия Цезаря и Цезаря Августа еще оставалась угроза со стороны пирата Секста Помпея на западе и скрывающихся от правосудия убийц божественного Юлия – Брута и Кассия – на востоке. Верный своей клятве, Цезарь Август решил в первую очередь наказать убийц своего отца и восстановить порядок в государстве, отложив вопрос с Секстом Помпеем на потом и приняв лишь самые необходимые меры для обеспечения безопасности своих западных границ.
Тем временем мои усилия были направлены на то, чтобы набрать и оснастить итальянские легионы, которым предстояло участвовать в осаде Брута и Кассия на востоке, а также укрепить тылы для ведения войны вдали от родных берегов. Антоний должен был послать восемь легионов в Амфиполис, город на Эгейском побережье Македонии, дабы отвлечь войска Брута и Кассия и помешать им занять выгодные позиции на местности. Однако Антоний запоздал с отсылкой своих легионов, и им пришлось стать лагерем в низине к востоку от Филипп, где окопалась армия Брута. Вскоре Антонию потребовалось отправить дополнительные легионы для поддержки наших войск в Македонии, но корабли Брута и Кассия держали под наблюдением гавань Брундизия, поэтому Август поручил мне позаботиться о благополучной высадке войск Антония. И вот с кораблями и легионами, которые я подготовил и оснастил в Италии, мы прорвались через морскую блокаду Марка Юния Брута и высадили двенадцать легионов нашей армии на берегах Македонии в Диррахии.
Здесь, в Диррахии, Август тяжело заболел, и мы отложили все наши планы, опасаясь за его жизнь, но он приказал нам не останавливаться и продолжать наступление на армии изменников, прекрасно зная, что промедление нас погубит. И вот восемь наших легионов, пройдя через всю страну, присоединились к осажденным передовым частям Антония в Амфиполисе.
Однако на нашем пути стояла конница Брута и Кассия, в боях с которой мы понесли большие потери, и потому наше войско прибыло в Амфиполис обессиленным и павшим духом. Когда выяснилось, что армии Брута и Кассия надежно закрепились на господствующих высотах возле Филипп, защищенные с севера горами, а с юга – болотами, простирающимися от их укреплений до самого моря, я решил срочно послать гонца к Цезарю Августу с известием, что цель, стоящая перед нами, представляется нашим воинам недостижимой и необходимо что–то срочно предпринять, чтобы возродить их боевой дух.
И вот, тяжело больной, Август с превеликим трудом пересек всю страну и прибыл к нам с подкреплениями, несомый всю дорогу на носилках среди своих солдат, так как был слишком слаб, чтобы проделать путь на своих ногах. Лицом он походил на мертвеца, но глаза его горели страстью и решимостью, а голос был полон такой силы, что одно присутствие его воодушевило и придало мужества воинам.
Мы были преисполнены решимости выступить без промедления, ибо с каждым днем припасы наши таяли, в то время как Брут и Кассий могли доставлять провиант морем. Между тем, пока три легиона Августа под моим командованием делали вид, что собираются проложить гати для прохода войск через болота, защищающие южный фланг противника, легионы Марка Антония предприняли дерзкую атаку на более слабые позиции Кассия, прорвали его линию обороны и, не дав опомниться, захватили его лагерь. Говорят, сам Кассий, стоя на небольшом холме в окружении кучки своих трибунов, увидел на севере, как ему показалось, беспорядочно отступающие войска Брута и, зная, что его собственная армия разгромлена, решил, что все потеряно. В порыве отчаяния бросился он на меч, закончив свою жизнь в пропитанной кровью пыли Филипп, сам себя покарав за убийство божественного Юлия и пережив его всего на два года и семь месяцев.
Кассий не подозревал, что армия Брута вовсе и не собиралась отступать: разгадав наш план и зная, что силы Августа оказались распылены вследствие отвлекающего маневра, он тут же напал на наш лагерь и захватил его, перебив и взяв в плен множество наших солдат. Самого Августа, почти без сознания и неспособного стоять на ногах, вынес из шатра и прятал среди болот, пока сражение не утихло, его лекарь, после чего он был тайно перенесен на позиции Марка Антония, куда отступили остатки нашей армии. Позже лекарь уверял, что видел накануне сон, в котором ему было наказано вынести больного Августа из шатра, если ему дорога жизнь его господина…
IV
Письмо: Квинт Гораций Флакк – своему отцу, к востоку от Филипп (42 год до Р. Х.)
Мой дорогой отец, если ты получишь это письмо, ты будешь знать, что твой Гораций, еще вчера гордый собой солдат армии Марка Юния Брута, сей холодной осенней ночью, сидя в своем шатре, пишет эти строки в неверном пламени светильника, покрыв себя вечным позором в собственных глазах, если не в глазах друзей. Однако он чувствует себя как–то странно свободным от наваждения, которое владело им в эти последние месяцы, и если его не назовешь счастливым, то, во всяком случае, он начал наконец понимать, кто он на самом деле есть… Сегодня я участвовал в своей первой битве и должен тебе сразу признаться, что при первой же серьезной опасности я отшвырнул свой щит и меч и бросился наутек.
Сам не знаю, зачем я пустился в это предприятие, а ты слишком мудр, чтобы забивать себе этим голову. Когда в великодушии своем, с которым я так свыкся, что порой перестаю замечать его, ты послал меня учиться в Афины два года назад, у меня и мысли не было ввязываться в политику. Неужели я примкнул к Бруту и принял чин трибуна его армии в достойной всяческого презрения попытке пролезть в аристократы, забыв о своем происхождении? Или Гораций стыдится быть сыном простого вольноотпущенника? Мне не верится, что это может быть правдой; несмотря на всю мою молодость и самонадеянность, я всегда знал, что лучше тебя никого нет, и я не мог бы и мечтать о более благородном, великодушном и любящем отце.
Это случилось, как мне кажется, потому, что в своих учениях я позабыл о том, что существует и другой мир, и почти поверил в то, что одной лишь философии принадлежит право на истину. Свобода! Я примкнул к Бруту ради этого слова, но сам до сих пор не знаю, что оно значит, – можно прожить дураком целый год и вдруг поумнеть в один день.
Скажу тебе, что я бросил свой щит и бежал с поля битвы не из одной лишь трусости, хотя, без сомнения, и она здесь присутствовала. Но когда я вдруг увидел одного из воинов Октавия Цезаря (или Антония, не знаю), идущего на меня со сверкающей сталью клинка в руках и холодным блеском в глазах, время как будто остановило свой стремительный бег, и я вспомнил тебя и все надежды, которые ты возлагал на мое будущее. Я вспомнил, что ты родился рабом, но сумел выкупить себе свободу, что труды твои и вся твоя жизнь были посвящены твоему сыну, чтобы он мог в полной мере вкусить обеспеченного и спокойного существования – того, чего ты сам был лишен. И я увидел этого твоего сына, бессмысленно погибшего за дело, которое было ему чужим, лежащего распростертым на земле, к которой он не питал никаких чувств; а затем я увидел тебя, доживающего свой век в одиночестве с мыслью о зря загубленной жизни того, кто был плоть от плоти твоей, – и бросился бежать. Я бежал, перепрыгивая через тела павших, уставившихся невидящими глазами в небо, которое им никогда уже не увидеть; и мне не было дела, на чьей стороне они сражались, – я бежал.