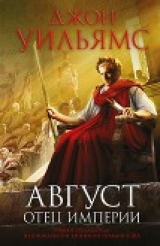
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Я быстро утомляюсь – возраст дает о себе знать; я почти совсем ослеп на левый глаз, но стоит мне его закрыть, как далеко на востоке я вижу плавные линии моего любимого италийского побережья, и даже из этого далека могу различить очертания отдельных домов и фигурки людей на берегу. Наслаждаясь столь редко выпадающим мне досугом, я размышляю о тайной жизни этих простых людей. Впрочем, любая жизнь полна загадок, даже моя.
Филипп выходит из оцепенения и бросает на меня тревожный взгляд; я понимаю, что он хочет, чтобы я оставил свое занятие, которое он рассматривает скорее как труд, чем удовольствие. Я, предупредив его заботливые слова, откладываю перо и делаю вид, что отдыхаю.
«В возрасте девятнадцати лет по собственной воле и за свой счет я собрал армию, с помощью которой вернул свободу республике, страдавшей от жестоких междоусобиц. За эту услугу сенат, воздав мне хвалу, включил меня в свои ряды в консульство Гая Пансы и Авла Гирция, предоставив мне военные полномочия и предпочтительное право голоса наравне с консулами. В качестве пропретора сенат повелел мне, как и своим консулам, «защищать республику от напастей». В тот же год, после гибели на войне обоих – Гая Пансы и Авла Гирция, – народ избрал меня консулом и триумвиром, дабы исправить положение.
Тех, кто убил моего отца, я вынудил к бегству из страны, покарав их деяния в соответствии с законом; впоследствии, когда они развязали войну против республики, я дважды разбил их в битвах…»
Так начинается мой послужной список, о котором я писал тебе сегодня утром. В течение часа, что я лежал, притворяясь спящим, давая Филиппу возможность хоть ненадолго вздохнуть свободно, я снова думал об этом перечне моих свершений на службе у Рима и того, что с ним связано. Данный текст будет выгравирован на бронзовых дощечках, которые, в свою очередь, должны быть укреплены на колоннах, стоящих у входа в мой мавзолей; на каждой колонне имеется достаточно места для шести таких дощечек, каждая из которых может содержать максимум пятьдесят строчек, по шестидесяти знаков в каждой, что составит примерно восемнадцать тысяч знаков.
Тот факт, что я вынужден писать о своей личности, ограничив себя определенными жесткими рамками, какими бы случайными они ни выглядели, как мне кажется, вполне оправдан, ибо как слова мои, так и жизнь вынуждены подчиняться требованиям общественной необходимости. И точно так же, как поступки, слова эти утаивают по меньшей мере столько же, сколько и раскрывают. Истина находится за выгравированными на бронзе строчками, в плотном камне, который они опоясывают. И это тоже представляется мне вполне уместным, ибо большая часть моей жизни была окружена тайной. Я никогда не считал благоразумным делиться с другими тем, что у меня на душе.
Очень кстати, что юности не дано знать пределов своей неосведомленности, ибо в противном случае она ни за что не нашла бы в себе мужества выработать привычку безропотно сносить удары судьбы. Возможно, это инстинкт, свойственный всему роду человеческому, позволяющий мальчику вырасти в мужчину и наконец убедиться в бессмысленности своего существования.
Так и я в свои восемнадцать лет был еще совсем наивным юнцом, когда той весной в Аполлонию, где я постигал премудрости наук, пришла весть о смерти Юлия Цезаря… Немало было сказано о моей преданности Юлию Цезарю, но, клянусь богами, дорогой мой Николай, я до сих пор не знаю, любил я его на самом деле или нет. За год до покушения я вместе с ним участвовал в испанском походе; он был моим дядей и самым влиятельным человеком, какого я только знал; мне льстило его доверие ко мне, и было хорошо известно, что он собирался меня усыновить и сделать своим наследником.
И хотя с тех пор прошло уже почти шестьдесят лет, я до сих пор отчетливо помню тот день в тренировочном лагере, когда узнал о смерти дяди Юлия. Со мной вместе были Меценат, Агриппа и Сальвидиен. Послание доставил один из слуг моей матери, и я, помнится, громко вскрикнул, словно пронзенный острой болью, прочитав его.
Но на самом деле, дорогой Николай, в этот первый момент я ничего не почувствовал, и тот горестный вопль издал вовсе не я, а кто–то другой. А затем меня охватило такое холодное равнодушие, что мне пришлось уйти прочь от моих друзей, чтобы они не могли разглядеть моих чувств или, вернее, отсутствия их. Не разбирая дороги я брел по полю, стараясь вызвать в себе подходящие случаю чувства скорби и утраты и неожиданно ощутил какой–то бешеный восторг, какой охватывает всадника, когда лошадь под ним вдруг понесет, но он уверен, что у него хватит умения совладать с норовистым скакуном, который в избытке жизненной энергии желает помериться силами со своим хозяином. Когда я вернулся к моим друзьям, я знал, что изменился, что я уже не тот, кем был раньше. Я знал свое предназначение, но не мог сказать им об этом, хотя они и были мне друзьями.
Тогда я, пожалуй, не смог бы облечь это в слова, но я понял, что мое предназначение заключается в одном: изменить мир. Юлий Цезарь пришел к власти в мире, который был настолько растлен, что и представить себе невозможно. Всем заправляли шесть самых влиятельных семейств; города, районы и провинции, находившиеся под властью Рима, служили разменной монетой, когда было необходимо дать кому–то взятку или наградить за услугу; именем республики и под видом традиции убийства, гражданские распри и безжалостное преследование недовольных стали средством к достижению общепризнанных целей – таких, как власть, богатство и слава. Любой обладающий достаточными средствами мог собрать армию и с ее помощью приумножить свое состояние, что приносило ему еще больше власти и соответственно славы. Римлянин убивал римлянина, а вопрос о власти решался простым превосходством в вооруженной силе и богатстве. Среди всех этих междоусобиц и раздоров корчился в смертных муках, словно заяц, попавший в ловушку, простой римский гражданин.
Не пойми меня превратно – я никогда не испытывал сентиментально–напыщенной любви к простому народу, которая была так популярна в годы моей юности (как, впрочем, и сейчас). Человечество в делом я всегда считал глупым, невежественным и жестоким, будь то селяне в грубой одежде или сенаторы в белой с пурпуром тунике. И все же даже в самом слабом из людей в те краткие мгновения, когда он оставался наедине с самим собой, я находил проявления силы, словно вкрапления золота среди пустой породы; в самом безжалостном – проблески нежности и сострадания; в самом тщеславном – простоту и изящество. Я помню поведение Марка Эмилия Лепида в Мессине, на старости лет лишенного всех своих титулов, вынужденного публично, на глазах у воинов, которыми он только недавно еще командовал, просить прощения за свои преступления и умолять сохранить ему жизнь: тяжело поднявшись с колен, он окинул меня долгим пронзительным взглядом, в котором не было ни тени стыда, или раскаяния, или страха, улыбнулся и, повернувшись ко мне спиной, ушел в безвестность, широко расправив плечи. А еще я помню Марка Антония в битве при Акции, когда он, стоя на носу своего корабля, наблюдал за бегством Клеопатры со всем ее флотом, обрекшим его на неминуемое поражение, остро осознав в тот момент, что она его никогда не любила, но при этом сохранив на своем лице выражение почти материнской любви и всепрощения. Мне также вспоминается Цицерон, когда он наконец понял, что его глупые интриги окончились неудачей, а я предупредил его, притом тайно, о смертельной опасности. Он ласково улыбнулся, как будто между нами никогда не было вражды, и сказал:
– Не утруждай себя. Я пожил свое, и, какие бы ошибки я ни допустил, я всегда любил родину.
Мне говорили, что он с тем же достоинством отдал себя в руки палача.
Я решил изменить мир вовсе не из наивного идеализма изнеженного юнца или тщеславной праведности – этих неизменных предвестников поражения – и не ради увеличения своего богатства и влияния, ибо богатство, превышающее разумные пределы, всегда казалось мне самым тривиальным из всех земных благ, а власть, превышающая собственную полезность, – самым презренным. То неумолимая судьба заключила меня в свои объятия в тот решающий день в Аполлонии, почти шестьдесят лет назад, и я не стал делать попыток вырваться из них.
Тем не менее, скорее благодаря инстинкту, чем твердому знанию, я понял, что если человеку на роду написано изменить мир, то прежде он обязан изменить самого себя. Для этого он должен найти внутри себя или создать заново второе, тайное и безжалостное, «я», равнодушное как к нему самому, так и к другим, а также к миру, который ему предписано переделать, руководствуясь вовсе не собственными желаниями, а тем, с чем он сталкивается по ходу переделки.
И все же они оставались моими самыми близкими друзьями даже тогда, когда в глубине души я отказался от них. Какое своенравное это создание – человек, который почему–то больше всего ценит то, от чего отказался или что оставил позади! Солдат, выбравший войну своей профессией, в разгар битвы жаждет мира, а во время мира мечтает о звоне мечей и кровавом хаосе сражения; раб, воспротивившись навязанной ему зависимости, за счет собственного усердия покупает себе свободу, чтобы затем попасть в кабалу к еще более жестокому и требовательному хозяину; Любовник, покинувший свою подругу, остаток жизни проводит в мечтах о ее воображаемом совершенстве.
Все это в полной мере я отношу и к себе. В молодости я бы сказал, что мое одиночество и отчужденность были мне навязаны извне – и был бы не прав. Как и большинство других людей, я сам выбрал свою жизнь; я предпочел отгородиться от мира некой неопределенной мечтой о своем предназначении, мечтой, которой я ни с кем не могу поделиться, закрыв себе тем самым путь к той самой обычной человеческой дружбе, о коей так редко говорят – настолько она ординарна – и потому почти не дорожат.
Обычно мы прекрасно осознаем, чем чреваты те или иные наши действия, однако имеем обыкновение внушать себе, что легко сможем ужиться с их последствиями. Я знал, что мне до конца дней своих предстоит жить с последствиями моего решения, но не мог и предположить, насколько тяжело это будет. Ибо чем больше росла моя потребность в дружбе, тем решительнее я отказывался от нее. И, как мне кажется, мои друзья – Меценат, Агриппа и Сальвидиен – так никогда и не сумели до конца оценить, как важна была для меня их дружба.
Сальвидиен Руф умер задолго до того, как мог это понять; как и я, он был движим энергией юности, столь беспощадной, что сам по себе результат стал ничем, а выход энергии превратился в самоцель.
Молодой человек, не имеющий понятия о будущем, видит свою жизнь как эпическое приключение, некую одиссею среди незнакомых островов и неизвестных морей, где он сможет проверить и показать себя и через это добиться бессмертия. Человек средних лет, поживший в будущем, о котором когда–то мечтал, рассматривает свою жизнь как трагедию, ибо понял, что вся его власть, какой бы огромной она ни была, не способна взять верх над теми силами природы и случая, которых он называет богами, и узнал, что смертен. Но человек преклонного возраста, если он строго придерживается предписанной ему роли, должен рассматривать жизнь как комедию, ибо все его победы и поражения в конце концов сливаются воедино, и первое дает не больше оснований для гордости, чем второе – для стыда; он начинает осознавать, что не является ни героем, проявившим себя в борьбе с этими силами, ни их жертвой. Словно давно растерявшему себя, жалкому и ничтожному актеришке, ему вдруг открывается, что он перепробовал так много ролей, что уже давно перестал быть самим собой.
Я тоже сыграл немало ролей за свою жизнь, и если теперь, когда подошла пора сыграть последнюю из них, мне представляется, что я сумел уклониться от участия в той бездарной комедии, в которую я был против своей воли вовлечен, то это может быть очередной уловкой, последним ироническим поворотом сюжета, на котором она кончается.
Юношей я играл роль школяра, то есть того, кто изучает предметы, ему доселе незнакомые. Вместе с Платоном и пифагорейцами я на ощупь пробирался сквозь туман, в котором, как предполагается, бродят неприкаянные души в поисках новых тел; и некоторое время, убежденный в кровной близости между человеком и зверем, я отказывался есть скоромное и испытывал такое чувство родства со своим конем, какое раньше и представить себе не мог. В то же самое время, не видя в том ни малейшего противоречия, я всем сердцем воспринял противоположные Платону учения Парменида [59] и Зенона [60] и весьма уверенно чувствовал себя в абсолютно цельном и неподвижном мире, который, по существу, был вещью в себе и потому открывал бесконечные возможности для манипуляции, во всяком случае для созерцательного ума.
И когда обстоятельства мои изменились, я не увидел ничего предосудительного в том, чтобы надеть маску воина и разыграть также и эту роль. «Войны, как внутренние, так и внешние, я вел по всему миру, на суше и на море… Дважды я был удостоен триумфа с овацией – торжественной встречей победителя, трижды праздновал курульные триумфы [61], и двадцать один раз меня приветствовали как императора». Да, как верно заметили другие, – возможно, с большим тактом, чем я того заслуживаю, – я был неважным воином. Все успехи, кои я относил на свой счет, были достигнуты благодаря людям, более умелым в военном деле, чем я, – сначала Марку Агриппе, а позже тем, кто перенял у него навыки искусства, мастером которого он слыл. Вопреки эпиграммам и слухам, имевшим хождение в первые годы моей военной карьеры, я был не трусливее других и достаточно крепок духом, чтобы сносить тяготы военных походов. Я полагаю, тогда меня еще меньше занимал факт моего существования, чем сейчас, а невзгоды походной жизни приносили мне некую странную радость, какую мне никогда не доводилось испытывать ни до того, ни после.
Говорят, наши древние предки приносили в жертву богам людей, а не животных; сегодня мы с гордостью заявляем, что этот обычай так давно отошел в прошлое, что существует лишь в условном мире мифов и легенд. Мы недоуменно качаем головой, поражаясь тому варварскому времени, столь далеко (по нашим собственным словам) отстоящему от нынешней просвещенной и гуманной эпохи, и не устаем дивиться примитивной жестокости, на которой покоятся основы нашей цивилизации. Я тоже порой смутно ощущал некую абстрактную жалость к древнему рабу или селянину, вынужденному закончить свою жизнь под жертвенным ножом на алтаре кровожадного божества, но при этом неизменно чувствовал какую–то неловкость.
Иногда во сне передо мной бесконечными рядами проходят десятки тысяч человеческих призраков, которым уже никогда не доведется ходить по земле, призраков не менее безвинных, чем те жертвы, что смертью своей должны были умилостивить древних богов; и мне кажется в смутной неясности или, напротив, очевидности моего сна, что я и есть тот жрец, что вышел из темного прошлого нашего народа, дабы произнести ритуальные слова, вслед за которыми в невинную жертву вонзается жертвенный нож. Мы уверяем себя, что стали цивилизованными, и с благоговейным ужасом говорим о тех временах, когда бог плодородия по недоступным простому смертному причинам требовал себе в жертву человеческую плоть. Но разве бог, коему на нашей памяти и даже в наше время поклонялось так много римлян, не является столь же грозным и непонятным, как и то древнее божество? Чтобы покончить с ним, я стал его жрецом, чтобы ослабить его власть, я во всем повиновался ему. Но мне не удалось ни уничтожить его, ни умалить его могущества. Он, затаившись, дремлет в душах людей, ожидая подходящего момента, чтобы воспрянуть ото сна. Я не видел большой разницы между жестоким прошлым, готовым положить невинную жизнь отдельного человека на алтарь страха, не имеющего имени, и просвещенным настоящим, способным принести тысячи жизней в жертву страху, которому мы дали имя.
Однако я рано понял, что почитание богов, порожденных темными глубинами инстинкта, подрывает общественные устои. Именно поэтому я подбил сенат на то, чтобы объявить божественным Юлия Цезаря, и приказал воздвигнуть в Риме храм в его честь, дабы присутствие его гения постоянно чувствовалось людьми. Я не сомневаюсь, что после моей смерти сенат точно так же сочтет необходимым обожествить и меня. Как ты знаешь, меня уже почитают за бога во многих италийских городах и провинциях, хотя я никогда и не позволял практиковать сей нелепый культ в самом Риме. Подобное поклонение конечно же глупость, но с ней приходится мириться. Тем не менее из всех ролей, что мне довелось сыграть в своей жизни, роль смертного бога вызывала у меня наибольшую неловкость. Я самый обычный человек, столь же склонный к ошибкам и подверженный тем же слабостям, что и большинство других людей; и если у меня и было какое преимущество перед моими собратьями, так это то, что я не питал никаких иллюзий на свой счет, а посему знал их собственные слабости и никогда не считал себя сильнее или мудрее, чем кто бы то ни был другой. Это знание было одним из источников моей власти.
День перевалил за середину, и солнце начинает медленно клониться к западу. На море опустился штиль; безвольно повисшие надо мной пурпурные паруса ярким пятном выделяются на фоне бледно–голубого неба; наше суденышко плавно покачивается на волнах, почти оставаясь на месте. Умирающие от скуки гребцы, целый день предоставленные самим себе, бросают на меня полные надежды взгляды, ожидая, что я наконец прерву их безделье и брошу на борьбу со штилем, приостановившим наше продвижение вперед. Но я вовсе не собираюсь этого делать. Через полчаса, или через час, или даже через два поднимется ветер, и мы не спеша направимся к берегу, где, подыскав подходящую гавань, бросим в ней якорь. А пока я готов целиком положиться на волю волн.
Из всех напастей, приносимых нам старостью, самой мучительной является бессонница, от которой я все больше и больше страдаю. Как ты знаешь, я всегда испытывал затруднения со сном, но когда я был моложе, я умел найти применение сему ночному беспокойству ума и высоко дорожил теми прекрасными мгновениями, когда весь мир пребывал в глубоком забытьи и лишь мне одному было дано видеть его спящим. Вдали от тех, кто любит давать мне советы, исходя из собственного видения мира, то бишь самих себя, я наслаждался возможностью неспешного созерцания и царящей вокруг тишиной; многие из моих самых важных решений были приняты в ранние предрассветные часы, когда я лежал без сна в своей постели. Но бессонница, которая мучает меня отныне, совсем другого рода. Это уже не порождение неуемной энергии ума, слишком живого, чтобы позволить сну лишить его осознания самого себя; это, скорее, некое ожидание, растянутое мгновение, в течение которого душа готовит себя к тому покою, какого никогда не знали ни ум, ни тело.
Я совсем не спал этой ночью. На закате мы бросили якорь примерно в трех стадиях от берега, в небольшой бухточке, прячущей от посторонних глаз несколько рыбацких лодок и безымянную деревушку, крытые соломой хижины которой лепились по склонам невысокого холма в полумиле от кромки моря. С наступлением вечера мне стали еще отчетливее видны факелы и огни костров, мерцающие в темноте, и я наблюдал за ними до тех пор, пока они не погасли один за другим. И снова мир погрузился в сон; по случаю теплой ночи часть команды решила расположиться на палубе; Филипп отдыхает внизу подо мной, возле каюты, где, как ой полагает, я сплю. Легкие, почти неприметные волны плещутся о борт; ночной бриз нежно шепчет в свернутых парусах; светильник на моем столе неровно мерцает, и мне приходится напрягать глаза, чтобы разглядеть написанные мною строчки.
Этой долгой ночью мне пришло в голову, что мое письмо служит вовсе не той цели, каковой первоначально предполагалось. Когда я начал его писать, в мои намерения входило всего лишь поблагодарить тебя за «Николаи» и заверить в своей дружбе и, может быть, еще предложить слова утешения, столь необходимые нам в старости. Но так вышло, что сия дружеская любезность, как я вижу, обернулась чем–то совсем иным. Она превратилась в другое, вовсе не предвиденное мной путешествие. Мой путь лежит на Капри, но нынче мне кажется, что в этой ночной тиши, под этим небом с его таинственной геометрией звезд, в мире, где ничего другого не существует, кроме моей руки, выводящей эти странные знаки, кои ты каким–то непостижимым образом сумеешь распознать, я направляюсь совсем в иное место, загадочнее которого я ничего не знаю. Я продолжу письмо завтра. Может быть, нам удастся узнать порт моего назначения.
Десятое августа
Утро нашего отплытия из Остии было сырое и холодное; я долго оставался на палубе (что было весьма легкомысленно с моей стороны), наблюдая за тем, как в утреннем тумане постепенно скрывается из глаз италийский берег, и обдумывая начало моего письма к тебе, в котором я первоначально намеревался просто передать свою благодарность за очередную посылку с «Николаями» и заверить, что, несмотря на нашу долгую разлуку, по–прежнему тебя люблю. Но, как ты уже, наверное, догадался, мое письмо вылилось в нечто большее; и я прошу своего старого друга проявить ко мне снисходительность и выслушать то, что я хочу сказать Холодный воздух вызвал–таки одну из моих простуд, которая переросла в лихорадку, и мне в который раз пришлось смиряться с очередным недомоганием. Я не стал говорить Филиппу об этой моей новой болезни; более того, я даже заверил его в своем полном благополучии, ибо чувствую настоятельную потребность завершить мое письмо и не хочу, чтобы Филипп своим чрезмерным вниманием помешал мне в этом.
Вопрос моего здоровья всегда занимал меня гораздо меньше, нежели всех остальных. С юных лет оно не отличалось особой крепостью – я был подвержен такому количеству различных болезней, что немало врачей – больше, чем мне хотелось бы думать, – нажили себе на этом состояние. У меня есть сильные подозрения, что по большей части богатство досталось им незаслуженно, но я их в том не виню. Мое тело так часто приводило меня на грань смерти, что во время моего шестого консульства, когда мне было всего тридцать пять лет, «сенат постановил, что каждые четыре года консулы и жрецы будут возносить молитвы и совершать жертвоприношения за мое здоровье. В подкрепление их действий устраивались зрелища (дабы напомнить народу о его долге перед императором), и всех граждан, как по отдельности, так и целыми муниципиями, поощряли на принесение регулярных жертв в храмах богов во благо моего здоровья и благополучия». Это конечно же была глупость, но, как бы то ни было, сия глупость оказалась не менее полезной для моего здоровья, чем многочисленные лекарства и различные экзекуции, которым подвергали меня врачи, и дала народу возможность почувствовать свою причастность к судьбе империи.
Шесть раз за мою жизнь это тело – склеп моей души – приводило меня на порог вечной тьмы, в которую в конце концов канут все смертные, и шесть раз в самый последний момент оно отступало, как будто повинуясь велению рока, которому не могло противиться. Я намного пережил всех своих друзей, в которых я мог раскрыться гораздо полнее, чем в узких рамках собственного существования. Их никого уже нет в живых, моих старинных друзей. Юлий Цезарь погиб в пятьдесят восемь лет, будучи почти на двадцать лет моложе меня нынешнего; мне всегда казалось, что его смерть можно в той же степени отнести на счет неизбывной скуки, этой предвестницы опасной беспечности, как и кинжалов его убийц. Сальвидиен Руф умер в двадцать три года, в самом расцвете жизни, пав от своей собственной руки, ибо полагал, что предал нашу дружбу. Бедный Сальвидиен! Из всех друзей моей юности он больше всего походил на меня. Догадывался ли он, что на самом–то деле предателем был я, а он – всего лишь невинной жертвой болезни, которой заразился от меня, – вот что хотелось бы мне знать. Вергилий умер в пятьдесят один год, и до самой последней минуты я не отходил от его изголовья. Метаясь в бреду, он говорил, что умирает неудачником, и заставил меня дать обещание уничтожить его великую поэму об основании Рима. А затем, в возрасте пятидесяти лет, достигнув вершины своего величия, совсем неожиданно – прежде, чем я смог принести ему свой последний поклон, – скончался Марк Агриппа, который за всю жизнь ни разу ничем не болел. А несколькими годами позже – в моей памяти они все сливаются в одно, словно звуки тамбурина, лиры и трубы, образующие единую мелодию, – в течение месяца один за другим почили Меценат и Гораций. За исключением тебя, мой дорогой Николай, они были последними из моих старых друзей.
И вот нынче, когда моя собственная жизнь медленно, капля по капле покидает меня, в их судьбах мне видится некая гармония, которой я не был благословлен. Все они умерли в расцвете сил, завершив труд своей жизни, но при этом знали, что она могла подарить им еще много славных побед; им не случилось с сожалением узнать, что их жизнь прошла впустую. Я же теперь пришел к выводу, что почти двадцать лет моей жизни оказались выброшены на ветер. Александру Великому посчастливилось умереть молодым, иначе бы он узнал, что покорить мир – заслуга небольшая, а управлять им – и того меньшая.
Ты знаешь, что как поклонники мои, так и хулители часто сравнивали меня с молодым честолюбивым македонцем: это правда, что Римская империя ныне включает в себя многие из тех земель, что когда–то покорил Александр; также верно и то, что, как и он, я пришел к власти еще совсем молодым и успел побывать во многих землях, которые он первым подчинил своей необузданной воле. Однако я никогда не стремился к покорению мира и был скорее тем, кем правят, чем правителем.
И если я и присоединил к нашей империи новые территории, то сделал это лишь для защиты ее пределов – будь Италия в безопасности без этих завоеваний, я бы вполне удовлетворился нашими древними границами. Так вышло, что я провел в чужих землях больше времени, чем хотелось бы. От узкого пролива, где Боспор переходит в Понт Эвксинский, – до самых дальних берегов Испании; от холодных голых равнин Паннонии, где живут отогнанные от границ империи германские варвары, – до горячих песков Африки – везде я побывал; однако я чаще приходил в чужие страны не как завоеватель, а как посол, вступая в мирные переговоры с правителями, больше напоминающими племенных вождей, чем глав государств, часто даже не владеющими ни греческим, ни латынью. В отличие от моего дяди Юлия Цезаря, находившего некую странную новизну в продолжительных странствиях за границей, мне пребывание в чужеземных краях никогда не доставляло ни малейшего удовольствия – я всегда скучал по родным италийским просторам и даже по Риму.
Но я научился уважать и отчасти даже любить этих странных людей, столь непохожих на римлян, с коими мне приходилось иметь дело. Полуобнаженный воин из северных племен, закутавшийся в шкуру дикого зверя, коего он убил собственной рукой, и внимательно разглядывающий меня сквозь дым походного костра, не многим отличался от смуглого выходца из Северной Африки, принимавшего меня на вилле, пышностью своей затмевающей многие римские дворцы; как, впрочем, и от носящего на голове тюрбан персидского вельможи, с его тщательно завитой бородой, в шальварах и плаще, расшитом золотой и серебряной нитью, с внимательными, как у змеи, глазами; или от свирепого нумибийского вождя, встречающего меня с копьем и щитом из слоновой кожи, чье черное как смоль тело завернуто, в шкуру леопарда. Время от времени я давал этим людям власть и покровительство Рима, делая их царями в их собственных землях. Я даже предоставлял им римское гражданство, дабы именем Рима поддерживать порядок в их владениях. Они были варварами, и я не мог им полностью доверять; однако не раз я ловил себя на том, что находил в них не меньше черт, достойных восхищения, чем тех, что заслуживают порицания. Знание этих людей помогло мне лучше понять моих собственных соплеменников, которые зачастую казались мне не менее странными, чем другие народы, населяющие этот огромный мир.
За надушенным и тщательно завитым римским щеголем, одетым в тогу из запрещенного шелка и жеманно рассуждающим о своем замечательно ухоженном саде, стоит неотесанный селянин, который добывает свой хлеб насущный, ходя за плугом, весь покрытый потом и пылью; за мраморным фасадом самого роскошного римского особняка скрывается крытая соломой хижина сельского жителя, а в жреце, который совершает во славу богов ритуальное заклание белой телки, живет трудолюбивый отец семейства, обеспечивающий мясом на обед и одеждой для защиты от зимних холодов.
Одно время, когда мне необходимо было заручиться благорасположением и благодарностью народа, я, бывало, устраивал сражения гладиаторов. В то время большинство их участников были преступниками, которым за их низкие деяния в любом случае полагалась либо смерть, либо высылка из страны. Я предоставлял им выбор между ареной цирка и наказанием, что было назначено судом; при этом в качестве непременного условия я поставил право побежденного бойца просить о пощаде, а также то, что по истечении трех лет гладиатор, сумевший остаться в живых, будет отпущен на свободу вне зависимости от тяжести совершенного им преступления. Меня ничуть не удивляло, что преступник, осужденный на смерть или рудники, выбирал цирк, но вот что действительно поражало меня до глубины души, так это то, что осужденный на высылку из Рима предпочитал арену цирка относительно невеликим опасностям, ждущим его в чужих краях. Меня эти развлечения никогда не привлекали, однако я заставлял себя их посещать, чтобы показать народу, что разделяю его вкусы, и с ужасом созерцал, какое неизбывное наслаждение он получал от этого кровавого зрелища, как бы внося новый смысл в собственную жизнь посредством наблюдения за тем, как другой, менее удачливый, чем они, расставался со своей. Не раз мне приходилось усмирять кровожадную жестокость толпы, сохраняя жизнь храбро сражавшемуся бедолаге; при этом на лицах зрителей, в тот момент словно слившихся в одно, я читал горькое разочарование неудовлетворенной страсти. Я даже одно время приостановил зрелища, предусматривающие неминуемую смерть побежденного, и заменил их кулачными боями, в которых италиец противостоял варвару. Однако толпе это не приглянулось, и другие, желавшие купить себе обожание народа, стали устраивать зрелища настолько кровавые, что я был вынужден оставить эту свою затею с подменой и снова уступить пожеланиям моих соотечественников, дабы не потерять власти над ними.








