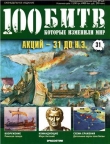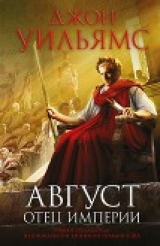
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
Речь идет о заговоре, и при этом очень серьезном, уже успевшем зайти достаточно далеко.
Я поделюсь добытыми мною сведениями, стараясь оставаться как можно более объективным, но ты должен понять, что все чувства восстают во мне против бесстрастной холодности моих слов.
Семь–восемь лет назад – в год его консульства – я отдал в услужение Юлу Антонию в качестве библиотекаря своего раба, которому незадолго до того дал свободу, – некоего Алексаса Афинского. Алексас всегда был разумным человеком, каковым является и по сю пору; на протяжении многих лет он неизменно оставался мне верен, и я на полном основании считаю его своим другом. Узнав о проводимом мной расследовании, он пришел ко мне в чрезвычайно расстроенных чувствах, принеся с собой некоторые записи, которые изъял из тайной картотеки Юла Антония, содержащие чрезвычайно тревожные разоблачения.
Без сомнения, существует заговор с целью убийства Тиберия. Заговорщики уже заручились поддержкой некоторых фракций из окружения Тиберия на Родосе. С ним предполагается расправиться в той же манере, в какой Брут, Кассий и другие расправились с Юлием Цезарем, представив это убийство как подлинное восстание против власти Рима. Под предлогом грозящей государству опасности планируется собрать армию под началом бывшего консула, а ныне сенатора Квинктия Криспина якобы для защиты Рима, а на самом деле для захвата власти данной фракцией заговорщиков. Если ты попытаешься воспрепятствовать созданию этой армии, то выставишь себя либо трусом, либо безразличным к судьбе своей страны; если же нет, то поставишь под удар свое положение и личную безопасность, не говоря уже о мирном будущем Рима.
Ибо имеются веские доказательства, что одновременно с осуществлением плана по устранению Тиберия будет предпринято прямое покушение на твою жизнь.
В состав заговорщиков входят: Семпроний Гракх, Квинктий Криспин, Аппий Пульхр, Корнелий Сципион и Юл Антоний. Я знаю – это последнее имя особой болью отзовется в твоем сердце; я считал Юла своим другом и полагал, что и тебе он друг. Но, как оказалось, я ошибался.
Однако это еще не все.
Алексас Афинский также уведомил меня, что тайно от Юла Антония в его дом был внедрен раб, являющийся на деле соглядатаем Тиберия. Этот раб посвящен во все детали заговора; именно его мимоходом оброненные слова стали причиной возникших у Алексаса подозрений. Упомянутый соглядатай докладывает обо всем непосредственно Тиберию, из чего я могу заключить, что у того тоже есть план.
По всей видимости, ему так же хорошо известно о заговоре, как и мне, и он намерен использовать это знание в своих целях. Он собирается разоблачить заговор в сенате через своего представителя в нем, бывшего соконсула Гнея Кальпурния Пизона, который потребует привлечения виновных к суду за государственную измену; сенату ничего не останется делать, как только согласиться; затем Тиберий соберет армию на Родосе и вернется в Рим якобы для защиты тебя и республики. В глазах народа он будет героем, а ты – глупцом; в результате твое влияние умалится, а его, напротив, возрастет.
И еще одно – самое тягостное из всех – известие, которое я обязан тебе сообщить.
Я не сомневаюсь, что в течение нескольких последних лет, с тех пор как Тиберий Клавдий Нерон оставил Рим, ты не мог не замечать предосудительного поведения своей дочери. Нет также сомнения, что из чувства сострадания к ее непростым обстоятельствам и личной привязанности к ней ты предпочитал смотреть в другую сторону – как и большинство твоих друзей и даже некоторые из врагов. Однако, как явствует из имеющихся у меня на руках документов, Юлия состояла в связи с каждым из заговорщиков, а в последний год ее любовником неизменно оставался Юл Антоний.
Если эти сведения станут достоянием общественности, Юлия почти наверняка будет представлена как участница заговора; к тому же у Тиберия могут иметься улики еще более сокрушительной силы, чем мы можем себе представить.
В случае публичного разоблачения заговора она неизбежно окажется замешанной, причем ее причастность к нему будет выглядеть столь неоспоримой, что ей в той же степени грозит обвинение в государственной измене, что и всем остальным заговорщикам. Ни для кого не секрет, что она ненавидит Тиберия и, как всем известно, любит Юла Антония.
Записи, на которые я ссылаюсь, хранятся у меня в надежном месте. Ни один человек, кроме меня и Алексаса Афинского (и самих заговорщиков, конечно), их не видел и не увидит. Они всецело в твоем распоряжении – можешь поступать с ними как пожелаешь.
Сам Алексас Афинский вынужден скрываться из опасения за свою жизнь, так как пропажа из дома Юла Антония столь важных свитков не может остаться незамеченной. Алексас – замечательный человек, и я ему целиком и полностью доверяю. Он заверил меня, что, несмотря на всю свою преданность Юлу Антонию, Рим и император для него важнее. В случае необходимости он готов дать показания. Но позволь попросить тебя об одной личной услуге: если для подтверждения этих показаний потребуется подвергнуть его пытке, пусть она будет ритуальной, а не настоящей. Я безоговорочно верю этому человеку, который и так потерял почти все, что имел, в результате своих разоблачений.
Мой дорогой друг, по правде говоря, я бы скорее предпочел расстаться с собственной жизнью, чем быть носителем столь печальных вестей. Но мне отказано в этой роскоши, ибо в первую очередь я должен позаботиться о безопасности личности императора и Рима, а только потом уже думать о кажущемся утешении собственной смерти.
Я ожидаю твоих приказаний, каковыми они бы ни были.
VI
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
На Пандатерию пришла осень. Скоро свирепые северные ветра обрушатся на его голые скалы, громко свища и завывая среди камней, из коих сложен и мой домик, который будет содрогаться под их могучими порывами, а негостеприимное зимнее море станет яростно биться о пустынный берег… Здесь ничто не меняется, кроме времен года. Моя мать по–прежнему бранит и наставляет служанку, не зная устали, хотя в последний месяц или около того она, как мне кажется, несколько подрастеряла свой пыл. Неужели и она умрет на этом острове? Если да, то это будет ее собственный выбор – в отличие от нее, у меня его нет.
Я уже почти два месяца не делала никаких записей в моем дневнике, решив, что мне больше нечего себе сказать. Но сегодня я получила письмо из Рима, в котором нашла новости, пробудившие во мне воспоминания о тех днях, когда я еще была живой. И вот я снова говорю с ветром, который тут же подхватывает и уносит мои слова прочь в бессмысленном порыве ярости.
Когда я писала о Юле Антонии, мне пришла в голову мысль, что на этом хорошо было бы и закончить мой дневник, который и без того уже растянулся до бесконечности. Ибо если Юл Антоний вдохнул в меня жизнь, то он же и навлек на меня медленную смерть на Пандатерии, где мне предстоит наблюдать собственное увядание. Интересно, мог ли он сам предвидеть, что с нами случится? Впрочем, это неважно – я все равно не способна на ненависть к нему.
Даже тогда, когда я поняла, что он погубил нас обоих, я не смогла возненавидеть его.
Осталось лишь одно, о чем я должна рассказать.
В консульство Октавия Цезаря Августа и Марка Плавтия Сильвана я, Юлия, дочь императора, перед лицом сената в Риме была обвинена в супружеской неверности и, таким образом, в нарушении законов о браке и прелюбодеянии, принятых сенатом согласно эдикту моего отца пятнадцать лет назад. Моим обвинителем был мой собственный отец. Он подробно рассказал обо всех моих преступлениях, назвал имена любовников, места тайных свиданий и даты. В целом все было верно, хотя несколько не особо важных имен он опустил, назвав Семпрония Гракха, Квинктия Криспина, Аппия Пульхра, Корнелия Сципиона и Юла Антония. Он описал пьяный кутеж на форуме и постыдное шутовство на той самой трибуне, с которой он впервые объявил о введении этих законов; поведал о моих частых визитах в дома терпимости, давая понять, что в своем извращенном сладострастии я дошла до того, что продавалась любому, кто мог меня возжелать; описал мои посещения сомнительного свойства купален, в которые одновременно допускались и мужчины и женщины и где поощрялась всякого рода распущенность. Эти его сведения страдали преувеличением, но все же в них оставалось достаточно правды, чтобы они выглядели убедительно. В заключение он потребовал, чтобы, согласно юлианским законам, меня навечно изгнали из пределов Рима, и попросил сенат отправить меня в ссылку на остров Пандатерия, где мне суждено было провести остаток моих дней в размышлении о своих пороках.
Если история и запомнит меня, то запомнит именно такой.
Но история не будет знать правды, если она вообще на это способна.
Отец знал о моих похождениях. Они причиняли ему боль, но он понимал, чем они вызваны, и никогда особенно не укорял меня ими. Ему было известно о моей любви к Юлу Антонию, и, как мне кажется, он был почти счастлив за меня.
В консульство Гая Октавия Цезаря и Марка Плавтия Сильвана я была осуждена на ссылку, чтобы не быть казненной по обвинению в измене против римского государства.
На Пандатерии осень – как когда–то, шесть лет назад в Риме, когда кончилась моя жизнь. Я не имела никаких вестей от Юла Антония в течение трех дней: записки, которые я посылала ему домой, пришли обратно нераспечатанными; слугам, отряженным мной, отказали в приеме, и им пришлось в недоумении вернуться домой. Я пыталась вообразить то, что обычно приходит на ум всем влюбленным, но ничего не получалось. Я знала: что–то не так, что–то гораздо более серьезное, чем рискованные игры ревнивого любовника.
Но клянусь богами, я понятия не имела, в чем дело. Я ничего не подозревала или, возможно, не хотела подозревать. Я ни о чем не догадывалась и тогда, когда на третий день молчания у моих дверей появился гонец с четырьмя стражниками, чтобы препроводить меня к моему отцу. Я даже не поняла значения стражи, решив, что это положенная по обычаю охрана.
Мои носилки проследовали через форум, потом по Священной улице мимо императорского дворца и затем вверх по небольшому холму к дому моего отца на Палатине, который был почти совершенно безлюден. Когда я в сопровождении стражников прошла через двор к кабинету отца, несколько слуг, встретившихся нам по дороге, поспешно отвернулись от меня, как будто чем–то напуганные. Лишь тогда я, как мне кажется, начала осознавать всю серьезность моего положения.
Когда меня ввели в кабинет, мой отец стоял в дверях, как если бы ожидал меня. Он жестом отпустил стражников и затем долго всматривался в меня, прежде чем заговорить.
По какой–то необъяснимой причине я в то же самое время внимательно разглядывала его – в конце концов, я, наверное, все поняла. Лицо его выглядело старым, с морщинками, собравшимися вокруг светло–голубых глаз. Однако в сумраке темной комнаты это было лицо моего отца, каким я помнила его с детства. Наконец я сказала:
– Что за причуды? Зачем ты послал за мной?
Он приблизился ко мне и нежно поцеловал в щеку.
– Помни, – сказал он, – ты моя дочь, и я любил тебя.
Я ничего не ответила.
Отец подошел к небольшому столу, стоящему в углу, и, повернувшись ко мне спиной, застыл на мгновение, опершись на него. Затем он выпрямился и, не оборачиваясь, спросил:
– Ты знакома с неким Семпронием Гракхом?
– Ты прекрасно знаешь, что знакома, – ответила я. – И ты тоже.
– Ты была с ним близка?
– Отец…
Он повернулся ко мне – на лице его была написана такая мука, что больно было смотреть.
– Ты должна мне ответить, – сказал он. – Пожалуйста, прошу тебя.
– Да, – сказала я.
– И с Аппием Пульхром?
– Да.
– И с Квинктием Криспином и Корнелием Сципионом?
– Да, – снова ответила я.
– И с Юлом Антонием.
– И с Юлом Антонием тоже, – сказала я. – Все остальные не в счет – то было так, глупость. Но Юла Антония я люблю, и ты об этом знаешь.
Отец вздохнул.
– Дитя мое, – сказал он, – речь идет вовсе не о любви.
Он снова отвернулся и взял несколько свитков, лежавших на столе. Затем он передал их мне. Я стала читать. Руки мои дрожали. Я не видела этих бумаг раньше – среди них были письма, столбцы цифр и какие–то списки имен, среди которых я заметила знакомые: мое собственное, Тиберия, Юла Антония, Семпрония, Корнелия, Аппия. Только тогда я поняла, по какой причине отец вызвал меня к себе.
– Если бы ты потрудилась более внимательно прочитать эти свитки, – сказал он, – ты бы заметила, что в них идет речь о заговоре против государственной власти, и первым шагом его должно быть убийство твоего мужа Тиберия Клавдия Нерона.
Я промолчала.
– Ты знала об этом заговоре?
– Какой заговор? Не было никакого заговора, – ответила я.
– Говорила ли ты с кем–нибудь из этих твоих… твоих друзей о Тиберии?
– Нет. Может быть, лишь походя. Ни для кого не секрет, что…
– Ты его терпеть не можешь?
– Я его терпеть не могу, – помедлив, сказала я.
– Говорила ли ты что–нибудь касающееся его смерти?
– Нет, вернее, совсем не так, как ты думаешь. Возможно, я упомянула об этом в разговоре с…
– Юлом Антонием? – спросил отец. – Что ты говорила Юлу Антонию?
Голос мой дрожал. Напрягши каждый мускул в своем теле, я произнесла как можно отчетливее:
– Юл Антоний и я хотели пожениться. Мы говорили о супружестве. Вполне возможно, что в разговоре я упомянула о том, что хотела бы видеть Тиберия мертвым. Ты ведь не дал бы согласия на развод.
– Нет, – подтвердил он с грустью, – не дал бы.
– Вот и все. Больше я ничего не говорила.
– Ты дочь императора, – начал было отец и остановился. – Присядь, дитя мое, – предложил он, указывая на сиденье рядом со столом. – Это заговор, – сказал он. – И в том нет никаких сомнений. К нему причастны твои друзья, которых я назвал, и некоторые другие. Ты тоже замешана в нем. Я не знаю ни степени, ни сущности твоей вины, но сам факт соучастия налицо.
– Юл Антоний, где Юл Антоний? – спросила я.
– Это обождет, – ответил он. – Известно ли тебе, что вслед за убийством Тиберия предполагалось и покушение на мою жизнь?
– Нет, не может быть! – воскликнула я.
– Это правда, – сказал отец, – Надеюсь, они не стали бы ставить тебя в известность, представив мою смерть как несчастный случай, болезнь или что–нибудь в этом роде. Но это определенно входило в их планы.
– Я не знала, – проговорила я. – Поверь мне, я ничего не знала.
– Надеюсь, это так. Ты ведь моя дочь, – сказал он, тронув меня за руку.
– Юл…
Он жестом остановил меня:
– Подожди… Если бы только я один знал об этом, то все было бы просто: я бы сохранил сведения в тайне и принял бы собственные меры. Но это известно не мне одному. Твой муж… – Он произнес это слово так, как будто оно было непристойностью. – Твой муж знает столько же, сколько и я, а возможно, и больше. У него имелся соглядатай в доме Юла Антония, который осведомлял его обо всем, что там происходит. План Тиберия – разоблачить заговор в сенате и через своих представителей в нем настоять на судебном процессе по делу о государственной измене. Кроме того, он собирается собрать армию и вернуться с ней в Рим для защиты от врагов государственной власти и меня лично. А тебе должно быть хорошо известно, что это значит.
– Это значит, что тебе угрожает опасность потерять свое влияние, – ответила я. – Это значит – снова гражданская война.
– Да. И более того: это неизбежно означает твою смерть. Я в этом почти не сомневаюсь. И Я не уверен, что даже у меня хватило бы власти предотвратить такой исход. Решение останется за сенатом, и я не могу вмешиваться.
– Тогда я пропала.
– Пропала, но не погибла, – сказал отец. – Мысль о том, что я позволил тебе умереть до срока, для меня невыносима. Тебя не будут судить за измену. Я подготовил письмо, которое собираюсь зачитать сенату. Ты будешь осуждена в соответствии с моим законом о прелюбодеянии и выслана из Рима и его провинций. Это единственный выход и единственный путь спасти и тебя и Рим.
Он улыбнулся уголками губ, но я заметила, что его глаза полны слез.
– Помнишь, я когда–то называл тебя «мой маленький Рим»?
– Помню, – ответила я.
– И вот теперь, похоже, выясняется, что я был прав, – ваши судьбы оказались неотделимы одна от другой.
– Юл Антоний, что стало с Юлом Антонием? – потеряв терпение, спросила я.
Он снова тронул меня за руку.
– Дитя мое, – мягко сказал он, – Юла Антония нет в живых. Сегодня утром он покончил с собой, когда доподлинно узнал, что заговор раскрыт.
Я застыла, не в силах произнести ни слова. Наконец, обретя дар речи, я растерянно забормотала:
– Я надеялась… Я надеялась…
– Я больше никогда тебя не увижу, – сказал отец. – Никогда.
– Это уже не имеет значения, – сказала я.
Он еще раз внимательно посмотрел на меня. На глаза его набежали слезы, и он отвернулся. Через некоторое время в комнату вошли стражники и увели меня с собой.
С тех пор я не виделась со своим отцом. Насколько мне известно, он отказывается даже упоминать мое имя.
Среди новостей, которые я получила из Рима сегодня утром, была и та, что после многих долгих лет отсутствия Тиберий вернулся с Родоса в Рим. Мой отец сделал его своим приемным сыном. Если он не умрет раньше времени, то унаследует власть моего отца и станет императором.
Тиберий победил.
Больше мне не о чем писать.

Книга третья
Письмо: Октавий Цезарь – Николаю Дамаскину (14 год после Р. Х.)
Девятое августа
Дорогой Николай, прими мои сердечные приветствия и благодарность за очередную посылку с любимыми мною финиками, которыми ты столь любезно снабжал меня все эти годы. Они вошли в одну из самых значительных статей торговли с Палестиной и по всему Риму и его провинциям известны под твоим именем, которое я им присвоил. Я зову их «Николаи»; это название закрепилось за ними среди тех, кому они по карману. Надеюсь, тебя позабавит тот факт, что твое имя больше знакомо миру благодаря ласковому прозвищу, данному финикам, чем написанным тобой многочисленным трудам. Мы оба уже достигли того возраста, когда можем находить проникнутое горькой иронией удовольствие в знании о том, каким ничтожным пустяком в конце концов обернулась наша жизнь.
Я пишу тебе с палубы своего корабля, того самого, на котором много лет назад мы вместе не раз неспешно путешествовали среди небольших островов, разбросанных вдоль западного побережья Италии. Я сижу под пологом в средней части корабля, где когда–то мы с тобой сиживали, на небольшом возвышении, с которого хорошо видно вечно меняющееся море. Мы отплыли из Остии сегодня утром, в холодный не по сезону предрассветный час, и в настоящий момент дрейфуем на юг в сторону побережья Кампании. Я решил, что спешить мне особо незачем. Мы положимся на волю ветра, а если ветра не будет, то станем терпеливо дожидаться его, отдавшись на волю морских волн.
Мы направляемся на Капри. Несколько месяцев назад один из моих греческих соседей пригласил меня в качестве почетного гостя на ежегодные состязания местных юношей; я тогда отклонил его приглашение, сославшись на бремя государственных забот. Но недавно выяснилось, что мне необходимо съездить на юг по совсем другой надобности, и я принял решение немного себя побаловать.
На прошлой неделе моя жена обратилась ко мне в присущей ей сухой и чопорной манере с просьбой ее и сына в их поездке в Беневент, где у Тиберия были дела, связанные с его новым постом. Ливия принялась объяснять мне то, что мне и без того хорошо известно: что народ сомневается в моей привязанности к приемному сыну и что проявление толики расположения или заботы с моей стороны только пойдет ему на пользу, когда он в конечном итоге заменит меня у кормила власти.
Она выразилась не так прямо, ибо, несмотря на всю силу своего характера, всегда оставалась весьма дипломатичной. На манер одного из тех азиатских царедворцев, с которыми мне часто приходилось сталкиваться за свою долгую жизнь, она желала осторожно напомнить – без того, чтобы бросить мне в лицо жестокую истину, – что дни мои сочтены и что, мол, настала пора подумать о том, чтобы подготовить мир к грядущему хаосу, в который он неизбежно погрузится сразу после моей смерти.
Как водится, и в этом случае, как и почти во всех других, рассудительная Ливия оказалась совершенно права. Мне семьдесят шесть лет, я уже прожил дольше, чем хотел бы, и снедающая меня тоска отнюдь не способствует долгожительству. Зубы мои почти все выпали; руки трясутся от периодических приступов подагры, которая наносит визиты всегда некстати; старческая немощь поразила слабостью ноги. Порой, когда я выхожу на прогулку, во мне возникает странное ощущение, будто земля уходит у меня из–под ног – каждый камень, кирпич или клочок земли, на который я ступаю, так и норовит ускользнуть от меня, – и мне кажется, что в любой момент я могу упасть с лица земли туда, куда в конечном итоге попадает человек, время жизни которого на ней истекло.
Итак, я дал ей свое согласие, но при одном условии: мое присутствие будет символическим. Далее, я предложил, что, так как Тиберий не переносит морских путешествий, он с матерью отправится в Беневент по суше, в то время как я прибуду туда морем, и если тот или иной из них желает публично объявить о том, что муж одной и приемный отец другого путешествует вместе с ними, то я не стану против этого возражать. В конце концов, такое соглашение должно удовлетворить все заинтересованные стороны, и, как мне кажется, мы с большим удовольствием готовы спрятаться за этой уверткой, чем открыто признать неприятную правду.
Да, моя супруга – удивительная женщина; полагаю, мне с ней очень повезло. Она была достаточно хороша собой в молодости и сумела сохранить приятную наружность и в зрелом возрасте. По–настоящему мы любили друг друга лишь несколько лет после свадьбы, но и после этого мы всегда оставались в рамках приличий; более того, я бы даже сказал, что в конце концов мы стали чем–то вроде друзей. Мы понимаем друг друга. Я знаю, что где–то глубоко в ее сердце республиканки прячется чувство, что она вышла замуж за человека ниже себя, но обладающего огромной властью, променяв достоинство древнего рода на грубую силу того, кто по своему скромному происхождению не заслуживает такой чести. Со временем я пришел к выводу, что она пошла на это ради своего первенца Тиберия, которого всегда почему–то страстно любила и с которым связывала самые честолюбивые помыслы. Именно это и стало причиной нашего первоначального отчуждения, которое одно время зашло так далеко, что я говорил с собственной женой только о том, о чем предварительно готовил подробные записки, чтобы ненароком не вызвать дальнейших осложнений между нами вследствие недопонимания, реального или воображаемого.
И все же, несмотря на все трения, вызванные этим, ее честолюбие в конечном итоге пошло на пользу как авторитету моей власти, так и Риму. Ливия всегда была достаточно разумной, чтобы понимать, что судьба ее сына целиком зависит от сохранения мной единоличной власти и что он неизбежно окажется раздавлен, если не получит в наследство устойчивую империю. Посему если Ливия способна хладнокровно обдумывать мою смерть, то я не сомневаюсь, что точно так же она подходит и к своей; ее главная забота – о том уязвимом порядке, коего мы всего лишь жалкие орудия.
Поэтому из уважения к этим ее устремлениям, которые я целиком разделяю, я, готовясь к упомянутой поездке, три дня назад оставил на хранение в храме Девственных весталок четыре документа, которые должны быть вскрыты и зачитаны перед сенатом только в случае моей смерти.
Первый из них – мое завещание, согласно которому две трети моего личного имущества и казны отходит Тиберию; и хотя он в этом и не нуждается, таковой жест является необходимым ритуалом, определяющим порядок наследования. Оставшаяся часть, за исключением незначительных отчислений в пользу граждан, а также различных родственников и друзей, принадлежит Ливии, которая, согласно моей воле, становится членом рода Юлиев с предоставлением ей права на все мои титулы. Имя Цезарей ее вряд ли порадует, но титулы – наверняка, ибо это значит, что за счет их ее сын приобретет определенный вес, что, в свою очередь, будет способствовать скорейшему осуществлению ее планов.
Второй документ содержит ряд указаний относительно моих похорон. Те, на кого выпадет обязанность распоряжаться ими, без сомнения, выйдут за рамки моих инструкций, которые предусматривают и без того достаточно щедрые и вульгарные почести; к сожалению, таковые излишества неизменно приносят удовлетворение народу и потому совершенно необходимы. Единственное, в чем я нахожу для себя утешение, – это то, что мне самому не придется при этом присутствовать.
Третий документ представляет собой отчет о состоянии дел в империи: общее число солдат на действительной военной службе, количество (насколько мне известно) денег в казне, финансовые обязательства властей перед управляющими провинциями и перед частными лицами, имена правителей, несущих финансовую или какую–либо другую ответственность, и тому подобные сведения, которые необходимо придать огласке в целях гарантии порядка и предотвращения возможных злоупотреблений. В дополнение к этому я присовокупил некоторые довольно жесткие рекомендации своему преемнику. Я посоветовал ему воздержаться от излишней щедрости и не проявлять чрезмерного своеволия в предоставлении римского гражданства, ибо таковые действия могут ослабить центр империи; я также предложил, чтобы все лица, занимающие высшие административные посты, состояли на службе у государства, получая твердо установленную плату, дабы уменьшить искушение властью или богатством; и наконец, я предписал, чтобы ни при каких обстоятельствах не предпринимались попытки расширить границы империи и чтобы войско использовалось исключительно для защиты уже существующих границ, особенно северных, где германские варвары, похоже, никак не устанут от своей бессмысленной вражды с Римом. Я нисколько не сомневаюсь, что данное указание в конечном итоге будет благополучно забыто, но до того пройдет несколько лет, а это значит, что я по меньшей мере сумел добиться хотя бы отсрочки.
И наконец, последнее: я отдал на хранение сим почтенным дамам свой послужной список, в котором дается полный перечень всех моих заслуг перед Римом и империей, с указанием выгравировать его на бронзовых дощечках, кои должны быть укреплены на колоннах, помпезно возвышающихся при входе в еще более помпезный мавзолей, в котором, согласно моему декрету, будут храниться мои останки.
Копия этого документа в настоящий момент лежит передо мной, и я время от времени поглядываю на него в недоумении, будто он был написан кем–то другим, а вовсе не мной. Во время составления данного списка я столкнулся с необходимостью порой обращаться к трудам, вышедшим из–под пера других людей, – настолько далеки ныне некоторые из событий, которые я перечислял. Как это все–таки странно – дожить до такого возраста, когда приходится полагаться на свидетельства других, вспоминая свою собственную жизнь.
Среди книг, на которые я опирался, было «Жизнеописание», созданное тобой, когда ты впервые появился в Риме; отрывки из истории нашего друга Тита Ливия, касающиеся основания города, в коих повествуется о моих ранних годах; и мои собственные «Заметки к автобиографии», каковые по прошествии стольких лет тоже представляются сочиненными кем–то другим.
Да простятся мне эти слова, мой дорогой Николай, но, сдается, их ныне объединяет одно: лживость. Надеюсь, ты не станешь слишком буквально относить это замечание к собственному труду – я уверен, ты понимаешь, что я имею в виду. Ни в одном из них нет неправды и содержится очень немного фактических ошибок, но все равно все они насквозь лживы. Интересно, за эти последние годы, что ты провел в занятиях наукой и размышлениях о жизни в тиши твоего далекого Дамаска, открылась ли и тебе эта истина?
Ибо, когда я читал упомянутые книги и писал собственные «Заметки», я, как мне теперь кажется, читал и писал о человеке, носящем мое имя, но которого я почти совсем не знал. И, как бы я ни старался, мне не удается как следует его разглядеть; когда же я наконец умудряюсь мельком увидеть этого человека, образ его растворяется, как в тумане, ускользая от моего даже самого пристального взгляда. Любопытно, если бы он мог видеть меня сейчас, узнал бы он то жалкое подобие себя, в которое превратился? Узнает ли он в тех карикатурах, которыми стали люди в целом, своих прежних знакомцев? Не думаю.
В любом случае, мой дорогой Николай, написание этих четырех документов и последующее помещение их на хранение в храм Девственных весталок вполне может стать последней официальной обязанностью, которую мне суждено выполнить; неспешно несомый ветром и течением на юг в направлении Капри, я практически отрекся и от власти, и от мира и медленно дрейфую в сторону того места, куда до меня ушло так много моих друзей. Наконец–то я могу насладиться отдыхом с полным знанием того, что не оставил позади никаких незавершенных дел. По меньшей мере в течение нескольких последующих дней ко мне не примчится запыхавшийся гонец с вестями об очередном бедствии или заговоре; сенаторы не будут домогаться от меня поддержки своим никчемным и своекорыстным законам, а законники не станут досаждать делами своих в равной степени продажных клиентов. Я в долгу лишь перед этим письмом, написанием коего я занят, перед необъятным морем, что без усилий поддерживает на плаву нашу жалкую посудину, да перед голубым небом Италии.
Путешествую я почти в полном одиночестве – со мной лишь несколько гребцов, которым я дал указание браться за весла лишь в случае неожиданного шквала, да полдюжины слуг, лениво пересмеивающихся на корме. Ближе к носу судна расположился не спускающий с меня глаз новый молодой врач, которого я недавно взял на службу, некий Филипп Афинский.
До нынешнего дня я умудрился пережить всех своих лекарей и теперь нахожу определенное утешение в мысли о том, что Филиппа мне пережить уже не удастся, хотя это вовсе на значит, что я ему не доверяю. Он не слишком просвещен в своем искусстве, но при этом еще слишком молод, чтобы научиться тому непринужденному лицемерию врачей, которое так легко вводит в заблуждение их пациентов, тем временем наполняя их кошельки. Он не предлагает никаких лекарств от моих старческих болезней и не подвергает меня тем пыткам, за которые столь многие с такой готовностью платят большие деньги. Он чувствует себя немного не по себе в присутствии того, кого всерьез считает повелителем всего мира; однако он вовсе не раболепен и заботится больше о моем удобстве, чем о том, что другому могло бы показаться моим здоровьем.