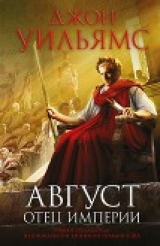
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 25 страниц)
Однажды, много лет назад, я спускался по Священной улице в сторону здания сената, где мне предстояло выступить с речью, осуждающей мою дочь на вечную ссылку, и встретил женщину, которую знал еще ребенком. Ее звали Гирция, и она была дочерью моей кормилицы. Эта Гирция ухаживала за мной, как если бы я был ее собственным сыном, и впоследствии за свою верную службу получила свободу. Мы не виделись с ней почти пятьдесят долгих лет, и я не узнал бы в этой согбенной старухе свою первую приемную мать, если бы с ее губ не сорвалось имя, столь знакомое мне когда–то. Мы стали говорить о нашем детстве, и на мгновение я забыл про свои года; в печали своей я чуть было не раскрыл Гирции то, что мне предстояло сделать в тот день. Когда же она заговорила о своей жизни, о детях и я увидел, с каким безмятежным чувством возвращалась она памятью к месту, где родилась, чтобы унести с собой в могилу приятные воспоминания о прошедшей юности, комок застрял у меня в горле. Во имя Рима и своей власти я должен был осудить собственную дочь; и вдруг я подумал, что если бы перед Гирцией стоял такой выбор, то Рим бы пал, но ее дитя осталось бы в живых. Я молчал, ибо знал, что Гирция не поймет неизбежности моего выбора и это лишь отравит ее последние мгновения на этой земле. На короткое время я снова стал ребенком, лишившись дара речи перед лицом мудрости, которой не мог постичь.
После этой встречи с Гирцией мне пришло в голову, что существует еще одна разновидность любви, более могучая и долговечная, чем тот непрочный союз, что завлекает нас обещанием чувственных утех, или та платоническая любовь, что заставляет нас задуматься о тайне другого и таким образом стать собой. Любовницы стареют или приедаются, плоть теряет силу, друзья умирают, а дети раскрывают – и, таким образом, предают – то, что в них изначально было заложено и на что мы сами открыли им глаза. Это любовь, с которой ты, дорогой Николай, прожил большую часть своей жизни, та самая любовь, которая приносила больше всего радости нашим поэтам, – любовь ученого к своему предмету, философа – к своей идее, поэта – к своему слову. Потому–то Овидий и не страдает от одиночества в далеком северном городке Томы, как и ты в своем неблизком Дамаске, куда ты удалился, решив посвятить оставшиеся годы жизни твоим книгам. Такой чистой любви не нужен живой объект, и поэтому она повсеместно считается высшей формой любви, ибо объект ее близок к совершенству.
Однако, с другой стороны, она в какой–то степени может рассматриваться и как самая примитивная разновидность любви, ибо если мы отбросим высокопарные слова, столь часто окружающие данное определение, то окажется, что это просто–напросто любовь к власти. (Еще раз прости меня, дорогой Николай, – представь себе, что мы ведем одну из наших полных софизмов бесед, которыми, бывало, с тобой забавлялись.) Это власть философа над бесплотным разумом его читателя, власть поэта над живым умом и сердцем его слушателя. И если разум, сердца и души тех, кто подпал под чары сей самодовлеющей власти, возносятся к неизмеримым высотам совершенства, то сие всего лишь случайность, вовсе не являющаяся непременным атрибутом этой любви или даже ее следствием.
Я начал постепенно понимать, что именно данный род любви был моей главной движущей силой все эти годы, хотя я и был вынужден скрывать сей факт как от себя самого, так и от других. Сорок лет назад, когда мне пошел тридцать шестой год, сенат и народ Рима присвоили мне звание Августа; через двадцать пять лет, когда мне исполнилось шестьдесят, в тот год, когда я навечно выслал из Рима свою дочь, народ и сенат даровали мне титул отца отечества. Все было предельно просто: я обменял одну дочь на другую, и моя приемная дочь подтвердила этот обмен.
Там, на западе, далеко во тьме лежит остров Пандатерия. Маленький домик, где Юлия проживала пять лет, стоит необитаем и, согласно моим указаниям, заброшен, открытый ветрам и медленной эрозии времени; через несколько лет камень начнет разрушаться, и время приберет его, как прибирает все. Я надеюсь, Юлия простила мне то, что я сохранил ей жизнь, как я простил ей то, что она помышляла отнять у меня мою.
Да, слухи, которые должны были дойти и до тебя, абсолютно верны: моя дочь была участницей заговора, целью которого было убийство ее мужа, а также и меня. Я обратился к законам о браке, столь долго пылившимся в архивах сената без употребления, и осудил Юлию на пожизненную ссылку, дабы не допустить того, чтобы она была осуждена на смерть тайными происками ее мужа Тиберия, собиравшегося привлечь ее к суду по обвинению в государственной измене.
Я часто спрашиваю себя: признала ли моя дочь хотя бы перед самой собой всю степень своей вины? В последний раз, когда я видел ее, она, потрясенная и опечаленная смертью Юла Антония, была на это не способна. Я надеюсь, она так и останется в неведении о своей истинной роли в этих событиях и проживет остаток своей жизни в уверенности, что стала жертвой страсти, приведшей ее к падению, нежели участницей заговора, который непременно привел бы к гибели ее отца и почти наверняка погубил бы Рим. Первое я еще мог допустить, но второе – ни в коем случае.
Я давно оставил все недобрые мысли о своей дочери, ибо пришел к пониманию, что, несмотря на ее причастность к заговору, в Юлии всегда жила маленькая девочка, глубоко привязанная к слепо любящему ее отцу, которая не могла в ужасе не отшатнуться от того, на что ее толкали обстоятельства; и эта Юлия, сидючи одна в печальном уединении Регия, до сих пор не может забыть любящую дочь, которой она когда–то была. Я понял, что можно желать смерти другому, и в малой степени не поступившись любовью к своей жертве. Одно время я имел обыкновение называть ее «моим маленьким Римом», что было многими истолковано превратно; на самом деле это ласковое прозвище обозначало мое стремление найти в Риме те же скрытые возможности, какие я находил в ней. В конечном итоге они оба предали меня, но я все равно не могу не любить их.
К северу от места нашей стоянки – Лукринское озеро, в свое время углубленное руками честных италийцев, дабы вновь рожденный римский флот был достаточно хорошо подготовлен, чтобы защитить свой народ, теперь поставляет устриц к столам римской знати; Юлия прозябает в Регии, на бесплодном побережье Калабрии; а Тиберий правит миром.
Я зажился на свете. Никого из тех, кто мог бы прийти мне на смену и не жалел сил ради благополучия Рима, нет в живых: Марцелл, первый муж моей дочери, умер в девятнадцать лет; Марк Агриппа тоже умер; мои внуки Гай и Луций, сыновья Агриппы, погибли, выполняя свой долг перед Римом; другой сын Ливии – Друз, которого я воспитал как собственное дитя и гораздо более способный и уравновешенный, чем его брат Тиберий, скончался в Германии. Остался один Тиберий.
У меня нет ни тени сомнения, что Тиберий, более чем кто–либо другой, виноват в том, что случилось с моей дочерью. Он без всяких колебаний обвинил бы ее в попытке покушения как на свою жизнь, так и на мою и всей душой радовался бы решению сената осудить ее на смерть, надев при этом маску печали и сожаления. Я не могу не презирать Тиберия. Его душа полна горечи, причины которой никто не может понять, а сердце – какой–то врожденной жестокости, ни на что конкретно не направленной. Однако он обладает сильной волей и при этом достаточно умен, а что касается жестокости, то для императора это гораздо менее опасный недостаток, чем слабоволие или глупость. Посему я отдал Рим на милость Тиберия и судьбы. Ничего другого мне не остается.
Одиннадцатое августа
В течение всей ночи я не сошел со своего ложа, откуда наблюдал за звездами, медленно проплывающими у меня над головой в их вечном странствии по необъятному небосводу. Ближе к рассвету, впервые за многие дни, я задремал, и мне приснился сон. Я находился в том странном состоянии, когда видишь сон и знаешь, что это всего лишь сон, но при всем при том узнаешь в нем реальность, которая является пародией на твою собственную жизнь. Я пытался запомнить неясные очертания этого другого мира, но когда проснулся, мой сон растворился в ярком свете наступившего дня.
Меня разбудило движение на палубе моей команды и доносившиеся откуда–то издалека звуки пения; спросонья мне в голову было пришла мысль о сиренах, столь красочно описанных Гомером, и я представил себя, привязанного к мачте моего корабля, бессильно внимающего их невообразимо прекрасным призывам. Однако то были не сирены, а торговое судно–зерновоз из Александрии, которое медленно двигалось в нашу сторону с юга; члены его египетской команды, одетые в белые одежды и с венками на головах, стояли на палубе и пели протяжную песню на своем родном языке; легкий утренний бриз доносил до нас пряный запах благовоний.
Мы в недоумении следили за и5с приближением, пока наконец огромный корабль, рядом с которым наша посудина казалась совсем крошечной, не подошел так близко, что мы могли разглядеть улыбающиеся смуглые лица его матросов; затем вперед вышел капитан и отдал мне салют, назвав при этом по имени.
Не без усилия, которое, смею надеяться, мне удалось скрыть даже от Филиппа, я поднялся со своего ложа и подошел к поручню, опершись на который ответил на приветствия капитана. Выяснилось, что, когда корабль стоял под разгрузкой в гавани между Путеолами и Неаполисом, капитан прознал о моем нахождении неподалеку и по настоянию команды прежде, чем вернуться домой в далекий Египет, решил встретиться со мной, чтобы выразить свою благодарность. Мы находились так близко друг от друга, что мне даже не пришлось напрягать голос и я хорошо видел загорелое лицо капитана. Я спросил, как его зовут. Он сказал, что Потелиос. Под мелодичное пение своей команды Потелиос произнес:
– Ты подарил нам возможность свободно бороздить водные пространства и поставлять Риму дары щедрой египетской земли; ты избавил моря от пиратов и разбойников, которые в прошлом не позволяли нам воспользоваться этой возможностью. И ныне египетский римлянин благоденствует, уверенный в том, что благополучно вернется на родину и что лишь своенравные волны или ветра могут угрожать его безопасности на море. За все это мы благодарим тебя и молим богов, чтобы они были милостивы к тебе до конца твоих дней.
На мгновение я потерял дар речи. Потелиос обращался ко мне на неуклюжей, но вполне сносной латыни, и я подумал, что еще каких–то тридцать лет назад он говорил бы на своем жутком египетско–греческом и мне стоило бы больших трудов понять его. В ответ я поблагодарил капитана и сказал несколько слов команде, дав указание Филиппу проследить за тем, чтобы каждый член ее получил несколько золотых монет. Затем я вернулся обратно на свое ложе, откуда наблюдал, как огромное судно неспешно развернулось и стало медленно удаляться на юг, поймав попутный ветер в паруса, унося на своем борту смеющуюся и весело машущую нам на прощание команду, в счастливом предвкушении благополучного возвращения домой.
Теперь настала очередь и нам направиться к югу на нашем значительно менее неуклюжем суденышке, беззаботно пляшущем на волнах. Солнечный свет отражается в брызгах пены, увенчивающей верхушки мелких волн, которые с нежным шепотом плещутся о борта корабля; зелено–голубое море кажется почти игривым; и мне все–таки удается убедить себя, что в конце концов и в моей жизни была определенная гармония, некая высшая цель, и что своим существованием я принес больше пользы, чем вреда, этому миру, который рад оставить навсегда.
Ныне в мире царит римский порядок. Но на севере затаился и ждет германский варвар, на востоке – парфянский, а также множество других, нам пока неизвестных; и если Рим не падет под их ударами, то в конечном итоге погибнет под натиском варвара, от которого никому нет спасения, – Времени. Но пока он держит верх, и в течение еще скольких–то лет римский порядок будет жить, как живет он в каждом мало–мальски значительном италийском городе, в каждой провинции и каждой колонии: от Рейна и Данувия – до границ Нумидии, от Атлантического побережья Испании и Галлии – до аравийских песков и Понта Эвксинского. По всему миру я открыл школы, чтобы люди изучали латынь и знали римские порядки, и заботился о том, чтобы школы эти не нуждались в средствах; римское право умеряет беззаконную жестокость провинциальных нравов точно так же, как обычаи провинций смягчают суровость римских законов; и мир в благоговейном страхе взирает на Рим, который я принял глиняным, а оставляю мраморным.
Сейчас мне кажется, что мои сетования безосновательны. Рим вечен, но это не имеет значения. Рим падет – и это неважно. Варвар победит – ну и что? Было время Рима, и оно не пройдет без следа; варвар сам станет Римом, который он покорил; напевная плавность латыни сгладит его грубую речь, а образы величия и красоты, которые он разрушит, навсегда останутся жить в его душе. А для времени, бесконечного, как это соленое море, в котором затерялся мой хрупкий челн, гибель империи – ничто, меньше чем ничто.
Мы приближаемся к острову Капри, который сияет, словно драгоценный камень в лучах утреннего солнца, темно–зеленым изумрудом возникая из голубого моря. Ветер почти совсем спал, и мы медленно, словно по воздуху, подплываем к этому тихому и спокойному уголку, где я провел немало счастливых часов. Обитатели острова – мои соседи и друзья – уже начали собираться на пристани; они машут нам руками, и я слышу их веселые голоса, звоном отдающиеся в утренней тишине. Сейчас я встану и поприветствую их.
Сон, Николай, я вспомнил сон, что приснился мне давеча. Я снова был в Перузии во время восстания Луция Антония против власти Рима. Всю зиму мы держали город в осаде, надеясь вынудить Луция к сдаче, чтобы избежать бессмысленного пролития римской крови. Мои воины, измотанные долгим ожиданием, пали духом; назревал мятеж. Чтобы возродить в них надежду, я приказал соорудить неподалеку от городских стен алтарь для принесения жертвы Юпитеру. И вот что случилось дальше в моем сне.
Служители подводят к алтарю белого быка с позолоченными рогами, никогда не знавшего ярма или плуга. Его не приходится тянуть насильно – он идет по своей воле, высоко неся голову, украшенную лавровым венком. У него голубые глаза, и мне кажется, что он наблюдает за мной, словно заранее зная, кто будет его палачом. Служитель разламывает кусок соли у него над головой – бык не шевелится; затем служитель, попробовав вино, выливает его между рогов быка – тот по–прежнему стоит как вкопанный. Наконец служитель говорит:
– Начнем?
Я поднимаю топор; голубые глаза по–прежнему внимательно смотрят на меня; топор опускается, и я говорю:
– Готово.
По телу быка пробегает дрожь, ноги его подкашиваются, и он медленно опускается на колени, все так же высоко держа голову и не спуская с меня своих голубых глаз. Служитель достает кинжал и перерезает ему глотку, собирая кровь в специальный сосуд. Но и истекая кровью, бык продолжает смотреть меня, пока наконец глаза его не стекленеют и он не заваливается на бок.
Это было больше пятидесяти лет назад; мне шел двадцать третий год. Странно, что через столько лет мне вдруг приснился об этом сон.

Эпилог
Письмо: Филипп Афинский – Луцию Аннею Сенеке из Неаполиса (55 год после Р. Х.)
Дорогой мой Сенека, меня удивило и порадовало твое письмо. Я надеюсь, что ты простишь мне задержку с ответом – оно застигло меня в Риме в тот самый день, когда я покидал город, и я только сейчас начал осваиваться на новом месте. Тебе будет приятно узнать, что я воспользовался советом, высказанным тобой как лично, так и в письмах, и оставил суету и волнения медицинской практики, чтобы посвятить себя мирному и достойному занятию наукой, дабы поделиться с другими теми скромными знаниями, кои я накопил за годы своей деятельности в качестве врача. Я пишу эти строки на своей вилле под Неаполисом; солнечный свет, пробивающийся сквозь цветущие виноградные кусты, которые ажурной аркой нависают над моей террасой, яркими бликами пляшет на лежащем передо мной куске пергамента, и я вполне счастлив в своем уединении, как ты мне и обещал. Посему я хочу поблагодарить тебя за эти твои заверения и за то, что они оказались не пустыми.
На протяжении долгих лет наши с тобой дружеские отношения оставались весьма непостоянными. Я не мету не испытывать к тебе благодарности за то, что ты меня помнишь и тактично обходишь молчанием тот факт, что я не замолвил за тебя слова в то несчастливое для тебя время, которое ты был вынужден провести в бесплодной глуши Корсики; я полагаю, ты лучше, чем большинство других людей, понимал, что бедный лекарь, не имеющий в этом никакой власти, – да будь то хоть сотня таких, как он, – не смог бы изменить волю такого непредсказуемого человека, как наш покойный император Клавдий. Все те из нас, кто все это время продолжал, пусть и молчаливо, восхищаться тобой, в восторге от того, что звезда твоего гения снова засияет на римском небосклоне, в городе, который ты всегда любил.
Ты просишь меня рассказать о том, о чем мы говорили с тобой во время наших столь нечастых встреч, – о моем кратком знакомстве с императором Цезарем Августом. Я более чем счастлив оказать тебе эту услугу, но должен признаться, что сгораю от любопытства: можем ли мы ожидать нового эссе? или эпистолы? [65] а может быть, даже трагедии? Я с нетерпением буду ждать от тебя словечка о том, как ты думаешь распорядиться моими сведениями.
Когда мы раньше беседовали с тобой об императоре Августе, то, – возможно, из желания добиться твоего расположения, чему, как я полагал, будет способствовать твое неудовлетворенное любопытство, – я, преследуя собственные корыстные интересы, был нарочито скрытен и неопределенен в том, что касалось интересующих тебя сведений. Ныне же, в свои шестьдесят шесть лет – что на десять лет меньше, чем было Октавию Цезарю, когда он умер, – я, как мне кажется, уже достиг того возраста, когда можно позабыть о пустом тщеславии, которое ты столь гневно клеймил в людях, делая любезное исключение для меня. Я без утайки поведаю тебе все, что помню.
Как ты знаешь, я был личным врачом Октавия Цезаря всего несколько месяцев, но в течение этого короткого времени я неотлучно находился при нем, всегда оставаясь в достаточной близи на тот случай, если он меня позовет, и был рядом с ним, когда он умер. Мне до сих пор непонятно, почему в те несколько месяцев, которые, как он хорошо знал, должны были стать последними в его жизни, он именно мне доверил свое здоровье, хотя вокруг было полно гораздо более известных и опытных врачей, чем я; в ту пору мне было всего двадцать пять лет. Тем не менее он выбрал меня; я по молодости не мог понять причины этого странного решения, но подозреваю, что он был ко мне неравнодушен, скрывая свои чувства за несколько необычной и бесстрастной манерой. И хотя я был не в состоянии ничем помочь ему в его последние дни, он позаботился о том, чтобы после его смерти я никогда не нуждался в деньгах.
После занявшего несколько дней неторопливого путешествия из Остии на юг мы высадились на Капри; было совершенно очевидно, что силы его оставляют, но он не хотел показаться неучтивым и потому не счел возможным оставить без внимания то, что на пристани собралась толпа народу, чтобы поприветствовать его. Он остановился перекинуться с ними парой слов, называя всех по имени, хотя иногда в приступе слабости ему и приходилось опираться на мою руку. Так как большинство обитателей Капри греки, то он говорил с ними по–гречески, время от времени извиняясь за свой довольно странный акцент. Наконец он попрощался со всеми и направился на императорскую виллу, с которой открывается великолепный вид на Неаполитанский залив, всего в нескольких милях от нее. Я уговорил его прилечь отдохнуть, на что он без возражений согласился.
Он обещал присутствовать на состязаниях местных юношей, когда определятся самые достойные из них, чтобы представлять Капри на играх в Неаполисе на следующей неделе. Несмотря на мои решительные возражения, он настоял на том, чтобы выполнить свое обещание; более того, опять же вопреки моим предостережениям, вечером, после завершения соревнований, он пригласил всех их участников к себе на виллу – на пир, который устроил в их честь.
Во время пира император был необыкновенно весел; он сыпал бесчисленными, весьма вольного содержания эпиграммами на греческом языке, заставляя гостей охать в изумлении от их откровенной непристойности; принимал участие в их мальчишеских забавах, перекидываясь с ними катышками из хлеба; и, несмотря на все старания, проявленные ими во время только что закончившихся состязаний, в шутку называл их «остролентяями», а не островитянами из–за свойственного им весьма размеренного образа жизни. Он дал слово, что будет на играх в Неаполисе, в которых они должны были принимать участие, и утверждал, что собирается поставить на них все свое состояние.
Мы оставались на Капри в течение четырех дней. Большую часть времени император проводил, сидя в саду и глядя на море или восточное побережье Италии. Его лицо освещала мирная улыбка; время от времени он чуть заметно кивал головой, как будто припоминал что–то.
На пятый день мы пересекли залив и прибыли в Неаполис. К этому времени император так ослабел, что уже не мог передвигаться без посторонней помощи. Тем не менее он настоял на своем присутствии на играх, как обещал молодым каприйским атлетам. Должен признаться, что я, хотя и знал, что конец его близок, не мог не согласиться на это. Мне было совершенно очевидно, что разница в лучшем случае будет измеряться днями, не более того. Все утро он провел на самом солнцепеке, громко подбадривая команду каприйских греков, а когда соревнования наконец закончились, выяснилось, что он не может подняться с ложа.
Мы вынесли его со стадиона на носилках; по дороге на виллу он сказал, что хотел бы посетить поместье, где когда–то бывал еще ребенком. Нола, где оно находилось, была недалеко – всего в восемнадцати милях от нас, поэтому я не стал возражать. Рано утром следующего дня мы прибыли в старый дом семейства Октавиев.
Зная, что ждать осталось недолго, я послал гонца в Беневент, где в это время находились Ливия с Тиберием. Согласно велению императора, я дал им ясно понять, что он не желает видеть Тиберия, но при этом разрешает объявить о том, что Тиберий был при нем в его последние часы.
Утром в день своей смерти он спросил меня:
– Уже скоро, Филипп?
Что–то в его голосе не позволило мне покривить душой.
– Трудно сказать наверняка, – ответил я. – Но ждать осталось недолго.
Он умиротворенно кивнул.
– В таком случае мне следует выполнить свои последние обязанности.
Ряд его знакомых – я полагаю, к тому времени у него никого не осталось, кого он мог бы с полным правом назвать другом, – прослышав о его болезни, поспешили из Рима в Нолу. Он их принял, любезно попрощался со всеми и, попросив содействовать законному переходу власти, обязал поддержать Тиберия, приходящего ему на смену. Один из присутствующих изобразил было рыдания, на что Октавий, нахмурившись, сказал:
– Как нехорошо с твоей стороны плакать по случаю моей радости.
Затем он пожелал остаться наедине с Ливией. Я сделал движение к дверям, но он подал мне знак остаться.
Когда он говорил с Ливией, я чувствовал, что силы его на исходе. Он подозвал ее к себе; она встала подле него на колени и поцеловала его в щеку.
– Твой сын… – с трудом проговорил он. – Твой сын…
Он вдруг хрипло задышал, челюсть его отвалилась; затем, с видимым усилием, он собрал последние силы и сказал:
– Нам не в чем себя винить. Мы неплохо ладили. Лучше, чем большинство других.
Он откинулся на постели; я бросился к нему; он еще дышал. Ливия дотронулась до его щеки. Она еще немного посидела возле него, а потом вышла из комнаты.
Через некоторое время он вдруг открыл глаза и сказал, обращаясь ко мне:
– Филипп, мои воспоминания… Они мне теперь ни к чему.
На мгновение, мне показалось, его разум помутился, ибо он вдруг вскрикнул:
– Молодые! Молодые подхватят эстафету!
Я положил руку ему на лоб; он снова взглянул на меня, поднялся на локте и улыбнулся; затем его ярко–голубые глаза остекленели, тело судорожно дернулось, и он завалился на бок.
Так умер Гай Октавий Цезарь Август, в три часа пополудни девятнадцатого дня августа, в консульство Секста Помпея и Секста Аппулея. Он скончался в той же самой комнате, что и его родной отец, Октавий–старший, за семьдесят два года до этого.
Что касается того длинного письма, что Октавий написал своему другу Николаю Дамаскину, то могу сказать следующее: мне было доверено доставить его по назначению, но еще в Неаполисе я узнал, что Николай умер двумя неделями раньше. Я не стал говорить об этом императору, ибо, как мне представлялось в то время, он был счастлив мыслью о том, что его старинный друг прочтет последние слова, написанные им, и не хотел лишний раз огорчать старика.
Через несколько недель после его смерти в своей ссылке в Регии умерла и его дочь Юлия; в городе шептались, что ее бывший муж Тиберий уморил ее голодом. Я не знаю, насколько правдив этот слух, и подозреваю, что никто из ныне живущих не может его подтвердить.
Последние тридцать лет, вплоть до сегодняшнего дня, среди многих молодых людей принято снисходительно отзываться о долгом правлении Октавия Цезаря. Да и сам он в конце жизни думал, что его усилия пропали даром.
Тем не менее созданная им Римская империя сумела пережить суровость Тиберия, чудовищную жестокость Калигулы и бездарность Клавдия. Что касается нашего нынешнего императора, то ты был его наставником с самых ранних лет и остаешься близок к нему в его новой роли. Возблагодарим же судьбу за то, что он будет править, освещенный твоей мудростью и добродетелью, и вознесем молитвы богам, чтобы под властью Нерона Рим наконец–то осуществил мечту Октавия Цезаря.
Рим, Нортхемптон, Денвер 1967–1972 гг.








