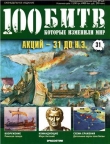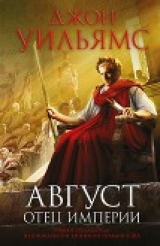
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Глава 3
I
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
Из всех знакомых мне женщин больше всех я восхищалась Ливией. Мы никогда не питали друг к другу особо теплых чувств, но при этом она всегда порядочно и уважительно вела себя по отношению ко мне, хотя и не пыталась скрыть своей бесстрастной неприязни; мы хорошо ладили, несмотря на то что самим фактом своего существования я стояла на пути ее честолюбивых планов. Она хорошо знала себе цену и не питала на свой счет никаких иллюзий; она была красива и умела пользоваться своей красотой, не поддаваясь искусу тщеславия; была холодна и потому могла с огромным успехом имитировать сердечное тепло; честолюбива и при этом обладала незаурядными умственными способностями, которые направляла исключительно на достижение своих личных целей. Родись она мужчиной, и я не сомневаюсь, Что она была бы еще более безжалостной, чем мой отец, но при сем гораздо менее подверженной мукам раскаяния. В своем роде она была замечательной женщиной.
Несмотря на то что мне тогда было всего четырнадцать лет и я понятия не имела обо всей подноготной этого дела, я знала, что Ливия была против моего брака с Марцеллом, видя в нем непреодолимое препятствие на пути ее сына Тиберия к власти. Смерть Марцелла, случившаяся так быстро после нашей с ним свадьбы, похоже, снова возродила ее былые надежды, ибо еще до истечения положенных по обычаю месяцев траура она обратилась ко мне с предложением. За несколько недель до этого мой отец предусмотрительно покинул столицу под предлогом неотложных дел в Сирии, дабы не усугублять всеобщего разочарования в сенате и народе своим отказом от предложенного ему диктаторства в Италии за избавление Рима от угрозы голода. Подобной тактикой он часто пользовался на всем протяжении своей жизни.
Как всегда, Ливия сразу же перешла к делу.
– Твой траур скоро закончится, – сказала она.
– Да, – ответила я.
– И ты снова сможешь выйти замуж.
– Да.
– Молодой вдове не пристало долго оставаться одной, – заявила она. – Так у нас не принято.
Я ничего не ответила – должно быть, уже тогда я понимала, что мое вдовство было такой же проформой, как и мое замужество.
– Неужели печаль твоя столь велика, что одна мысль о замужестве оскорбляет твои чувства? – продолжала Ливия.
Я вспомнила, что я дочь моего отца.
– Я готова выполнить свой долг.
Ливия кивнула, как будто и не ждала другого ответа.
– Конечно, – сказала она, – так и должно быть… Твой отец говорил с тобой об этом? Или, может быть, писал?
– Нет, – ответила я.
– Я уверена, что он, по крайней мере, обдумывал такую возможность, – сказала она и, помолчав, добавила: – Ты должна понять, что я говорю с тобой от своего имени, а не от имени твоего отца. Но будь он здесь, он бы не возражал.
– Да.
– Я всегда относилась к тебе как к собственной дочери и по мере возможности не посягала на твои интересы.
Я промолчала.
– Находишь ли ты моего сына хоть немного привлекательным? – осторожно спросила она.
– Твоего сына? – переспросила я, не понимая, к чему она клонит.
Ливия сделала нетерпеливый жест рукой:
– Да, моего сына Тиберия.
Почему–то я вовсе не находила Тиберия привлекательным – ни тогда, ни сейчас. Позже я поняла почему: он обладал удивительной способностью находить в других все те недостатки, которых не умел увидеть в себе.
– Я никогда ему не нравилась, – возразила я. – Он считает меня взбалмошной и капризной.
– Это неважно, даже если он и прав, – ответила Ливия.
– К тому же он обручен с Випсанией, – добавила я.
Випсания, дочь Марка Агриппы, хоть и моложе меня, была, можно сказать, моей подругой.
– И это тоже неважно, – нетерпеливо возразила Ливия. – Ты сама прекрасно все понимаешь.
– Да, – пробормотала я и замолчала, не зная, что сказать.
– Ты знаешь, как твой отец любит тебя, – продолжала Ливия. – Некоторые считают, что даже слишком, но не о том речь. Ты также знаешь, что он прислушивается к тебе чаще, чем большинство других отцов к своим дочерям, и не решится пойти наперекор твоим желаниям, которые для него немало значат. Посему, если ты не находишь идею брака с Тиберием абсолютно неприемлемой, было бы весьма уместно, если бы ты могла дать твоему отцу знать об этом.
Я промолчала.
– С другой стороны, если тебе эта мысль совсем не по нутру, ты окажешь мне большую любезность, если скажешь об этом здесь и сейчас – ведь я всегда была откровенна с тобой.
В голове моей все смешалось.
– Я должна подчиниться воле отца. Я не хочу огорчать тебя. Даже не знаю… – потерянно ответила я.
Я все понимаю и благодарю тебя, – сказала Ливия, согласно кивнув.
…Бедная Ливия – она полагала, что все идет по плану и неизбежно устроится согласно ее воле. Однако в данном случае этого не произошло. Пожалуй, то было самое горькое разочарование в ее жизни.
II
Письмо: Ливия – Октавию Цезарю на Самос (21 год до Р. Х.)
Я всегда и во всем была послушна твоей воле. Я была тебе женой, верной своему долгу, и другом, преданным твоим интересам; Насколько я понимаю, я подвела тебя только в одном отношении, но при этом очень важном: я не сумела дать тебе сына или даже просто дитя. Если ты считаешь это за недостаток, то в том не моя вина; я неоднократно предлагала тебе развод, который ты каждый раз отвергал по причине, как мне хотелось бы думать, привязанности ко мне. Теперь же я не столь уверена в твоих чувствах, и это меня очень огорчает.
Несмотря на то что у меня были достаточно веские основания полагать, что мой Тиберий тебе ближе, чем Марцелл, который всего лишь тебе племянник, я не держу на тебя обиды за твой выбор по причине болезни и приведенного тобой довода о том, что в жилах Марцелла течет кровь как Клавдиев, так и Октавиев и Юлиев, в то время как Тиберий принадлежит к одному лишь роду Клавдиев. Я даже простила тебе то, что не могу рассматривать иначе, как оскорбление моему сыну: если в ранней молодости (когда ты вынес это свое суждение о нем) он проявил некоторую неуравновешенность характера и невоздержанность в поведении, то я позволю себе заметить, что характер мальчишки и нрав мужчины – отнюдь не одно и то же.
Но теперь я ясно вижу, к чему ты клонишь, и не могу скрыть своей горечи. Ты отверг моего сына, а значит, и часть меня. А своей дочери ты дал скорее отца, чем мужа.
Марк Агриппа – хороший человек, и я знаю, что он твой друг, и не желаю ему зла. Но он безроден, и какими бы достоинствами ни обладал, он обязан этим лишь самому себе. Может быть, многие находят забавным, что человек с таким явным отсутствием хороших манер может обладать столь огромной властью, будучи приближен к императору; но гораздо менее забавным покажется им тот факт, что теперь он официально назван преемником императора и потому почти равен ему.
Я надеюсь, ты понимаешь, в каком нетерпимом положении я оказалась: весь Рим ожидал, что Тиберий будет обручен с твоей дочерью и что при нормальном ходе вещей он должен был бы занять определенное место в твоей жизни. Но ты отказал ему в этом.
Ты опять предпочел остаться за границей вместо того, чтобы присутствовать на свадьбе твоей дочери, как это случилось во время ее первого бракосочетания, – по необходимости или намеренно, я не знаю, да и знать не хочу.
Я буду продолжать выполнять свой долг по отношению к тебе; мой дом остается твоим домом и всегда открыт для тебя и твоих друзей – нас объединяет слишком многое. Я постараюсь оставаться тебе другом; я никогда не обманывала тебя ни словом, ни делом – и не собираюсь делать этого и в будущем. Но ты должен знать, что принятое тобой решение отдалило нас друг от друга в большей степени, чем твое пребывание на Самосе, где ты по сю пору находишься. И расстояние это таким навсегда и останется.
Дочь твоя вышла замуж за Марка Агриппу и переехала к нему; она стала матерью той самой Випсании Агриппе, которая когда–то была ее подругой по играм. Твоя племянница Марцелла, недавно потерявшая мужа, пребывает с твоей сестрой в Велитрах. Юлия, похоже, довольна своим замужеством. Надеюсь, и ты тоже.
III
Стихотворение в списках: Тимаген Афинский (21 год до Р. Х.)
Кто нынче самый могучий в Цезаря доме -
Тот, кого все зовут императором Августом,
Или та, что, согласно обычаю, подругой должна быть
Послушной и любящей в опочивальне и
В зале для пиршеств? Гляди же, как правителем правят -
Мерцают светильники, гости хмельны и беспечны,
И смех, как вино, льется потоком сплошным.
Он обращается к Ливии, но не слышит она его слов;
И снова он говорит – в ответ лишь холод улыбки.
Судачат, он отказал ей в простой безделушке -
Можно подумать, что Тибр лед нежданно сковал.
Правитель или правимый – то не имеет значенья;
Вот из угла Лесбия некая смотрит взглядом таким, что
Факелы чуть ли не гаснут; веселые Делии нежатся,
Возлегая на ложах, обнажив прекрасные плечи
В тусклом сиянье огней, но он презирает их всех;
Смело подходит к нему жена его верного друга
(Тот не видит ее, глазами прикован к подростку,
Танцующему в факельном свете).
«А почему бы и нет? —
Думает про себя наш правитель. —
Временем часто Меценат
Щедро делился со мной; ну а в таком пустяке
Вовсе без пользы ему, он не откажет ведь другу».
IV
Письмо: Квинт Гораций Флакк – Гаю Цильнию Меценату в Арецию (21 год до Р. Х.)
Автором сего клеветнического сочинения является, как ты и подозревал, тот самый Тимаген, коего ты, опрометчиво одарив своей дружбой, неустанно поощрял и поддерживал и даже ввел в дом нашего друга. Помимо того что он неблагодарный гость и довольно слабый поэт, он еще и до глупости нескромен – он козыряет своими деяниями перед теми, кто, как ему представляется, станет восхищаться им, в то же время пытаясь скрыть таковые от тех, кому они не покажутся столь уж достойными похвалы. С одной стороны, он жаждет славы со всеми ее выгодами, а с другой – хочет наслаждаться преимуществами анонимности. Стремления несовместимые.
Октавию известно обо всем этом. Он не собирается предпринимать никаких действий против Тимагена, хотя, само собой разумеется, ему навсегда отказано от его дома. Он также просил принести тебе заверения в том, что никоим образом не винит тебя за все происшедшее; более того, он переживает за тебя не меньше, чем за себя самого, и надеется, что твое самолюбие не сильно пострадало. Его отношение к тебе остается таким же теплым, как и прежде, и он сожалеет, что ты находишься вдали от Рима, и в то же время по–хорошему завидует тому, что у тебя хватает времени наслаждаться обществом муз.
Мне тоже жаль, что я не могу видеть тебя чаще, но, думаю, я даже лучше, чем наш с тобой друг, понимаю то чувство душевного покоя, которое, должно быть, навевает пребывание в прекрасной тиши твоей Ареции, вдали от суеты и смрада этого удивительного города. Завтра я возвращаюсь в мое скромное пристанище над Дигенцией, чей нежный плеск станет услаждать мой слух и в конце концов перенесет меня из мира хаотичных звуков в стройный мир языка. Насколько мелкими и незначительными покажутся тогда мне все эти события, какими они, должно быть, уже представляются тебе в твоей благословенной глуши.
V
Письмо: Николай Дамаскин – Страбону Амасийскому из Рима (21 год до Р. Х.)
Дорогой мой друг, все эти годы ты был предельно точен в своих описаниях и в высшей степени прав в: своих восторгах – это действительно самый необычный город на земле, и ныне он переживает самую удивительную эпоху. Находясь здесь, мне кажется, что именно сюда всегда направляла меня судьба, и я не могу не сокрушаться о том, что целый ряд жизненных обстоятельств отсрочил для меня это замечательное открытие.
Как тебе, должно быть, известно, в последнее время Ирод все больше и больше полагается на меня, ибо хорошо сознает, что остается у власти в Иудее лишь благодаря покровительству Октавия Цезаря; в данный момент я попал в Рим по воле Ирода, давшего мне очередное поручение, неординарное свойство которого я раскрою тебе своим чередом. А сейчас лишь замечу, что для выполнения этого поручения я столкнулся с достаточно пугающей возможностью лично предстать перед самим Октавием Цезарем, ибо, несмотря на то что ты так часто писал мне о твоем коротком знакомстве с ним, его слава и могущество настолько огромны, что даже твои заверения меня не успокаивают. К тому же я когда–то был учителем детей его врага – царицы Египта Клеопатры.
Но и в этом, как и во всем остальном, ты оказался прав: он тут же избавил меня от смущения, оказав мне еще более теплый прием, чем я мог бы ожидать как посланник царя Ирода; затем упомянул о своей дружбе с тобой, отметив, как часто в беседах ты называл мое имя. Я не решился при первом же знакомстве заговорить с ним о деле, с которым я приехал в Рим, и потому был особенно польщен, когда он пригласил меня следующим вечером отобедать у него в доме, – аудиенция конечно же происходила в императорском дворце, в котором, как я понимаю, он бывает лишь по казенной надобности.
По всей видимости, я так до конца и не поверил тебе, когда ты писал мне о скромности его жилья. Непритязательная роскошь моего обиталища в Иерусалиме легко затмит его императорские покои; торговцы – причем не из самых богатых – и те порой живут более вальяжно! Как мне кажется, он руководствуется не просто стремлением к строгой простоте, к которой призывает и других, – нет, в этом чудесном и уютном небольшом доме он производит впечатление скорее радушного хозяина, всячески старающегося угодить гостю, чем повелителя вселенной.
А теперь позволь мне начать свой рассказ с описания обстановки, дабы воссоздать для тебя атмосферу того вечера на манер «Бесед» нашего учителя Аристотеля, над которыми мы когда–то с тобой корпели.
Обед, состоявший из трех отличных блюд, одновременно простых и изысканных, завершен. Вино смешано и разлито по бокалам беззвучно снующими среди гостей слугами. Самих гостей немного – лишь родственники да близкие друзья Октавия Цезаря; рядом с Октавием, откинувшись на подушки, сидит Теренция, жена Мецената, который (к моему вящему сожалению, ибо я очень хотел бы познакомиться с ним) покинул город и уехал на лето на север, дабы целиком посвятить себя своим литературным трудам; на соседнем ложе – дочь императора Юлия, молодая, красивая и полная жизни дама со своим новым мужем, Марком Агриппой – крупным, крепко сбитым человеком, который, несмотря на всю свою известность и высокое положение, как–то не вполне вписывается в это окружение; великий Гораций – небольшого роста, несколько полноватый, с седеющими волосами, обрамляющими его молодое лицо; он усадил рядом с собой сирийскую танцовщицу, развлекавшую нас во время обеда, и (к ее робкому, но вместе с тем ликующему восторгу) шутливо заигрывает с ней; молодой Тибулл (чахнущий в отсутствие своей любовницы) сидит, зажав в руке бокал с вином, и со снисходительной печалью обозревает собравшихся; рядом с ним его патрон Мессалла (который, говорят, был подвергнут проскрипциям при триумвирате и сражался на стороне Марка Антония против Октавия Цезаря, а теперь на дружеской ноге со своим когда–то врагом, а нынче хозяином), и, наконец, тот самый, столь часто поминаемый тобой Ливий, что взялся за написание монументального труда по истории Рима, начальные разделы которого стали регулярно появляться в книжных лавках. Мессалла предлагает тост за Октавия Цезаря, который, в свою очередь, поднимает бокал за Теренцию, за коей он ухаживает с большой обходительностью и вниманием. Мы отпиваем вино, и беседа начинается. Первым начинает наш хозяин.
Октавий Цезарь: Дорогие друзья, позвольте воспользоваться случаем и представить вам нашего гостя, прибывшего от друга и союзника Рима на Востоке, иудейского царя Ирода – его личный посланник Николай Дамаскин, который также известен как ученый и философ и потому является вдвойне желанным гостем в сей компании, почтившей своим присутствием мой дом по этому счастливому случаю. Я не сомневаюсь, что он желал бы сам передать вам приветствия от царя Ирода.
Николай: Великий Цезарь! Я не могу найти слов, чтобы выразить свою благодарность за твое гостеприимство и принимаю как не заслуженную мною честь мое присутствие в обществе твоих прославленных друзей. Ирод действительно поручил мне передать тебе и твоим соратникам в Риме свой низкий поклон. Доброта и взаимная приязнь, которые я имел возможность наблюдать нынче вечером, убеждают меня в том, что я могу откровенно говорить с тобой о поручении, с которым я прибыл сюда из древней земли Иудеи. В знак беспредельного уважения, которое он питает к Октавию Цезарю, мой друг и господин Ирод отправил меня в Рим, чтобы я переговорил с человеком, принесшим Риму свет порядка и процветания и объединившим весь мир под своим началом. В ознаменование заслуг этого правителя, гостем которого я имею честь быть, я предлагаю написать «Жизнеописание», чтобы слава его стала достоянием всех.
Октавий Цезарь: Я чрезвычайно польщен щедрым жестом моего доброго друга Ирода, но должен заметить, что мои свершения ничуть не заслуживают подобного славословия. Я более чем уверен, что твои немалые способности, наш новый друг Николай, не должны попусту расточаться на такое незначительное предприятие. Посему ради тех важных ученых занятий, которым ты мог бы тем временем посвятить себя, а также на основании собственного представления о приличиях я с огромным чувством благодарности вынужден по–дружески просить тебя отказаться от этой затеи, недостойной твоих талантов.
Николай: Твоя скромность, великий Цезарь, делает тебе честь. Однако мой господин Ирод непременно настоял бы, чтобы я оспорил ее и напомнил тебе, что, как бы ни велика была твоя слава, в отдаленных от Рима краях есть еще много тех, кто знает о твоих славных деяниях лишь понаслышке. Даже в Иудее, где латинская речь в ходу только среди немногих образованных людей, имеются такие, кому неизвестно о твоем величии. Поэтому, появись летопись твоих свершений на греческом языке, который знают все, и тогда Иудея и весь остальной восточный мир сумеют еще глубже осознать, какую мощную опору предлагает им твоя благотворная власть, а у Ирода появится возможность еще более твердо править своей страной под твоим мудрым покровительством.
Агриппа: Великий Цезарь и дорогой друг, ты внимал моим советам и раньше, посему прошу тебя прислушаться к ним и сейчас: не отвергай красноречивой просьбы Николая и забудь о своей скромности в интересах того, что ты любишь больше, чем самое себя, – Рима, а также порядка, который ты ему принес. Восхищение твоей личностью в тех дальних краях превратится в любовь к Риму, который ты построил.
Ливий: Осмелюсь присоединить и свой голос к мнениям твоих уважаемых друзей. Мне хорошо известно доброе имя Николая, стоящего вот тут перед тобой, и я могу заверить тебя, что не найдется на свете более достойного человека, которому ты мог бы доверить свою славу. Дай людям возможность хоть в малой мере отплатить тебе за то добро, которым ты так щедро с ними делился.
Октавий Цезарь: Хорошо, вы меня убедили. Николай, мой дом, как и мое сердце, всегда открыт для тебя, мой друг. Но об одном прошу: будь добр, ограничь свои изыскания лишь теми событиями, которые имеют отношение к моим усилиям на благо Рима, и не утомляй читателей пустяками, касающимися моей личности как таковой.
Николай: Твое желание для меня закон, великий Цезарь, и я обещаю направить все свои жалкие силы на то, чтобы воздать должное твоим великим достижениям в управлении римским миром.
…Таким образом, мой дорогой Страбон, моя миссия была успешно завершена; Ирод остался очень доволен, и я льщу себя надеждой, что Октавий (он настаивает на таком к себе обращении в домашней обстановке) целиком и полностью доверяет моим способностям в этом деле. Ты конечно же понимаешь, что мое повествование претерпело определенные изменения, коих потребовала форма диалога, в котором я представил его; в действительности наша беседа протекала в гораздо менее официальном тоне и была более продолжительной и полной добродушного подтрунивания. Так, например, Гораций пошутил насчет данайцев, дары приносящих, и спросил, какой жанр я избрал для своего повествования – прозаический или стихотворный; жизнерадостная Юлия, которая постоянно поддразнивает своего отца, как бы по секрету сообщила мне, что я волен писать все что угодно, так как греческий ее отца так убог, что он все равно не разберет, где там оскорбление, а где похвала. Тем не менее мне кажется, я сумел в своем рассказе схватить самую сущность происшедшего, ибо, несмотря на шутки и колкости, за всем этим стоит некая серьезность – во всяком случае, мне так показалось.
Кроме того, решив получше распорядиться моим пребыванием здесь (которое обещает быть весьма продолжительным), я задумал новый труд помимо «Жизнеописания Октавия Цезаря», которое заказал мне Ирод. Он будет называться «Беседы с выдающимися римлянами», и то, что ты прочитал выше, есть часть его. Что ты думаешь об этой идее? Как ты считаешь, форма диалога подходит для такого рода повествования? Жду твоих советов, которые, как всегда, высоко ценю.
VI
Письмо: Теренция – Октавию Цезарю в Азию (20 год до Р. Х.)
Тавий, дорогой Тавий – повторяю я твое имя, но ты не отзываешься. Сознаешь ли ты, как нестерпима для меня наша разлука? Я проклинаю твое величие за то, что оно уводит тебя прочь от меня и держит в чужой стране, ненавистной мне только потому, что ты там, а не со мной. Да, я знаю – ты говорил мне, что гневаться на неизбежность – это ребячество, но твоя мудрость покинула меня вместе с тобой, и я, словно малое дитя, не могу успокоиться, пока ты не вернешься.
Как могла я отпустить тебя, когда и один день разлуки с тобой, мой любимый, повергает меня в отчаяние? Ты сказал, что разразится скандал, если я последую за тобой, – но какой может быть скандал, когда всем давно все известно? Враги твои шепчутся по углам, друзья хранят молчание – но и те и другие знают, что ты выше всех тех обычаев, которые многие считают неотъемлемой принадлежностью благонравной жизни. Да и вреда от этого большого нет. Мой муж, который дружен с нами обоими, не страдает неуемной жаждой обладания, свойственной менее благородным натурам; между нами с самого начало было понимание, что он не будет возражать, если я заведу себе любовника, в то время как он сам волен во всем следовать своим собственным вкусам. Кем–кем, а лицемером он никогда не был – ни тогда, ни сейчас. Похоже, Ливия тоже удовлетворена существующим положением; я периодически встречаюсь с ней на литературных чтениях, и она всегда любезна со мной; не скажу, что мы с ней подруги, но при этом неизменно остаемся в рамках приличия в отношении друг к другу. Что касается меня, то я почти люблю ее, ибо она предпочла оставить тебя и потому ты стал моим.
Но мой ли ты? Я уверена в этом, когда мы вместе, но когда ты столь далеко от меня, мне так не хватает твоего прикосновения, которое стоит целой сотни слов. Неужто мои страдания приносят тебе радость? Надеюсь, что да. Любовь жестока – я была бы почти счастлива, если бы знала, что ты так же безутешен, как и я. Скажи, что ты страдаешь, и, может быть, это принесет мне некоторое утешение.
Ибо я не могу найти его в Риме – все мне видится таким обыденным и тривиальным. Я присутствую на празднествах, как того требует мое положение, но их ритуалы кажутся мне бессодержательными; хожу в цирк, но мне все равно, кто победит на скачках; посещаю литературные чтения, но мысли мои далеки от мира поэзии – даже стихов нашего друга Горация. Все это время я хранила тебе верность – впрочем, другого ты бы от меня и не услышал, даже если бы мне пришлось прибегнуть ко лжи. Но поверь, это чистая правда. Значит ли моя верность хоть что–нибудь для тебя?
Твоя дочь чувствует себя хорошо и довольна своей новой жизнью. Я раз или два в неделю посещаю ее и Марка Агриппу. Она, похоже, рада видеть меня; мы даже стали с ней подругами. Она уже близка к тому, чтобы разрешиться от бремени и, сдается мне, гордится своим приближающимся материнством. Хотела бы я от тебя ребенка? Не знаю. Что скажет Меценат? Это будет очередной скандал, но зато какой забавный!.. Вот видишь, я так же безостановочно болтаю с тобой воображаемым, как и с реальным.
Ничего интересного из слухов сообщить тебе не могу. Браки, о которых ты хлопотал еще до отъезда, наконец заключены: Тиберий, похоже, оставил свои честолюбивые мечты и женился на Випсании; Юл Антоний взял в жены Марцеллу. Юл счастлив тем, что он теперь официально твой племянник и член семьи Октавиев, и даже сварливый Тиберий по–своему удовлетворен – хотя он прекрасно понимает, что союз Юла с твоей племянницей ставит его самого, женатого на дочке Агриппы, в менее выгодное положение.
Думаешь ли ты вернуться ко мне этой осенью, до того, как зимние шторма сделают путешествие невозможным? Или ты задержишься в Азии до весны? Мне кажется, я не смогу так долго выдержать разлуку с тобой. Скажи, как мне жить без тебя?
VII
Письмо: Квинт Гораций Флакк – Гаю Цильнию Меценату в Арецию (19 год до Р. Х.)
Наш друг Вергилий умер.
До меня только что дошла эта печальная весть, и я спешу отписать тебе, прежде чем скорбь придет на смену оцепенению, в коем я пребываю в настоящий момент. Это оцепенение есть не что иное, как предчувствие неумолимого рока, настигшего нашего друга и подстерегающего нас всех. Его тело находится в Брундизии с Октавием. Сведения мои отрывочны, но я все равно хочу рассказать тебе, что знаю, ибо не сомневаюсь, что состояние, в котором находится сейчас Октавий, не позволит ему скоро написать тебе.
По всей видимости, Вергилий столкнулся с определенными трудностями в работе над завершением своей поэмы, ради чего он, собственно, и уехал из Италии. Поэтому когда Октавий, возвращаясь в Рим из Азии, остановился в Афинах, ему без особого труда удалось уговорить Вергилия, который за полгода, проведенных на чужбине, уже успел соскучиться по Италии, составить ему компанию. А может быть, он смутно чувствовал приближение смерти и не хотел, чтобы его тело покоилось в чужой земле. Как бы то ни было, в пути по его просьбе они с Октавием посетили Мегару; возможно, он хотел своими глазами увидеть каменистую долину, где, как говорят, молодой Тезей [51] насмерть поразил убийцу Скирона [52]. Случилось так, что Вергилий слишком долго оставался на солнце, после чего заболел. Тем не менее он настоял на продолжении путешествия; на корабле ему стало хуже – его поразил приступ застарелой малярии. Через три дня после прибытия в Брундизий он умер. Октавий не отходил от него ни на минуту и, насколько это возможно для простого смертного, оставался верным спутником своему другу по дороге туда, откуда нет возврата.
Как я понимаю, Вергилий почти все время в эти последние свои дни находился в бреду – хотя я не сомневаюсь, что даже в горячке он оставался более рассудительным, чем многие другие в полном здравии. В конце он упомянул твое имя, а также мое и Вария. Он вырвал у Октавия обещание уничтожить недоработанную рукопись «Энеиды», но я верю, что оно не будет выполнено.
Я как–то написал, что Вергилию принадлежала половина моей души. Сейчас я чувствую, что преуменьшил то, что казалось мне тогда преувеличением, ибо в Брундизии осталась половина души не просто моей, а всего Рима. Мы потеряли больше, чем нам дано понять.
Но память моя почему–то упорно возвращается к более прозаическим вещам, которые одним лишь нам с тобой понятны. Он нашел свое последнее пристанище в Брундизии; а помнишь, сколько лет прошло с тех счастливых дней, когда мы втроем путешествовали через всю Италию из Рима в Брундизий? Двадцать лет… А кажется, что это было только вчера: я до сих пор явственно ощущаю, как режет глаза едучий дым от свежих веток, которые владельцы постоялых дворов подкладывали в очаг, и слышу, как мы звонко смеемся, словно мальчишки, до срока отпущенные из школы; я вижу сельскую девушку, что мы подобрали в Тривике, – она обещала прийти ко мне в комнату, но так больше и не появилась; слышу, как Вергилий поддразнивает меня; помню шумную возню и тихий разговор; и роскошь Брундизия после аскетизма провинции.
Я никогда больше не вернусь в Брундизий. Тяжкий груз печали заставляет меня отложить перо…
VIII
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
В молодости, когда я только познакомилась с ней, я считала Теренцию пустой и глупой, хотя и занятной женщиной, и не могла понять, что мой отец нашел в ней. Она была болтлива как сорока, отчаянно заигрывала со всеми подряд, и, как мне тогда казалось, ее ум ни разу не омрачался ни одной серьезной мыслью. Муж Теренции, Гай Меценат, мне никогда не нравился, хоть он и был другом моего отца, и я никак не могла взять в толк, почему она согласилась на брак с ним. Оглядываясь назад, я должна заметить, что мой союз с Агриппой был не менее странен, но я тогда была молода и неопытна и так поглощена собой, что ничего вокруг не замечала.
Со временем я научилась понимать Теренцию. Не исключено, что по–своему она была мудрее нас всех. Я не знаю, что с ней сталось. Что случается с людьми, которые незаметно исчезают из нашей жизни?
Я полагаю, она любила моего отца, хотя даже он сам не до конца понимал ее. А может быть, и наоборот, очень хорошо понимал. Она была более или менее верна ему, заводя себе любовников только в период его особенно долгого отсутствия. Возможно даже, что его привязанность к ней была гораздо глубже, чем предполагал напускаемый им вид снисходительной терпимости. Они оставались вместе более десяти лет и были, как мне представляется, счастливы. Теперь–то я вижу – и не исключено, что смутно видела уже тогда, – что мои суждения о людях были обусловлены моей молодостью и высоким положением. Мой муж, по возрасту годящийся мне в отцы, являлся самой важной фигурой в Риме и провинциях в отсутствие моего отца, и посему я воображала себя некой Ливией – такой же гордой и величавой, как и она, с высоко поднятой головой стоящей рядом с тем, кто и сам мог бы быть императором. Поэтому мне казалось в высшей степени неуместным, что мой отец увлекся такой непохожей на Ливию (и на меня, как я по глупости думала) женщиной, как Теренция. Но теперь я знаю то, что не замечала тогда.
Я помню, что, когда мой отец один вернулся из Азии всего через несколько дней после того, как в Брундизии у него на руках испустил свой последний вздох его друг Вергилий, Теренция оказалась единственной, кто сумел принести ему утешение. Ни Ливия, ни я оказались на это не способны. Мне была знакома идея утраты, но не сама она; Ливия, со своей стороны, исправно произнесла все положенные в этом случае слова – что Вергилий выполнил свой долг перед родиной и навсегда останется жить в памяти соотечественников и что боги примут его в свое лоно как одного из самых любимых сыновей. И еще она дала ему понять, что чрезмерное проявление скорби не к лицу императору.