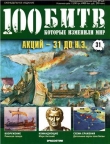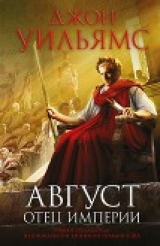
Текст книги "Август"
Автор книги: Джон Уильямс
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Книга вторая
Глава 1
I
Рассказ Гирции, записанный ее сыном Квинтом, Велитры (2 год до Р. Х.)
Я – Гирция. Мать моя, Криспия, когда–то была рабыней в доме Атии, жены Гая Октавия–старшего, племянницы божественного Юлия Цезаря и матери того самого Октавия, кого теперь все знают как Августа. Грамоты я не знаю и потому диктую эти слова моему сыну Квинту, управляющему имениями Атия Сабина в Велитрах. Он записывает мой рассказ, чтобы наши потомки знали о том, что было до того, как они появились на свет, и кто были их предки. Мне нынче пошел семьдесят второй год, и мне недолго ждать смерти, потому я хочу поведать свою историю прежде, чем глаза мои закроются навсегда.
Три дня назад мой сын взял меня с собой в Рим, чтобы, пока глаза мои еще могут видеть, я в последний раз увидела город, который помню со времен своей молодости. И вот тогда–то и случилось событие, заставившее меня вернуться в прошлое столь отдаленное, что я и не чаяла когда–нибудь его вспомнить: больше пятидесяти лет спустя я снова увидела того, кто теперь повелитель всего мира и носит столько титулов, что моя слабая память и запомнить их все не может. Когда–то я звала его просто «мой Тавий» и носила на своих руках, словно собственное дитя. Об этом я расскажу чуть позже, а сначала хочу поведать о временах более ранних.
Мать моя была рождена рабыней в доме, принадлежащем роду Юлиев. Поначалу ее приставили к Атии в качестве подруги для игр, а затем – как служанку. Еще в ранней молодости за свою верную службу она была отпущена на свободу и потому могла, согласно закону, выйти замуж за вольноотпущенника Гирция – моего отца, – который надзирал за оливковыми рощами в имении Октавиев в Велитрах; там, в небольшом домике на холме недалеко от виллы, я родилась и провела первые девятнадцать лет жизни, окруженная лаской и заботой моих родителей. Нынче я снова живу в Велитрах, и если будет на то воля всевидящих богов, то закончу свой земной путь в том самом доме, где прошли самые счастливые годы моего детства.
Моя госпожа и ее муж нечасто бывали на вилле – они жили в Риме, ибо Гай Октавий–старший был важной фигурой в тогдашнем правительстве. Когда мне исполнилось десять лет, мать сказала мне, что Атия родила сына, который оказался очень болезненным мальчиком, и она решила, что чистый воздух Велитр, вдали от смрада и копоти Рима, пойдет ему на пользу. Моя мать незадолго до того разрешилась мертворожденным ребенком и потому могла стать ему кормилицей. Она дала ему свою грудь, как если бы он был ее собственным сыном, а я приняла его в свое сердце, в котором уже тогда начали пробуждаться материнские чувства.
Я была еще совсем девочкой, но заботилась о нем как настоящая мать: купала и пеленала его, держала за руку, когда он делал свои первые шаги. Можно сказать, он рос у меня на глазах – в моей детской игре в дочки–матери он был моим Тавием.
Когда тому, кого я звала Тавием, исполнилось пять лет, после длительного пребывания в Македонии в Италию вернулся его отец, который пробыл несколько дней с семьей в Велитрах, намереваясь после этого переехать на юг на виллу в Ноле, где мы все должны были к нему присоединиться с наступлением зимы. Но он неожиданно заболел и скоропостижно умер здесь же, в Велитрах; так мой Тавий потерял отца, которого никогда не знал. Я старалась утешить его, взяв к себе на руки; я помню, как дрожало его маленькое тельце, прижатое к моей груди, но глаза его оставались сухими.
После этого он провел с нами еще четыре года, хотя теперь у него был учитель из Рима, следивший за его воспитанием; иногда к нему приезжала Атия. Когда мне стукнуло восемнадцать лет, я потеряла мать, и моя госпожа Атия (которая во исполнение своего долга и после положенного по закону траура снова вышла замуж) решила, что настала пора ее сыну вернуться в Рим и стать настоящим мужчиной. По доброте своей и в заботе о моем будущем она отдала мне во владение надел земли, достаточно большой, чтобы я никогда не знала нужды; а ради моего собственного счастья сосватала мне в мужья вольноотпущенника своей семьи, жившего в скромном, но надежном достатке благодаря небольшой отаре овец, которую он держал на выпасе в горах возле Мутины, к северу от Рима.
Так я рассталась со своей юностью и стала взрослой женщиной и навеки простилась с мальчиком, которого понарошку считала своим сыном. Время игр закончилось для меня навсегда, но я не могла сдержать рыданий при расставании с Тавием; он обнял меня, как будто это я была ребенком, нуждающимся в утешении, и прошептал мне на ухо, что никогда меня не забудет. Мы поклялись, что непременно увидимся снова, хотя никто из нас в это не верил. А затем тот, кто был для меня «моим Тавием», покинул Велитры, чтобы позже стать повелителем мира, а я нашла свое собственное счастье в том предназначении, что боги определили на мою долю.
Как может невежественная старая женщина узреть величие в том, кого знала еще младенцем, видела его первые робкие шаги и была свидетелем его шумных мальчишеских забав со своими сверстниками? А нынче повсюду за пределами Рима, в деревнях и провинциальных городах, его почитают как бога; даже в моей родной Мутине есть храм его имени, и я слышала, что подобные же храмы имеются и во многих других местах; его изображение стоит на почетном месте над очагом в сельских домах по всей стране.
Мне неведомо, что движет миром или богами, но я до сих пор прекрасно помню ребенка, который был почти моим, хоть и не мое тело родило его, и должна рассказать об этом: его волосы были светлее, чем пшеничные колосья по осени, а кожа такая белая, что сразу же обгорала на солнце; порой он был непоседлив и весел, а порой – тих и задумчив; он легко гневался, но так же легко и отходил; и хотя я и любила его, не могу сказать, что он был отличен от других детей.
Наверняка уже тогда боги одарили его тем величием, о котором теперь знает весь мир, но даже если это и так, клянусь Зевсом, сам он об этом не догадывался. Его товарищами по играм были его ровесники, подчас дети самых что ни на есть последних рабов; и в деле, и в игре он не любил оставаться в долгу. Да, боги и вправду, должно быть, благоволили к нему, но в мудрости своей держали это от всех в тайне, ибо, как я слышала впоследствии, с его рождением было связано множество предзнаменований. Говорят, матери его приснился сон, в котором бог, обернувшись змеем, сошелся с нею, после чего она зачала Октавия, а отцу во сне привиделось, будто из чрева ее исходит сияние; множество других необъяснимых и чудесных событий произошло по всей Италии в момент его рождения. Я повторяю только то, что сама слышала, и рассказываю о том, что помню.
А теперь я должна поведать о встрече, которая пробудила во мне все эти воспоминания.
Мой сын Квинт хотел показать мне великий форум, на котором часто бывал по делам своего господина; и вот, едва лишь рассвело, он поднял меня, чтобы успеть пройти к форуму, пока улицы свободны от народа. Мы миновали новое здание сената и стали подниматься по Священной улице к храму Юлия Цезаря, ослепительно сверкавшему в лучах утреннего солнца, словно снег в горах. И я вспомнила, как, будучи маленькой девочкой, видела этого человека, теперь ставшего богом; и я поразилась величию мира, частью которого была сама.
Мы остановились перевести дух возле храма – в мои годы я быстро устаю, – и тут я заметила идущую по улице к нам навстречу небольшую группу людей, в которых я признала сенаторов по пурпурным полосам на тогах. Среди них выделялась худощавая, согбенная (вроде меня) фигура человека в широкополой шляпе и с посохом в руке; все остальные сенаторы, похоже, обращали все свои слова к нему. Я уже давно слаба глазами и потому не могла как следует разглядеть его лицо, но какое–то внутреннее чувство подсказало мне, кто этот человек.
– Это он! – воскликнула я, обращаясь к Квинту.
Он улыбнулся и спросил:
– Кто, матушка?
– Это он, – повторила я с дрожью в голосе. – Это мой господин, о котором я тебе рассказывала, тот, за которым я присматривала в детстве.
Квинт еще раз взглянул на него, потом взял меня за руку и подвел ближе к улице, по которой двигалась процессия. К этому времени вокруг уже собралась толпа горожан, заметивших ее приближение.
У меня и в мыслях не было заговорить с ним, но, увидев его так близко, я уже не могла сдержать нахлынувших на меня воспоминаний.
– Тавий, – сказала я еле слышно, почти шепотом, когда он проходил мимо; и вдруг тот, к кому я вовсе не собиралась обращаться, остановился и в изумлении поглядел на меня. Потом, жестом повелев своей свите оставаться на месте, он направился ко мне и спросил:
– Ты что–то сказала, старая женщина?
– Да, господин, – ответила я. – Прости старуху.
– Ты произнесла имя, которым меня звали в раннем детстве.
– Я Гирция; моя мать была твоей кормилицей, когда ты жил в Велитрах. Ты, наверное, не помнишь.
– Гирция, – сказал он и улыбнулся. Затем он подошел поближе и окинул меня долгим взглядом; лицо его было в морщинах, щеки впалые, но я все равно узнала в нем моего мальчика, – Гирция, – повторил он и тронул меня за руку. – Я помню. Сколько лет, сколько лет…
– Больше пятидесяти, – сказала я.
Тем временем к нам приблизились некоторые из сопровождавших его сенаторов; он подал им знак удалиться.
– Пятьдесят лет, – задумчиво промолвил он. – Что принесли тебе они?
– Я воспитала пятерых детей, трое из которых и посейчас живы и на судьбу не жалуются. Муж мой был хороший человек, и жили мы, ни в чем не нуждаясь. Боги прибрали мужа к себе, а теперь и мне недолго осталось ждать.
– Среди твоих детей были ли дочери? – спросил он, бросив на меня пытливый взгляд.
«Странный вопрос», – подумала я про себя и сказала:
– Нет, мой господин, судьба одарила меня сыновьями.
– Почитают ли они тебя?
– Да, почитают.
– Тогда жизнь твоя удалась, – сказал он. – Может быть, она была даже лучше, чем ты думаешь.
– Я готова следовать воле богов, когда бы они ни призвали меня к себе.
Он кивнул, и лицо его омрачилось.
– В таком случае тебе повезло больше, чем мне, сестрица, – сказал он с какой–то странной горечью, причину которой я не поняла.
– Но ты ведь не такой, как другие, – в домах простых селян твое изображение охраняет очаг; его можно встретить на перекрестках и в храмах. Как можешь ты быть Несчастлив, когда тебя почитает весь мир?
Он ничего не ответил, лишь молча взглянул на меня; затем повернулся к Квинту, стоявшему рядом, и сказал:
– А это, должно быть, твой сын – он очень похож на тебя.
– Это Квинт, – ответила я, – Он управляющий имениями Атия Сабина в Велитрах. С тех пор как я овдовела, я живу там с ним и его семьей. Они хорошие люди.
Некоторое время он задумчиво оглядывал Квинта, а затем произнес:
– У меня никогда не было сына. Одна лишь дочь и Рим – вот и все.
– Все люди – твои дети, – сказала я.
Он улыбнулся:
– Я думаю, сейчас я бы предпочел иметь троих сыновей и прожить свою жизнь, окруженный их заботой.
Я не знала, что на это сказать, и потому промолчала.
– Господин, – обратился к нему мой сын, дрожа от волнения, – мы простые люди, господин, и жизнь наша простая. Я слышал, сегодня ты будешь выступать в сенате, делясь с миром своей мудростью и опытом. По сравнению с тобой наша доля совсем незавидная.
– Квинт – так, кажется? – спросил он.
Мой сын кивнул.
– Так вот, Квинт, сегодня с высоты своей мудрости я должен посоветовать – нет, дать указание сенату забрать от меня то, что я любил больше всего на свете.
На мгновение в глазах его вспыхнул огонь, но тут же черты его смягчились, и он сказал:
– Я дал Риму свободу, которой лишь я один не могу воспользоваться.
– Ты так и не нашел свое счастье, хоть и принес его другим, – сказала я.
– Так сложилась моя жизнь, – ответил он.
– Надеюсь, и тебе улыбнется судьба.
– Благодарю тебя, сестрица. Может быть, я могу тебе чем–нибудь помочь?
– Мне ничего не надо, – ответила я. – И сыновьям моим – тоже.
Он кивнул головой и сказал:
– Ну что ж, пора идти выполнять свой долг.
Долгое время он молчал, не делая попыток уйти.
– Мы все–таки встретились, как и обещали друг другу много–много лет назад.
– Да, господин.
Он улыбнулся:
– Раньше ты звала меня Тавием.
– Тавий, – сказала я.
– Прощай, Гирция. На этот раз мы, пожалуй…
– Мы, пожалуй, больше уже не встретимся, – договорила я – Я еду в Велитры и уже не вернусь в Рим.
Он молча кивнул, затем приложился губами к моей щеке и медленной походкой спустился вниз по улице, где ждали его сопровождающие.
Я продиктовала это моему сыну Квинту за три дня до сентябрьских ид. Я рассказала об этих событиях ради моих сыновей и их детей, ныне здравствующих и еще не рожденных, чтобы, пока существует наш род, они знали, кто были их предки в том мире, что называется Римом, в те стародавние времена.
II
Дневник Юлии, Пандатерия (4 год после Р. Х.)
Серые скалы за моим окном, угрюмые даже в ярком свете полуденного солнца, бесформенной громадой спускаются к морю. Как и все остальные скальные породы на этом острове, они вулканического происхождения – пористые и легкие на вес; ходить по ним надо очень осторожно, чтобы не порезаться об острые края. Есть здесь и другие скалы, но мне не дано видеть их – одной, без сопровождения или надзора, мне разрешается отходить не более чем на сто шагов по направлению к морю, до узкого пляжа из черного вулканического песка, и на такое же расстояние в любую другую сторону от небольшой каменной хижины, бывшей моим пристанищем последние пять лет. Я знаю каждую трещину в этой бесплодной земле – до такой степени я никогда не знала ни одного другого места, включая и мой родной Рим, с которым успела сродниться почти за сорок лет, проведенных там. Похоже, мне более не суждено увидеть ничего иного, кроме этого каменистого острова.
В ясные дни, когда солнце или ветер разгоняют туман, наползающий с моря, я смотрю на восток, и порой мне кажется, что я вижу италийский берег и даже узнаю город Неаполис, укрывшийся в своей уютной бухте, хотя наверняка сказать трудно – вполне возможно, это лишь темная туча, затягивающая горизонт. Впрочем, неважно – туча или берег, я все равно никогда не узнаю.
Внизу подо мной, на кухне, моя мать бранит единственную дозволенную нам служанку; до меня доносится оглушительный грохот горшков и кастрюль и новый взрыв брани – сцена, с удивительным постоянством повторяющаяся каждое утро все эти пять лет. Дело в том, что служанка наша нема как рыба, и, хотя она и может слышать обращенные к ней слова, очень сомнительно, что она вообще понимает латынь. Тем не менее моя мать с поразительной, хотя и пустой, настойчивостью продолжает кричать на нее, подхлестываемая неувядающей верой в то, что ее неудовольствие будет наконец прочувствовано и, таким образом, возымеет действие. Мать моя Скрибония – удивительная женщина: ей почти семьдесят пять лет, а в ней еще столько жизненной энергии, что хватило бы и на нескольких молодых. Одно жаль: все ее усилия направлены на то, чтобы привнести некий довольно своеобразный порядок в мир, который с самого начала был ей не по нраву, ибо никак не хотел следовать принципам, сущность которых оставалась тайной как для нее, так и для мира. Я не сомневаюсь, что она приехала со мной сюда, на Пандатерию, вовсе не из материнских чувств, а в отчаянной погоне за очередным подтверждением своей мысли о том, что жизнь ее не удалась. Я не возражала против ее присутствия из чувства, я бы сказала, оправданного безразличия.
Свою мать я почти не знаю: я видела ее всего несколько раз в младенчестве, еще реже – подростком, а взрослой женщиной встречалась с ней лишь на более или менее официальных церемониях. Я никогда не любила ее; и теперь, после пяти лет вынужденной близости, меня не может не утешать то обстоятельство, что мои чувства к ней остались прежними.
Я – Юлия, дочь Октавия Цезаря Августа. Я пишу эти строки на сорок третьем году жизни, имея целью то, что положительно не одобрил бы Атенодор, друг моего отца и мой учитель: собственное развлечение, и ничего больше. Даже если бы я и желала своему дневнику иной судьбы, очень сомнительно, что кому–нибудь еще доведется его увидеть. Но это и не входит в мои намерения – я не собираюсь объясняться перед миром и не нуждаюсь в его понимании, ибо и то и другое мне теперь глубоко безразлично. И сколько бы еще ни прожило на этом свете мое тело, которому я с большим усердием и искусством служила на протяжении стольких лет, та часть моей жизни, которая имела для меня значение, ушла безвозвратно, посему теперь я могу наблюдать ее с отвлеченным интересом философа, которым я могла бы, по словам Атенодора, стать, если бы родилась мужчиной, а не дочерью императора и бога.
И все же удивительно, как велика сила привычки! Даже сейчас, записывая эти первые строчки в свой дневник и прекрасно зная, что они предназначены лишь для глаз самого странного из всех читателей – меня самой, я ловлю себя на том, что останавливаюсь в раздумье в поисках подходящей темы для рассуждения, спора с собой, его построения и наиболее целесообразного расположения его частей и даже стиля, в каком эти части должны быть представлены. А ведь это всего лишь я, это только себя я хочу убедить в истине силой моих доводов и себя же разуверить. Какая глупость! Впрочем, вреда от этого никому нет. В конце концов, это занимает мое время ничуть не хуже, чем подсчитывание волн, накатывающихся на прибрежный песок и с шумом разбивающихся о прибрежные скалы острова, ставшего моей тюрьмой.
Да, очень похоже, что жизнь моя кончена, хотя, как мне кажется, я до конца не осознавала всю очевидность этого факта вплоть до вчерашнего дня, когда, впервые за почти два года, получила письмо из Рима. Мои сыновья Гай и Луций оба умерли: один от раны, полученной в Армении, а другой – от неизвестной болезни на пути в Испанию, в городе Марселии. Когда я закончила читать письмо, на меня нашло какое–то оцепенение, которое я несколько отстраненно отнесла на счет потрясения от полученных новостей. Я ожидала, что окажусь убита горем, но ничего подобного не случилось – вместо этого я поймала себя на том, что стала припоминать свою жизнь и наиболее яркие эпизоды, расцветившие ее, будто мне больше ни до чего не было дела. И тогда я поняла, что это конец: не думать о себе – еще полбеды, но забыть тех, кого когда–то любила, – это совсем другое. Все вокруг стало таким несущественным – объект безучастного любопытства, не больше. Может быть, я пишу эти строки, привычно используя заученные риторические приемы, для того, чтобы найти в себе силы стряхнуть с души наконец ленивую апатию, в которую погружена. Но, скорее всего, это так же недостижимо, как столкнуть в темную пучину моря эти огромные скалы. Даже мои сомнения не трогают меня.
Я – Юлия, дочь Гая Октавия Цезаря Августа; я родилась на третий день сентября в консульство Луция Марция и Гая Сабина в городе Риме. Моей матерью была Скрибония, сестра тестя Секста Помпея, пирата, которого мой отец сокрушил ради безопасности Рима через два года после моего рождения…
Такое начало одобрил бы даже сам Атенодор, мой бедный, несчастный Атенодор.
III
Письмо: Луций Барий Руф – Публию Вергилию Марону из Рима (39 год до Р. Х.)
Дорогой мой Вергилий, надеюсь, ты чувствуешь себя лучше и теплое неаполитанское солнце помогает тебе бороться с недугом. Твои друзья шлют тебе свои наилучшие пожелания; они дали мне наказ заверить тебя, что наше благополучие целиком зависит от Вергилия: если с тобой все в порядке, то и нам хорошо. Они также просили меня передать свои сожаления, что ты не смог присутствовать на пиру в доме Клавдия Нерона вчера вечером, от коего я лишь сегодня только–только начинаю приходить в себя. Это был самый что ни на есть удивительный вечер, и ты забудешь о своем недомогании, когда я расскажу тебе о нем.
Знаешь ли ты Клавдия Нерона, устроителя пира? Он говорит о тебе с определенным оттенком фамильярности, предполагающим, что ты с ним, по крайней мере, встречался. Если ты и вправду его знаешь, то, возможно, помнишь, что еще два года тому назад он жил на Сицилии, куда был сослан за участие в перузийском мятеже; нынче он отрекся от политики, и, похоже, они с Октавием теперь большие друзья. Он весьма немолод, и жена его, Ливия, годится ему скорее в дочки, чем в супруги, – немаловажное обстоятельство, значение которого ты скоро поймешь.
Пирушка превратилась в литературный диспут, хотя я сомневаюсь, что Клавдий задумал его. Он неплохой человек, но не сказать, чтобы больших знаний. Скоро стало ясно, что собранием заправляет Октавий, а Клавдий лишь номинальный хозяин. Предлогом для приглашения было чествование Поллиона, который наконец открывал в Риме давно обещанную публичную библиотеку, дабы мудрость и знание процветали и среди простолюдинов.
Общество собралось довольно разношерстное, но все вышло как нельзя удачно. Большинство приглашенных были нашими друзьями: Поллион, Октавий и, увы, Скрибония, Меценат, Агриппа, я, Эмилий Мацер, твой «поклонник» Мевий, который наверняка хитростью выманил приглашение у бедняги Клавдия, каковому ничего не оставалось делать, как позвать его; еще один гость, которого никто из нас не знал, некий странный низкорослый понтиец из Амасии по имени Страбон – что–то вроде философа, насколько я понял; для украшения застолья были приглашены несколько знатных дам, имен которых я не припомню, и, к моему вящему изумлению (и твоему, как я подозреваю, удовольствию), этот довольно резкий, но притом весьма обаятельный молодой человек, трудами которого ты так великодушно восхищаешься, – твой Гораций. Я полагаю, это Меценат посодействовал его приглашению, несмотря на то, что всего несколько месяцев назад сам оказался мишенью язвительных нападок Горация.
Должен заметить, что Октавий пребывал в замечательном расположении духа и был, можно даже сказать, чуть ли не болтлив, невзирая на привычно кислое выражение лица Скрибонии. Он ведь только что вернулся из Галлии и после месяцев, проведенных в суровых военных условиях, не мог не истосковаться по цивилизованному обществу; кроме того, трудности, связанные с Марком Антонием и Секстом Помпеем, были временно отодвинуты на задний план, если и не разрешены окончательно. А может быть, его жизнерадостность имела своим источником присутствие жены Клавдия, Ливии, к которой он, похоже, весьма неравнодушен.
Одним словом, Октавий настоял на исполнении роли виночерпия; при этом он замешивал вино крепче, чем обычно, – разбавляя его лишь наполовину водой, так что еще до появления первого блюда большинство из нас уже было навеселе. Он также настоял, чтобы Поллион, а не он восседал на почетном месте возле Клавдия, заняв более скромное ложе рядом с Ливией.
Я не мог не обратить внимания на то, что Октавий и Клавдий были чрезвычайно любезны друг с другом; учитывая их обстоятельства, можно было подумать, что они в сговоре. Скрибония сидела за соседним столом, сплетничая с другими дамами и время от времени бросая осуждающие взгляды в сторону нашего стола, хотя одним богам известно, что вызвало ее негодование, – ей ее брак так же не по душе, как и Октавию, и ни для кого не секрет, что, как только она разрешится от бремени, они разведутся… Что за неприглядные игры приходится вести им, власть предержащим! И как нелепо они выглядят в глазах муз! Сдается мне, что те, кто всего ближе к богам, всего более в их власти. Благословим судьбу, мой дорогой Вергилий, что нам нет нужды вступать в брак, чтобы оставить после себя след на земле, ибо порождения нашей души и в грядущих веках останутся такими, какими мы их создали, и никогда не умрут.
Должен признать, что Клавдий порадовал своих гостей весьма неплохим столом, попотчевав нас очень приличным кампанийским вином перед едой и хорошим фалернским – после; сама еда была и не нарочито изысканная, но и не подчеркнуто простая: устрицы, яйца и крошечные луковички на закуску; затем жареный козленок, запеченные цыплята и жареный лещ; на десерт – богатый выбор фруктов.
После трапезы Октавий поднял тост за муз и предложил обсудить достоинства каждой из них в отдельности; некоторое время он дискутировал сам с собой, кого взять в рассмотрение: то ли трех древнейших, то ли девять более современных, и, как бы после нелегкой борьбы, остановился на последних.
– Но, – сказал он, лукаво поглядев на Клавдия, – воздавая хвалу избранным нами музам, мы не позволим себе запятнать их прекрасные имена упоминанием о политике; данный предмет может всех нас поставить в неловкое положение.
Это замечание было встречено всеобщим, хотя и несколько нервным, смехом. И тут я вдруг осознал, сколько непримиримых врагов, бывших и будущих, находилось вместе со мной в этой зале: Клавдий, которого Октавий выслал из Италии меньше двух лет назад; сам Поллион, наш почетный гость, давнишний друг Марка Антония; молодой Гораций, всего за три года до этого сражавшийся на стороне изменника Брута, и, наконец, Мевий, бедняга Мевий, снедаемый такой всепоглощающей завистью, что никто не мог укрыться от ядовитых стрел его вероломной лести, или, если угодно, льстивого вероломства.
Поллион, будучи почетным гостем, выступил первым. Отвесив в виде извинения поклон в сторону Октавия, он выбрал своим предметом восхваление музы памяти, Мнемы: представив весь род человеческий как отдельного индивида, он провел параллель между коллективным опытом человечества и разумом отдельного человека, откуда довольно изящно (хотя и очевидно) перешел к упоминанию о библиотеке, которую создавал в Риме, представив ее как наиболее важное свойство разума – память, и заключил все это тем, что муза памяти по праву правит всеми остальными в благотворной гармонии.
Мевий издал трепетный вздох и громким шепотом произнес, обращаясь к кому–то из гостей:
– Прекрасно! Просто слов нет!
Гораций взглянул на его, недоуменно приподняв бровь.
Агриппа посвятил свое выступление Клио, музе истории; Мевий громко прошептал что–то насчет мужественности и отваги; Гораций бросил на него негодующий взгляд. Когда подошла моя очередь, я заговорил о Каллиопе [46] – боюсь, не очень удачно, ибо не мог сослаться на мой собственный труд о покойном Юлии Цезаре, хоть это всего лишь и поэма, не нарушая запрета Октавия на упоминание о политике.
Все это было довольно скучно, хотя Октавий, который сидел, откинувшись на подушки, рядом с Ливией, казался вполне доволен; именно его веселое оживление и непосредственность помогали вынести то, что иначе было бы невыносимо.
Затем он предложил Мевию (что было довольно очевидно, на мой взгляд, хотя Мевий настолько высокого мнения о себе, что не заметил подвоха) взять музу комедии Талию; тот, польщенный оказанным ему вниманием, разразился долгой и нелепой сентенцией (украденной, я полагаю, у Антисфена Афинского [47]) о новоафинских выскочках – рабах, вольноотпущенниках и торговцах, – каковые возомнили себе, что могут быть на равной ноге с вышестоящими; которые умудрялись напроситься в гости к великим мира сего, где на пирах объедались, беззастенчиво злоупотребляя щедростью и добротой своих благородных хозяев; и как Талия, богиня духа комедии, дабы проучить сих недостойных мужланов, навела на них порчу, чтобы всякий без труда мог различить их породу, защитив, таким образом, от них людей знатного происхождения: некоторых она превратила в карликов с копной волос, словно стог сена, в котором они родились, и манерами, уместными лишь в конюшне, и т. д. и т. п.
Скоро стало ясно, что Мевий метит в твоего молодого друга Горация но по какой причине, было непонятно. Никто точно не знал, как себя при этом вести, – мы смотрели на Октавия, но лицо его оставалось безучастным, оборачивались к Меценату, но тот, казалось, ничего не замечал. Никто не осмеливался взглянуть на Горация, кроме меня одного, сидевшего рядом с ним: в мерцающем свете факелов он казался бледнее смерти.
Наконец Мевий закончил и сел на место, весьма довольный тем, что польстил патрону и уничтожил возможного врага. Среди гостей пробежал шепоток. Октавий поблагодарил его и сказал:
– А теперь кто возьмет на себя смелость выступить от имени Эрато, музы поэзии?
Мевий, воодушевленный кажущимся успехом, предложил:
– Конечно, Меценат; он давно добивался расположения Эрато, и теперь она по праву принадлежит ему. Без сомнения, это должен быть Меценат.
Меценат сделал утомленный жест рукой и лениво произнес:
– Нет–нет, я вынужден отклонить эту честь. В последние несколько месяцев капризная муза больше не наведывается в мои сады… Может быть, мой юный друг Гораций хочет выступить?
Октавий рассмеялся и, обернувшись к Горацию, с исключительной любезностью сказал:
– Я встретился с нашим уважаемым гостем лишь сегодня, но тем не менее позволю себе попросить его доставить нам удовольствие своим выступлением.
– Хорошо, – сказал Гораций и надолго замолчал.
Затем, не дожидаясь слуги, налил себе полную чашу неразведенного вина и одним движением опорожнил ее. А потом он заговорил. Передаю тебе его слова, как я их запомнил:
– Всем вам знакома история грека Орфея, о котором наш отсутствующий здесь Вергилий так прекрасно написал, – того самого Орфея, сына Аполлона и музы Каллиопы, удостоенного вниманием лучезарного бога, получившего в дар от отца золотую лиру, несущую в мир волшебный свет, заставляющий даже бездушный камень и мертвое дерево расцвести такой чудесной красотой, какая и не снилась простым смертным. И вы конечно же помните о его любви к Эвридике, о которой он пел с таким безупречным изяществом, что Эвридика поверила, будто сама была частью души певца, и стала его супругой, вызвав потоки слез у Гименея, словно знавшего заранее, что готовит ей судьба. Все вы также знаете, что однажды Эвридика, беспечно заступив пределы мира, преображенного чарами ее мужа, была укушена змеей, что вышла из недр земных, и унесена из мира света во тьму подземного царства, куда за ней в отчаянии последовал Орфей, завязав себе глаза, чтобы ненароком не заглянуть во мрак, который ни один смертный не должен видеть. И там он пел свои песни, столь прекрасные, что рассеял тьму таким ярким светом, что даже духи не могли сдержать слез, а колесо, на котором кружился несчастный Иксион, остановилось как вкопанное; и демоны ночи отступили и сказали, что Эвридика может вернуться вместе с мужем в мир света при условии, что Орфей не снимет с глаз повязки и ни разу не оглянется на следующую за ним жену…
Легенда не говорит нам, почему Орфей нарушил обет; она говорит лишь, что он сорвал повязку и оглянулся назад; и на его глазах Эвридика исчезла в недрах земли, которая тут же сомкнулась над ней, оставив его одного. А потом, продолжает легенда, Орфей изливал свою печаль в таких прекрасных песнях, что знавшие лишь свет дня девы, не ведавшие о том, что ему довелось пережить, пришли к нему и предложили себя в утешение, дабы увлечь его прочь от печальных воспоминаний; но он отказал им, и, объятые великим гневом, они сумели своими воплями заглушить его песню, разрушив волшебные чары, и в охватившем их безумии растерзали его на части, бросив их в реку Эбр, где его голова продолжала петь свою безмолвную песнь; и самые берега раздались перед ней вширь, чтобы поющая голова его могла благополучно достичь бескрайнего моря… Такова история грека Орфея, как рассказал ее Вергилий.