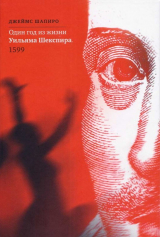
Текст книги "Один год из жизни Уильяма Шекспира. 1599"
Автор книги: Джеймс Шапиро
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц)
Хорошо, что именно Стрит отвечал за демонтаж здания Театра. Скорее всего, Глобус собирала та же строительная бригада (примерно дюжина рабочих), что и демонтировала Театр. Возможно, Стрит вызвал и плотников из Виндзора, которых год спустя привлечет к строительству Фортуны. Возведение стен нельзя было доверить неопытным мастерам – в отличие от декора: даже неграмотные рабочие легко могли установить затейливые элементы деревянного орнамента (они все еще встречаются в облицовке зданий тюдоровской эпохи и даже в обрамлении зданий в Северной Америке, тогда возведенных), ведь плотники овладевали этим навыком еще во время ученичества.
Внешние стены собирали заранее, а затем устанавливали на место, для устойчивости фиксируя поперечными рамами и соединительными балками. Установив внутренние стены и пол так же, как в Театре, плотники, передвигая строительные леса, повторяли эту процедуру с каждой из примерно двадцати секций. Если материал хорошо сохранился и не нужно было выпиливать слишком много новых элементов, то этот этап работы вряд ли отнимал много времени. Наблюдая за строительством нового здания в Бэнксайде, лондонцы понимали, что работы близки к завершению и уже летом театр откроет свои двери. Каждый день минуя Глобус по пути в Розу, Хенслоу, вероятно, думал о том, что дни его старого театра сочтены.
Время, упущенное при заморозках, предстояло наверстать на самом сложном этапе работы. Теперь, после тщательных замеров, нужно было настелить пол, возвести внутренние перегородки и смонтировать места в зрительном зале. Непросто было также собрать пятифутовую сцену и лестницы. С сухим пиломатериалом особых сложностей не возникло – его доставляли в срок, так как Стрит держал поставщиков в ежовых рукавицах. В конце мая из-за сильных ливней и наводнения работа приостановилась, но затем вновь пошла полным ходом.
Глобус стал первым лондонским театром, построенным актерами для актеров: Шекспир и другие пайщики буквально не спускали глаз со Стрита и его людей во время монтажных работ, особенно на последнем этапе, когда возводили сцену и помещение для актеров. Скорее всего, за финансовые вопросы отвечал Хеминг, а братья Бербеджи (конечно, не раз наблюдавшие за тем, как их отец, столяр по профессии, контролировал строительство Театра, а затем и внутренней сцены Блэкфрайерса) приложили все усилия к тому, чтобы Стрит построил ровно такую сцену, как просили пайщики. Слуги лорда-камергера, а они играли на всех сценах города, по собственному опыту знали и сильные, и слабые стороны лондонских театров. Только драматург, который понимал, как сложно построить театр и чем грозит превышение бюджета, мог написать такие строки:
Задумав строить,
Исследовать сперва мы станем почву,
Потом начертим план; когда ж готов
Рисунок дома, – вычислить должны,
Во сколько обойдется нам постройка.
Но коль превысит смета наши средства,
Что сделаем? Начертим план жилища
Размеров меньших иль затею бросим.
( «Генрих IV. Часть вторая», I, 3; перевод Е. Бируковой )
После окончания монтажных работ за дело взялась другая бригада квалифицированных рабочих – стекольщики, слесари, кузнецы, кровельщики, штукатуры и маляры. Также требовались мастера, чтобы задекорировать под мрамор две деревянные колонны на сцене (мало кто умел это делать хорошо). Наружные стены обшивали деревянной дранкой (плетеной сеткой из прутьев), которую затем штукатурили и покрывали известью; штукатурка имитировала каменную кладку (Глобус внешним видом чем-то напоминал римский амфитеатр – весьма подходящий антураж для пьесы «Юлий Цезарь»). И, увы, скорее всего Слуги лорда-камергера сами попросили Стрита огородить нижнюю галерею «мощными железными кольями», чтобы помешать зрителям стоячего партера перелезать через перила и занимать более дорогие места на галерее. Стрит и его бригада изо всех сил старались наверстать упущенное время; и вот переменчивая лондонская погода смилостивилась над ними: в июле – августе держались сухие жаркие дни, а лучшего времени для отделочных работ просто не придумать. Если только удача не отвернется от них, то возможно – даже если отделочные работы еще не завершатся, – представления начнутся в конце июля. (В 1600 году Стрит заключил с Хенслоу договор на строительство Фортуны, обещая закончить работу к 25 июля. Вполне вероятно, он назвал эту дату, исходя из опыта работы в Глобусе.) Желая иметь в своем репертуаре новую пьесу, Шекспир, должно быть, начал «Юлия Цезаря» еще в марте и в мае был готов отдать трагедию распорядителю празднеств. «Юлий Цезарь» без сомнения один из первых текстов, предложенных им Глобусу, а возможно, и самый первый.
Глава 7
Сожжение книг

Разумеется, в делах, связанных с судебным разбирательством и задержкой строительных работ, Шекспир рассчитывал на помощь других пайщиков, однако вопрос о премьерном для Глобуса спектакле касался лишь его одного. Выбор пьесы зависел от многого, но прежде всего был связан с политическим скандалом, развернувшимся в мире книгоиздателей.
Весной 1599 года в книжных лавках Лондона покупателю предлагали две книги о жизни правителя, свергнувшего Ричарда II, – «Жизнь и царствование Генриха IV (первая часть)» и хронику «Генрих IV». Одну из них написал юрист Джон Хейворд, другую – Шекспир. Запутаться было очень легко: указание на первую часть содержалось только в хронике Хейворда, хотя она и не получила продолжения, в отличие от шекспировской.
Шекспировская пьеса «Генрих IV» продавалась неплохо. В 1598 году она дважды выходила в формате кварто, и тираж быстро распродали; в 1599-м появилось третье издание (из всех шекспировских пьес только «Ричард II» окупился так же хорошо). Однако в Лондоне широко обсуждали книгу Хейворда, а вовсе не Шекспира. Издатель Хейворда Джон Вулф (именно он хотел построить театр в восточном Смитфилде) хвастался, что «ни одна из книг не продается так, как эта».
Без разрешения на публикацию Хейворд не имел права отдать рукопись в печать. Опасаясь запрета, он убрал из текста посвящение и предисловие. В ту эпоху автор сам выбирал, к какому цензору обратиться. Хейворд остановился на Сэмюэле Хаснете – возможно, решив, что тот менее строг, чем другие. Позднее Хаснет признался, что внимательно прочитал лишь первые страницы, а остальное только пролистал.
Ради прибыли и увеличения продаж Джон Вулф убедил Хейворда вернуть предисловие и посвятить книгу графу Эссексу, так как Эссекс стоит во главе военной кампании в Ирландии, «а в книге затронут ирландский вопрос». Имя графа было тогда у всех на устах, многие посвящали ему свои сочинения, но никто из авторов не рискнул высказаться так смело, как Хейворд: «Вы действительно великий человек нашего времени, и в будущем вы не раз это докажете». Такие слова вряд ли пришлись бы по нраву тем, кого и так пугали амбиции Эссекса.
Хроника Хейворда появилась в продаже в начале февраля 1599-го. К концу месяца, когда ее стали активно раскупать и всерьез о ней заговорили, Эссекс написал письмо архиепископу Кентерберийскому Джону Уитгифту, упомянув, что не имеет отношения к посвящению Хейворда. Не ясно, почему Эссекс поступил именно так. Возможно, в самый разгар переговоров с королевой об ирландском походе и своих притязаниях, Эссекс не хотел лишний раз ее раздражать.
Скорее всего, он выждал какое-то время перед тем, как связаться с Уитгифтом, чтобы действовать наверняка, – пусть сначала посвящение Хейворда получит огласку, а затем он, Эссекс, сделает вид, будто никакого отношения к этому не имеет. По мнению таких скептиков, как Фрэнсис Бэкон, Эссекс прекрасно знал: запретный плод сладок. Примерно год спустя враги Эссекса распустили по Лондону слух: графу якобы очень понравилась книга Хейворда; они также обвинили его в том, что «он не единожды видел спектакль и неизменно поддержал его бурными аплодисментами». Неизвестно, о каком спектакле идет речь. Если в доме Эссекса и исполняли хронику Хейворда, то еще до отъезда в Ирландию, в конце февраля – начале марта. Или же произведение Хейворда перепутали с другой пьесой (на тот же сюжет), исполнявшейся только для близкого круга Эссекса. А может, это было одно из тех обвинений, что часто выдумывали, чтобы насолить графу.
После того, как к концу марта половина тиража (500 экземпляров) была распродана, архиепископ поручил Гильдии печатников вырезать посвящение Эссексу из оставшихся экземпляров. Разумеется, приказ архиепископа привлек к книге еще большее внимание, и оставшаяся часть тиража быстро разошлась. В начале марта Джон Чемберлен написал Дадли Карлтону, что книгу Хейворда «широко обсуждают», интересуясь в первую очередь тем, почему «произведение вышло в свет именно сейчас»; «многих особенно возмутило посвящение графу Эссексу, написанное на латыни». Чемберлен также добавляет, что «по распоряжению властей данный текст из книги уберут», но он очень постарался и достал для своего друга экземпляр с посвящением: «Я раздобыл для тебя эту книгу, чтобы ты сам понял, в чем суть проблемы, если сумеешь. Со своей стороны, я не нашел там оскорбительных слов, подтверждающих, что все так, как об этом теперь говорят».
Таким образом, англичан больше всего волновало, почему хроника вышла именно сейчас. «Широко обсуждают» – значит, оценивают, насколько она опасна с политической точки зрения. Вскоре органы власти задались рядом вопросов: Хейворд «лишь прикрывается историческими событиями, а на самом деле пишет о нашем времени?», «кто автор предисловия?», «с какой целью опубликована эта книга?», «чем автор руководствовался в рассуждениях о том <…> что подданный может на законных основаниях свергнуть короля?» И почему в хронике сказано, что «дела в Ирландии примут дурной оборот?»
К Пасхе, отмечает Вулф, спрос на книгу сильно увеличился, и Хейворд предложил переиздать ее, отредактировав и включив в нее новое предисловие, в котором резко ответил на «все обвинения и домыслы», выдвинутые «истинными знатоками нашего времени». Однако совсем не нужно быть знатоком, чтобы сравнить эпоху Ричарда II с елизаветинской, особенно когда речь идет о якобы добровольных пожертвованиях, то есть поборах с населения, и бездетности правителя, таящей в себе угрозу для государства. Сложно также не заметить, насколько неудачны решения Ричарда и Елизаветы в отношении Ирландии. И во времена Ричарда II, и теперь «неотесанные ирландцы, бродяги и оборванцы, освободились от наших оков и набросились на нас, чиня кровавые расправы и погромы». Прекрасно поняв все намеки, Елизавета произнесла (эта фраза сохранилась в веках): «Разве вы не знали, что Ричард II – это я?» Власти же были обеспокоены не на шутку: что, если лондонцы пойдут по пути своих непокорных предков, которые два века назад поддержали государственный переворот и свергли бездетного монарха, обложившего их непосильными поборами и не способного уладить ирландский вопрос?
Лишь немногие зрители «Ричарда II» или первой части «Генриха IV» знали, какие тексты послужили Шекспиру сюжетным источником; точно так же мало кто понимал, как Хейворд трактует свержение Ричарда II. Шекспиру были знакомы тексты, которыми пользовался Хейворд, и потому ему сразу стало ясно, что Хейворд придумал сам, а что явная натяжка. Помимо «Жизнеописаний» Плутарха (главный источник трагедии «Юлий Цезарь»), зимой 1599-го Шекспир внимательно прочитал и бестселлер Хейворда.
Шекспир скоро понял: Хейворд – прекрасный знаток театра – мастерски владеет пером, ведь монологи в его хронике написаны с драматической убедительностью. Хейворд – один из первых английских историков после Томаса Мора, кому удалось со всей живостью воссоздать характеры исторических персонажей; текст Хейворда скорее напоминает пьесу, написанную прозой, нежели чисто историческое сочинение. Как явствует из названия, Хейворда главным образом интересовала фигура правителя, он одним из первых показал, как много в истории зависит от сильной личности. Вот отрывок из монолога, в котором Генрих призывает своих сторонников свергнуть Ричарда II (перед нами свободный стих, удобный для декламации):
Победу одержав, вернем себе свободу,
А если проиграем, хуже нам не станет,
А потому за родину нам нужно жизнь отдать
Геройски иль в бою не отличившись,
На этот шаг решиться – благородство,
Какая ни ждала бы нас развязка.
Нам кажется – зачем же воевать,
Коль скоро нам опасность не грозит,
Однако в рабском сне всю жизнь прожить —
То безответственность, а может, разгильдяйство.
( перевод Е. Луценко )
Можно только представить себе, как подобные строки были восприняты Эссексом и его сторонниками, которым постоянно чинили препятствия при дворе и которых так раздражала скупость стареющей королевы.
Прочитав эпизод, в котором Генрих старается любой ценой завоевать расположение народа, Шекспир, конечно, тут же понял, откуда Хейворд позаимствовал эти идеи:
[Генрих] никогда не забывал снимать шляпу, кланяться и протягивать руку любому, в том числе и дурному человеку; он также пускал в ход и ряд других реверансов, которые так нравятся большинству людей… Когда бы он ни проезжал по улице, собиралась толпа зевак; бедняки провожали его добрыми словами и пожеланиями, так как у этих людей не было иного способа выразить свою любовь.
Хейворд явно знал хронику «Ричард II», поскольку мысль о народной славе принадлежит именно Шекспиру, и ни в одном из других источников, кроме этой шекспировской пьесы, о заигрывании Генриха с народом нет и речи. Я имею в виду эпизод, в котором Йорк описывает въезд Генриха в Лондон:
Народ его приветствовал, крича:
«Да здравствует наш Болингброк!» Казалось,
Что окна ожили: и стар и млад
Глазами жадными на них глядели;
Казалось, что кричали даже стены,
Украшенные яркими коврами:
«Добро пожаловать, наш Болингброк!»
Он ехал с непокрытой головой
И, кланяясь направо и налево,
Сгибаясь ниже гордой конской шеи,
Всем говорил: «Спасибо, земляки».
Так, всю дорогу кланяясь, он ехал.
( «Ричард II», V, 2; перевод Мих. Донского )
Шекспира в хронике Хейворда заинтриговали совсем не скандальное предисловие или явные намеки на схожесть взглядов Ричарда II и Елизаветы, или ирландский подтекст, или заимствования из его же собственной пьесы. Шекспира заинтересовал подход Хейворда к истории, хотя мрачность его мироощущения (сродни тацитовской, как тогда полагали) и придавала его хронике старомодность и однообразие. Раньше Шекспир сам возрождал старые сюжеты, осовременивая их. Даже если в его пьесах разыгрывались сцены низложения и убийства помазанника Божьего, тем не менее никак нельзя было сказать, что Шекспир оправдывает их (кроме, разве что, свержения Тюдорами Ричарда III). Какова бы ни была собственная позиция Шекспира, до этого он не писал хроник, идеи которых явно шли вразрез с официальной точкой зрения – да иначе он и не мог бы поступить, если хотел, чтобы его пьесы ставили и печатали. Весной 1599 года он впервые задумался о том, не пришло ли время изменить негласные правила игры.
Об отношении елизаветинцев к власти мы знаем совсем немного, и то благодаря судебным процессам над теми, кто критиковал действия правительства. Поэтому нам остается лишь догадываться, какой резонанс в народе получили идеи Хейворда.
23 февраля 1599-го, к примеру, Джоан Боттинг из Чиддингстоуна в разговоре с Елизаветой Хэррис упомянула, что положение дел не улучшится, пока «богачам не перережут глотки, ведь только после этого бедные заживут на славу». Она также добавила, что «еженощно молилась Богу и просила его прибрать королеву… и помочь ее врагам». Хэррис донесла на Боттинг; после обвинительного приговора ее знакомую повесили. Через несколько месяцев Мэри Бантон из Хакина так же откровенно высказала свою точку зрения: «Мне нет никакого дела ни до королевы, ни до ее распоряжений». Согласно приговору, ее посадили в колодки, а затем высекли. В те времена даже простая женщина позволяла себе поставить под сомнение действия властей, что уж говорить о Хейворде. Неудивительно, что его сочинение королева Елизавета назвала «не иначе как подстрекательством, способным зародить в людях дерзкие и крамольные мысли».
В конце XVI века труды Тацита воспринимались как образец непредвзятого отношения к истории. Тацит, писавший в темные времена правления Нерона, знал о коварстве политиков. От историков-моралистов, склонных к нравоучениям, таких как Плутарх, его отличают радикальные республиканские идеи. Труды Тацита были вновь открыты и осмыслены только после Реформации – Европа, раздираемая противоречиями, напоминала многим читателям суровую античность, описанную Тацитом. В 1574 году великий нидерландский гуманист Юст Липсий подготовил к печати произведения Тацита, охарактеризовав их как «театр современности»; буквально через несколько лет о Таците заговорили и в Англии. Большую роль в этом сыграл сэр Филип Сидни, находившийся с Юстом Липсием в переписке. Безусловно, Сидни понимал всю опасность такого взгляда на историю, и потому просил своего младшего брата Роберта остерегаться «ядовитой порочности», с которой тот столкнется при чтении Тацита. Сидни даже отправил своего брата к Генри Сэвилу, оксфордскому филологу-классику, латинскому секретарю Елизаветы (в 1591 году он впервые опубликовал труды Тацита по-английски, посвятив издание Елизавете и познакомив широкую аудиторию с историей смутных дней Рима). Перевод Сэвила представлял тогда больший интерес для Франции, разрываемой гражданской войной, чем для Англии. Но к 1598 году, когда вышло переиздание, положение дел в Англии сильно изменилось.
Среди ревностных приверженцев Сэвила оказался эллинист Генри Кафф (типичный радикал, которого Эссекс вытащил из башни из слоновой кости и назначил своим личным секретарем). Помимо него, перевод Сэвила заинтересовал таких молодых философов, как Фрэнсис Бэкон, Уильям Кемден, Генри Уоттон, Уильям Корнуоллис и Ричард Гринвей (последний перевел остальные труды Тацита на английский язык в 1598 году (в книгу вошли также переводы Сэвила; в предисловии Гринвей льстит Эссексу, сравнивая его с римским императором Веспасианом).
Бен Джонсон полагал, что Эссекс сам сочинил предисловие к переводу Сэвила. Амбициозным приближенным Эссекса, чья карьера в конце 1590-х развивалась не так успешно, как хотелось бы, Тацит, конечно, казался большим авторитетом. Если Эссекс действительно автор предисловия, лишь он отвечает за слова о том, что, прочитав эту книгу, с легкостью можно «узреть все несчастья, обрушившиеся на растерзанную раздорами и оскудевшую страну». Тацит описывает Рим времени правления Нерона, когда монархия сильно ослабела, политические интриги процветали, а государство было расшатано изнутри. Эссексу особенно импонировало то, что в трудах Тацита политические оппозиционеры предстают людьми действия и чести (Эссекс чувствовал, что его явно не оценили по достоинству). В то время как Эссекс взял на вооружение политические и военные принципы Тацита, большинству читателей открылось новое видение истории, в котором нравоучительному подходу совершенно не осталось места.
Шекспир, если и был увлечен Тацитом, то недолго. Возможно, он заглядывал в издание 1591 года, когда описывал в своей хронике злополучные годы правления Генриха VI, особенно ту горькую сцену, в которой отец гибнет в битве от рук собственного сына. Скорее всего, Шекспир держал в руках и издание 1598-го – во время работы над хроникой о Генрихе V. Речь идет о том моменте, когда накануне сражения Генрих, переодетый простым солдатом, появляется среди своего войска. Здесь, конечно, ощутимо влияние Тацита в недавнем переводе Гринвея. У Тацита, римский полководец Германикус, желая понять, «что у солдат на уме», выходит ночью переодетым в чужое платье и, никем не замеченный, наблюдает за караулом. Так он ходит «из одного места в другое, прислушиваясь к тому, о чем говорят в палатках», но при этом гораздо больше, чем шекспировский Генрих, обнадежен услышанным.
Даже при беглом знакомстве с переводами Тацита на английский язык, Шекспир, скорее всего, заметил, что именно Хейворд заимствовал из них, а это, в общем итоге, чуть ли не дюжина страниц. Годы спустя Фрэнсис Бэкон расскажет о реакции королевы: взбешенная Елизавета заявила, что «автор хроники – гораздо более подлый человек, чем Хейворд; она также пригрозила, что будет пытать Хейворда до тех пор, пока не узнает всю правду». Затем она поручила Бэкону «найти в тексте места, которые подстрекают к государственной измене». Тогда Бэкон остроумно ответил: «Такого в хронике нет, однако автор совершил немало других злодеяний. И как только королева поинтересовалась, каких же именно, я заметил: автор, очевиднее всего, вор: многие предложения он позаимствовал у Публия Корнелия Тацита, сам перевел их на английский язык и использовал в своем тексте».
На хронику Хейворда, написанную в духе Тацита, повлиял и другой популярный классический жанр – сатира; исполненная насмешек над абсурдом современности, теперь она также подпала под цензуру. Шекспир оказался в сложной ситуации. Он терялся в догадках: ослабят ли власти хватку или, наоборот, ужесточат требования к печати, что могло пагубно отразиться на его доходах. Стоит, пожалуй, вести себя более осторожно… Поможет ли это? Перестань он писать о том, что волнует современников, сразу потеряет публику.
На своем веку Шекспир повидал немало государственных запретов, зачастую малообоснованных, и знал наверняка: если его соратники по цеху продолжат писать в том же духе, еще один запрет не заставит себя ждать. Среди известных драматургов 1590-х только ему удалось избежать открытого столкновения с властями. Он хорошо помнил: ни в чем не повинного Томаса Кида вздернули на дыбу, Кристофера Марло вероломно убили, а Бена Джонсона заключили в тюрьму за пьесу «Собачий остров». Он интуитивно чувствовал, о чем стоит писать в пьесах, а о чем стоит умолчать. В конце концов, лучше писать о цензуре, чем, как Хейворд и другие сатирики, навлечь ее гнев на свою голову.
Ни в одной из шекспировских пьес в такой мере не раскрыт вопрос о подавлении свободомыслия, как в «Юлии Цезаре». В одной из сцен, придуманных Шекспиром, разъяренная толпа принимает поэта Цинну за заговорщика и допрашивает его. Насколько возможно, Цинна старается успокоить людей и отвлечь их внимание, но, как только произносит свое имя, его участь решена. «Рвите его на клочки, он заговорщик», – кричит Первый гражданин, по ошибке приняв его за Цинну, убийцу Цезаря. «Я поэт Цинна! Я поэт Цинна!», – в отчаянии повторяет он, но, увы, уже слишком поздно. Другой гражданин скандирует: «Рвите его за плохие стихи, рвите его за плохие стихи!» И, хотя Цинна настаивает, что он совсем не заговорщик, все кончено. Еще один бунтовщик раззадоривает толпу: «Все равно, у него то же имя – Цинна; вырвать это имя из его сердца и разделаться с ним» (III, 3).
Словно повторяя мрачную сцену убийства Цезаря в Капитолии, толпа жестоко расправляется с невинным поэтом. Из этого становится очевидным, как в елизаветинские времена решалась проблема цензуры, волновавшая елизаветинцев. Удивительно, но Шекспир не сочувствует ни Цинне-поэту, ни другому, поэту без имени, который вмешивается, пытаясь помирить Брута и Кассия. Когда Кассий пытается оправдать поэта, объясняя его поведение («ведь он всегда таков»), Брут возражает:
Терплю я шутовство в другое время.
Война не дело этих стихоплетов. —
Любезный, прочь! ( IV, 3 )
Вероятно, Брут хочет сказать, что мудрый поэт понимает, когда и где промолчать, не ввязываясь в опасные политические интриги. Несколько месяцев спустя Бен Джонсон, часто навлекавший на себя гнев властей, произнесет такие слова: «Остерегайтесь, / Наш век опасен, оговоров много / И люди жадны до порицанья» («Всяк вне своего нрава», I, 1).
В то время как цензоры шерстили текст Хейворда в поисках правонарушений или закодированных смыслов, Шекспир, возможно, размышлял над теми проблемами, поднятыми в хронике Хейворда, на которые никто не обратил внимания. Во-первых, Хейворд подчеркнул желание Генриха завоевать признание народа. Значение выражения «to gain popularity» очень изменилось с елизаветинских времен. В середине XVI века его использовали, когда речь шла о принципиально новой форме демократии, противопоставленной тирании. Затем, в конце 1590-х, добавилось новое значение – завоевать благосклонность. Шекспир использовал его одним из первых. Это выражение появляется в его пьесах лишь дважды – в первой части «Генриха IV» и в «Генрихе V». Затем драматурги отказались от него, опасаясь цензуры. Работая над «Юлием Цезарем», Шекспир вновь задумался над многозначностью словосочетания: и в сцене праздника, открывающей действие, и в сцене, где Каска принимает решение поддержать Брута, которого «народ глубоко почитает» (I, 3), и в сцене, где читают завещание Цезаря и говорят о его необычайной щедрости к народу. Увидев, какой оборот принимает дело Хейворда, Шекспир понял, что благосклонность народа таит в себе немало опасностей; особенно сейчас, когда Елизавета и Сесил внимательно следят за славой Эссекса.
Не так давно Фрэнсис Бэкон предупредил Эссекса: лучше не пытаться завоевать благосклонность народа. Бэкон также критиковал Эссекса за желание всячески выказывать свою набожность, зная, что «нет более сильного средства привлечь внимание людей, чем религия». Несколько лет спустя Бэкон набросает на латыни биографический этюд (не предназначенный для печати), в котором будет рассуждать о «величии человека, страстно требующего восхваления» и отнюдь не стремящегося «к тихой добродетели». «Ибо он думает лишь о себе и хочет, чтобы весь мир вертелся исключительно вокруг него». Самый главный его недостаток – «желание добиться благосклонности народа». Однако эссе Бэкона совсем не об Эссексе, а о Юлии Цезаре. Сходство между Эссексом и Цезарем, двумя честолюбцами и мощными военачальниками, несомненно: оно проявляется и в «Генрихе V», когда Хор уподобляет Эссекса Цезарю, и в эссе Бэкона, который, хотя и пишет о римском полководце, все время держит в уме Эссекса. В «Юлии Цезаре», однако, Шекспира больше интересует другое – показать через классический сюжет современную политическую ситуацию.
Работая над «Юлием Цезарем», Шекспир внимательно прочитал те фрагменты хроники Хейворда, в которых воссоздан образ мысли европейских теоретиков, пытавшихся оправдать действия жестоких правителей. В хронике Хейворда Генрих сомневается в преданности своих сторонников («считать ли их бунтовщиками или верными подданными»), пока они не заверят его, что «служат прежде всего государству, а не королю». С точки зрения монархии такие слова звучат как измена. Однако Хейворд, опытный юрист, уравновесил эти эпизоды другими – с прямо противоположным смыслом. Хейворд не виноват, что цензоры и прочие «истинные знатоки» не заметили контраргументов в пользу монархии. Шекспир-то их прекрасно понял. Прочитав хронику Хейворда, он сделал вывод: для развития драматического действия важно умение сополагать противоположные точки зрения; необходимо выстроить такой баланс мнений, чтобы нельзя было сказать, на чьей же драматург стороне. Он умело воспользовался этим приемом, описывая трагическое столкновение Брута и Цезаря, противников, непримиримых в своих политических взглядах. В «Юлии Цезаре» Шекспир уравновешивает аргументы за свержение тирана рядом контраргументов. Шекспир к тому же учитывал, что елизаветинскую цензуру в гораздо большей степени интересует печатная продукция, нежели театральные представления, и потому позволял себе гораздо больше, чем Хейворд.
Когда горожане собираются послушать речь Брута, в которой тот оправдывает убийство Цезаря, мы слышим перешептывание двух человек, и один из них говорит: «Ведь Цезарь был тиран». – «В том нет сомненья, / Но, к счастью, от него избавлен Рим», – соглашается второй. Слово «тиран» и другие подобные слова, столь важные для республиканцев, все время звучат в этой пьесе, подкрепляя мысль о том, что убийство Цезаря легитимно. В начале пьесы Кассий спрашивает: «Так почему же Цезарь стал тираном?» (I, 3). Брут, возглавляющий борьбу против тирании, постоянно говорит об убийстве правителя-тирана; после смерти Цезаря Цинна возвещает: «Свобода! Вольность! Пала тирания!» (III, 1).
Один из самых горячо обсуждаемых в шекспировской пьесе вопросов, как и почему Цезарь стал тираном: захватил ли он власть, проявив тиранию, или правил как тиран, или и то, и другое? Кассий полагает, что Цезарь узурпировал власть, проявив тиранию. Он говорит, недоумевая: «…и вот / Теперь он бог», а позднее вопрошает Брута: «Какою пищей вскормлен Цезарь наш, / Что вырос так высоко?» (I, 2) Разговоры о том, что Цезарь подавлял своих политических противников, постоянное сравнение Марка Юния Брута с Луцием Юнием Брутом, а также многочисленные рассуждения Брута о том, что Цезарь окажется для них «яйцом змеиным, / Что вылупит, созрев, такое ж зло» (II, 1), которое лучше убить в зародыше, – все это повлияло на то, как горожане восприняли убийство Цезаря. Цезарь все время говорит о себе в третьем лице, считая Сенат своей собственностью, а в предсмертном монологе провозглашает: «В решеньях я неколебим, подобно / Звезде Полярной: в постоянстве ей / Нет равной среди звезд в небесной тверди» (III, 1); конечно же, он тиран, и продолжал бы править в том же духе, если бы его не лишили этой возможности.
В пьесе откровенно звучит прореспубликанская позиция, однако, чтобы соблюсти баланс, Шекспир показывает и другую точку зрения: переосмысляя источник, драматург опускает, к примеру, тот факт, что Цезарь незаконно завладел властью. Когда в сцене перед Капитолием Цезарю подают несколько прошений, в одном из них пытаясь предупредить о готовящемся покушении, он отвечает так: «Что нас касается, пойдет последним» (III, 1), тем самым решая исход действия. Даже Брут, несмотря на убежденность в своей правоте, признает, что не имеет «причины личной возмущаться им» (II, 1). Образы заговорщиков выписаны столь ярко, что мы прекрасно понимаем мотивы их поведения – противниками Цезаря движет скорее чувство зависти, нежели долга, – таким образом Шекспир заставляет нас усомниться в правомерности республиканской идеи о законном свержении правителя. Брут говорит:
Дух Цезаря сломить! Но нет, увы,
Пасть должен Цезарь. Милые друзья,
Убьем его бесстрашно, но не злобно.
Как жертву для богов его заколем,
Но не изрубим в пищу для собак. ( II, 1 )
Однако на самом деле перед нами жестокое убийство («Омоем руки Цезаревой кровью / По локоть», III, 1). К концу похоронной речи Антония один из горожан, еще минуту назад считавший Цезаря тираном, восклицает: «О, Цезарь царственный»; после чего толпа призывает поджечь дома предателей, убивших императора.








