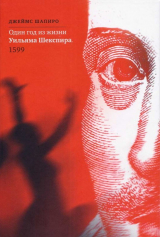
Текст книги "Один год из жизни Уильяма Шекспира. 1599"
Автор книги: Джеймс Шапиро
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 27 страниц)
Если кому-то из лондонских драматургов и предстояло взяться за оружие, так это Джонсону – в свое время он проходил службу в Нидерландах и не раз хвастался тем, что однажды убил вражеского солдата. Однако и он был тогда очень занят – не только писал в соавторстве пьесы для труппы лорда-адмирала, но и работал над продолжением комедии «Всяк в своем нраве», рассчитывая продать ее труппе лорда-камергера. Генри Четтл и Томас Хотон также получили гонорар за работу – прямо в разгар лондонской паники. Четтл – за пьесу «Трагедия мачехи», Хотон – за «Рай бедняка». Майклу Дрейтону, Уилсону, Хэтеуэю и Энтони Мандею предстояло завершить первую часть «Сэра Джона Олдкасла» и написать продолжение к середине октября, поэтому, вполне вероятно, в августе они уже обсудили план работы. Наконец, Джон Чемберлен упоминает о кукольном представлении в доме на Сент-Джонс-стрит в середине августа – в здании располагалась в прежние времена торговая компания, затем разорившаяся. Все это свидетельствует об одном – лондонским театрам испанцы были нипочем.
Две пьесы из репертуара Слуг лорда-камергера пришлись особенно кстати. Одна из них – «Генрих VIII», где воспевалась мощь Англии (хотя упоминание военачальника, подавившего восстание в Ирландии, наверняка изъяли из пьесы в свете последних событий – неудач ирландской кампании Эссекса и слухов о том, что нынешней мобилизацией народ якобы обязан именно ему). Шекспировская труппа, конечно, вспомнила и о другом подходящем тексте из своего репертуара – «Морская чайка Лондона, или Осада Антверпена», – не так давно опубликованном. В начале пьесы речь идет о том, как был захвачен Антверпен, жители которого не приняли всерьез угрозу, исходившую от испанцев, и поставили личные интересы выше общественных:
Горожанам, дабы сохранить свой мир,
благоразумие бы сохранить.
Беспечность дорого стоит: могли бы,
услышав угрозу-призыв,
мгновенно собрать сорок тысяч
обученных славно солдат.
( перевод А. Бурыкина )
Удачной эту пьесу назвать нельзя, она демонстрирует, насколько неровным был тогда репертуар труппы, однако публике того времени ее сюжет оказался близок и понятен. Зрители содрогались от ужаса, увидев на сцене безжалостную расправу над одной английской семьей. Слепого отца, фактически случайно подвернувшегося под руку, пытают на дыбе – он лежит на столе, его запястья и лодыжки схвачены ремнями, к которым привязаны веревки. При натяжении веревок ремни впиваются в кожу – тело медленно растягивают из стороны в сторону. Женщинам угрожают, и сладострастные испанцы даже начинают срывать одежду с одной из них прямо на сцене. Можно ли представить что-то более ужасное для елизаветинского зрителя? Лондон в страхе замер, со дня на день ожидая вторжения неприятеля. Правда, в отличие от беспечных протестантов Антверпена, лондонцы были начеку.
Вот наступил уже август, но испанцы так и не напали. Чем больше проходило времени, тем более безумными становились предположения англичан. Чемберлен пишет:
Народ не хочет верить в то, что ситуация с вторжением испанцев покрыта тайной; не понимая, в чем дело, люди начинают выдумывать небылицы и гадать на кофейной гуще <…> Поговаривают, что королева опасно больна и что все делается, чтобы показать тем, кто не с нами, что можно подчиняться не только им, и при необходимости, войска готовы вступить в бой <…> На западе Англии все еще стоят наши войска, так как если где и опасно, так это там.
Фразы о «тех, кто не с нами» и о грозящей опасности на западе Англии – явный намек на Эссекса. Чемберлен имеет в виду опасения англичан – а вдруг Эссекс покинет Ирландию, высадится с войском в Уэльсе и пойдет войной против своих соперников при дворе.
К концу августа ситуация накалилась до предела. В Тайный совет продолжали поступать противоречивые сведения о планах испанцев, и в результате там не знали, чему верить. Торговцы настолько беспардонно гнули цены и обирали солдат, что лорд-адмирал вынужден был вмешаться – вскоре вышел указ, запрещающий спекуляцию товарами. Королевская казна, истощенная кампанией в Ирландии, совсем оскудела и едва справлялась с огромными расходами. В середине августа Елизавета приказала Томасу Уиндбенку напомнить Сесилу о его обещании держать под строгим контролем расходы на всеобщую мобилизацию. «Вчера вечером, – писал он государственному секретарю, – я был у Ее Величества и сопровождал ее во время прогулки; она попросила меня намекнуть Вам о том, что „из пустого кошелька денег не достанешь, и он не предназначен для благотворительности“». Кроме прочего, королева опасалась масштабного восстания, предвидя недовольство фермеров, которых забрали в армию прямо с полей в разгар уборочной страды. После полосы неурожаев (1594–1597), вызванных плохой погодой, власти никак не могли допустить, чтобы ситуация по их вине повторилась. 17 августа командиры войск на юге страны – граф Бат, сэр Фердинанд Гордж и другие – распустили солдат, объяснив свое решение достоверными сведениями разведки о том, что, якобы, «ни одного корабля противника нет ни в Бресте, ни в Конкете». Как раз вовремя, потому что «положение было отчаянное, и если бы солдат, набранных из крестьян, не отправили домой, назад в поля, то из-за плохой погоды и отсутствия рабочих рук был бы потерян весь урожай».
Терпение Елизаветы лопнуло – во второй половине августа лорд-адмирал «распустил наших дорогих подданных, призванных на службу по нашему распоряжению». Он считал это большой ошибкой, но не посмел ослушаться приказа королевы. Итак, солдаты покинули Лондон, поскольку опасность миновала. 23 августа Джон Чемберлен с воодушевлением написал, что «буря, которая казалась нам столь мрачной, к счастью, позади <…> наши войска постепенно расформировывают, и наконец все закончится».
Однако вскоре опять поступили тревожные новости. Из Плимута писали, что испанцы собираются «высадиться в Англии, у них 15 000 человек, а по прибытии они рассчитывают на помощь еще 15 000 английских католиков». Скорее всего, полагали англичане, враг высадится в Милфорд Хейвене. В субботу, 25-го августа, в этом не оставалось никаких сомнений, и Тайный совет уведомил лорда-мэра и графа Камберленда о том, что испанцы «уже на побережье». Пришлось снова собирать войска, мобилизовывать вооруженные силы города и готовиться к обороне Темзы, чтобы «помешать испанским галерам». «Самое время, – полагал Тайный совет, – каждому из подданных проявить свою преданность королеве и стране». Наступили напряженные дни. Ранним утром 26 августа 3000 солдат «собрались на улицах Лондона в полном вооружении в ожидании командиров, однако, основательно промокнув под дождем, вынуждены были в тот же день по приказу властей отправиться домой». На другое утро еще 3000 горожан проходили в Лондоне учения на Майлз Энд.
Так продолжалось до 4 сентября. Наконец опасность миновала, и страна, изнуренная мобилизацией, начала постепенно возвращаться к прежней жизни. Елизавета молча переехала в Хэмптон-Корт, где, как сообщает очевидец, «танцевала „Испанскую шутку“ под дудку и тамбурин», «в присутствии лишь леди Уорвик». Хорошее название для танца! Елизавете было что праздновать – ей опять удалось избежать беды. Кризис миновал. О том, что его спровоцировало, ходили разные слухи. Фрэнсис Бэкон, осведомленный лучше других, отказался принять официальную версию событий. Утверждение, что испанцы наступают, писал он, «не более чем выдумка, с целью обмануть даже самых умных людей». Возможно, имей он, как Сесил, доступ ко всем данным разведки, не торопился бы с таким выводом. Сам Сесил, который точно знал, что испанцы готовят наступление (но не понимал, куда будет направлен их удар), признал, что погорячился, заметив в свое оправдание, что «люди готовы распять его (как это и случилось с его отцом) всякий раз, как он пытается разубедить их».
Бэкон впоследствии писал, что «все было сделано лишь для того, чтобы Эссекс, услышав о всеобщей мобилизации в королевстве, удержался от искушения повернуть свои войска назад в Англию». В теории Бэкона есть рациональное зерно. Ведь неспроста королева запретила Эссексу возвращаться в Англию без ее разрешения! Больше всего пострадали фермеры – их совершенно напрасно призвали в армию прямо с полей. Люди прекрасно понимали, чем это грозит – многим не раз приходилось хоронить родственников и соседей, умерших от голода или болезни. В 1598-м, за год до испанской угрозы, один рабочий из графства Кент был уличен в речах о том, что истинная война – между богатыми и бедными, и он «надеется именно на такую войну в королевстве, которая заставит богатых поплатиться за их жестокое отношение к беднякам». Бэкон также напомнил народу: «Если бы Тайный совет решил широко отметить праздник весны и отвлечь фермеров от работы, это еще куда ни шло, но призвать их на войну во время сбора урожая – это уже слишком». Англичане, пишет Бэкон, достаточно умны, чтобы увидеть подоплеку всего, что происходит, «недаром, в народе шутят, что в 1588-м испанцы прислали Непобедимую Армаду, а в этом – Невидимую».
Различие между этими двумя событиями на закате правления Елизаветы вполне очевидно, и их сравнение далеко не в пользу последнего. В 1588-м королева готовилась к битве при Тилбери и, по одному из свидетельств, заверила своих подданных, поднявшихся на защиту страны, что «почтет за честь умереть на поле боя, отдав жизнь за Бога, за свое королевство и за свой народ…» Эта речь могла бы посоперничать с монологом Генриха V накануне битвы при Азенкуре. В 1599-м Елизавета даже не появилась на публике, спрятавшись словно пчелиная матка в улье под охраной пчелиного роя. Возможно, она понимала: прежним пропагандистским речам уже нет веры. Народ стал подозрительным; набор рекрутов не прекращался, двор раскололся на фракции, вопрос о престолонаследии оставался открытым, – все это только усиливало всеобщий скептицизм. Немалую роль сыграли и лондонские драматурги (Шекспир в их числе), научившие зрителей остерегаться решений властей. Цензура свирепствовала – разве можно в такой ситуации высказываться об ирландском походе или о наследнике Елизаветы? Однако ни строгий контроль за портретами королевы, ни запрет на публикацию сатирических произведений и хроник не сдержали народные волнения, и, казалось, уже ничто не способно вселить в людей надежду на помощь Божию, которая воодушевляла англичан в 1588-м. Пути назад просто не существовало.
А чем же лондонские драматурги ответили на угрозу испанского вторжения? Некоторые из них, как, например, Джон Марстон, лишь язвительно посмеялись, невзначай обронив фразу: «Идут испанцы!» (осенью 1599-го «Хистриомастикс» сыграла труппа мальчиков Собора святого Павла). Другие, хотя и писали пьесы о национальном прошлом, тем не менее продолжали говорить со зрителем о современности. Прежде всего, это Томас Хейвуд, чья двухчастная пьеса «Эдуард IV» была зарегистрирована в Гильдии печатников 28 августа 1599-го и вышла в свет уже в конце года. Зрители, пришедшие на спектакль в трактир «Кабанья голова» как раз тогда, когда испанская угроза нависла над Англией, увидели, как предки справляются с теми же трудностями, что выпали и на их долю. В третьей сцене, открывающейся речью мэра, ведущего в бой своих солдат (среди них торговцы шелком, бакалейщики, галантерейщики и др.), сразу же стирается дистанция между прошлым и настоящим. Мэр говорит: «Распорядитесь, чтобы по ночам / На улицах горели фонари». Мы вскоре узнаем, что улицы Лондона оцеплены, мост находится под охраной, и все готово к обороне. У Хейвуда мэр сомневается: «Что, если Темзу перегородить? / Возможно ль затопить в ней корабли?» Безусловно, это явный анахронизм. Аналогия тут гораздо сложнее, так как в «Эдуарде IV» лондонцы защищают город не от иноземных захватчиков, а от англичан; войско возглавляет Фэконбридж, цель которого – освободить из Тауэра короля Генриха VI. Хейвуд предпочел скрыть тот факт, что предок графа Эссекса пришел на помощь горожанам Лондона. Трактовка пьесы Хейвуда в сложившихся обстоятельствах в значительной степени зависела от того, куда подует ветер политических перемен.
Некоторые драматурги маскировать современные события в своих хрониках не стали. В октябре, например, в анонимной пьесе, ныне утраченной (играли ее в общедоступном театре или она предназначалась только для частного просмотра – не известно), была представлена сцена, где англичане празднуют победу над испанцами в Нидерландах. Актеров нарочно загримировали так, чтобы они походили на современных полководцев – им наклеили характерные бороды и одели в камзолы и чулки: «Сегодня посмотрел пьесу „Разгром при Тернхолде“, – пишет Роланд Уайт, – и видел на сцене сэра Роберта Сидни и сэра Фрэнсиса Уэра, которые яростно убивают испанцев и одерживают над ними победу».
Шекспиру потребовалось время, чтобы обдумать и переосмыслить в своем творчестве текущие события. В конце 1599-го он уже знал, чем начать свою новую трагедию. Замок Эльсинор. Ночь. Караульные несут свою службу. Появляются офицеры. Марцелл, один из них, просит объяснить ему, зачем нужен столь строгий караул и чем объясним ажиотаж вокруг войны:
Не сесть ли нам? И пусть, кто знает, скажет,
К чему вот эти строгие дозоры
Всеночно трудят подданных страны?
К чему литье всех этих медных пушек
И эта скупка боевых припасов,
Вербовка плотников, чей тяжкий труд
Не различает праздников от будней?
В чем тайный смысл такой горячей спешки,
Что стала ночь сотрудницею дня?
Кто объяснит мне?
( «Гамлет», I, 1; перевод М. Лозинского )
Порвалась связь времен, народ поник духом, угрозы множились, в стране царила смута. Услышав в первой сцене слова Марцелла, зрители «Гамлета», должно быть, вздрогнули от ужаса – им вспомнился август 1599-го. Однако об этом больше ни слова – не будем опережать события.
Глава 10
Страстный пилигрим

Мы не знаем, кто рассказал Шекспиру, что в книжном магазине Уильяма Лика в приходе святого Павла (а возможно, и не только там) можно купить новый поэтический сборник – «Страстный пилигрим». Наконец-то, весной 1599-го, сонеты, известные лишь близкому кругу шекспировских почитателей и друзей, вышли в свет. Новость эта, однако, неприятно удивила поэта, и вот почему. Хотя Шекспир и не отрицал, что часть сонетов «Страстного пилигрима» написана им, к этому изданию был совершенно непричастен. При том, что на титульном листе значилось его имя (еще одно свидетельство его растущей популярности), за эту книгу он не получил ни цента.
Шекспиру, особенно в начале его творческого пути, было отнюдь не все равно, кто и как издает его тексты. В 1593-м он внимательно следил за публикацией «Венеры и Адониса», а затем, год спустя, – и «Обесчещенной Лукреции»; обе поэмы были изданы Ричардом Филдом, давним другом Шекспира. Затем Шекспир замолчал – за пять лет ни единой публикации. Он начал писать сонеты около 1590 года, за несколько лет до поэм; работа растянулась на годы. Шекспир показывал свои сонеты лишь избранным; он не разрешал публиковать их ни в одном сборнике, как печатном, так и рукописном. Возможно, он сразу предупредил друзей: работа над сонетами не закончена; и действительно, за исключением «Страстного пилигрима», ни один из 154 сонетов не увидел свет до официальной публикации сборника в 1609 году.
Сколь бы ни был Шекспир огорчен появлением пиратского издания, ему пришлось смириться. В елизаветинскую эпоху авторское право принадлежало издателю, а не автору. Хотя «Страстный пилигрим» и был издан Уильямом Джаггардом, в истории он останется прежде всего как один из публикаторов Великого Фолио. Однако Великое Фолио появится лишь четверть века спустя (1623). В 1599-м, еще в начале своей карьеры, Джаггард был страстно увлечен творчеством Шекспира; Шекспир же, по всей вероятности, о таком человеке, как Джаггард, даже не слышал. Неизвестно, как в руки издателя-пирата попали два шекспировских сонета: «Когда клянешься мне, что вся ты сплошь…» и «На радость и печаль, по воле рока…»[8]. Без всяких колебаний Джаггард присовокупил к ним еще три – из «Бесплодных усилий любви», шекспировской комедии, не так давно опубликованной. Все они были предназначены для героев его пьесы – поэтов, мягко говоря, весьма второсортных.
Пяти стихотворений Шекспира на сборник явно не хватало; по крайней мере, на хорошую прибыль рассчитывать не приходилось, ведь по тогдашним законам стоимость книги определялась ее листажом (не больше пенса за две страницы текста). Поэтому Джаггард визуально увеличил объем, начав каждое стихотворение с новой страницы; оборотная сторона листа при этом оставалась пустой. Кроме того, он добавил еще пятнадцать текстов разной длины (в елизаветинские времена определение сонета было весьма расплывчатым). Четыре из них – о страсти Венеры и Адониса. Джаггард полагал, и не без оснований, что эти тексты вполне сойдут за шекспировские. А открыть сборник он все же решил подлинными стихами Шекспира, чтобы, пролистав начальные страницы, покупатель уже не сомневался в качестве товара.
Джаггард решил не продавать сборник в своей книжной лавке неподалеку от Королевской биржи, отдав его Уильяму Лику. Ему так хотелось убедить читателя в подлинности своей продукции, что он был готов пожертвовать собственной выгодой. Лик же недавно купил права на пятое переиздание шекспировского бестселлера – поэмы «Венера и Адонис», поэтому неискушенный покупатель вполне мог подумать: именно Лик – обладатель эксклюзивного права на издание любовной лирики Шекспира. Расчеты Джаггарда оправдались. «Страстный пилигрим» был распродан, а затем в том же году переиздан; более того, благодаря этому сборнику взлетели продажи и «Венеры и Адониса»: за год (небывалое событие!) поэму переиздали дважды. «Страстный пилигрим» снискал такую славу, что его буквально зачитали до дыр – до нас дошли лишь один экземпляр первого тиража, и тот не полностью (его обнаружили только в 1920-х), и два экземпляра второго.
Заплатив всего несколько шиллингов, лондонцы наконец прочитали запретные тексты, ранее известные лишь в избранном кругу. Теперь им было, о чем посплетничать, – в сборнике содержалось немало намеков на личную жизнь поэта. Кто они, «мужчина светлокудрый, светлоокий» и «женщина, в чьих взорах мрак ночной», с которыми так близок Шекспир? Если бы о книге заговорили за пределами Лондона, по возвращении в Стратфорд Шекспира ожидал бы весьма неприятный разговор с женой.
Вполне возможно, Шекспир сам пришел в лавку Лика, чтобы, убедившись в подделке, выяснить, кто за этим стоит. Он часто бывал в книжных магазинах Лондона; издатели хорошо знали его, знаменитого лондонского драматурга. Вряд ли он когда-либо покупал или одалживал книги для работы над пьесами. Помимо двух основных книг, которые, скорее всего, хранились у него в библиотеке («Хроники» Холиншеда и «Жизнеописания» Плутарха), Шекспир использовал в работе сотни других текстов. Утолить жажду Шекспира к чтению, охватив весь круг его интересов, пожалуй, было не под силу ни одной из библиотек его покровителей (если, конечно, они разрешали ему пользоваться своими книгами). А может быть, рабочей библиотекой для Шекспира стали книжные магазины Лондона, где он засиживался часами, листая книгу за книгой (в те времена, в отличие от наших, каждый книготорговец имел строго определенный ассортимент); возможно, он делал пометы в своем дневнике или же просто запоминал то, что ему требовалось, – Шекспира, как и любого актера, природа наделила хорошей памятью. В поисках материала для новых пьес драматург постоянно просматривал новинки книжного рынка – вряд ли в Лондоне нашелся бы человек, лучше него знакомый с положением дел в современной литературе.
О знакомствах Шекспира в книжном мире сохранилась забавная история. Примерно тогда же, году в 1599-м, Джордж Бак, еще один эрудит той поры, член Парламента, писатель и страстный театрал, спросил Шекспира, не знает ли тот, кому принадлежит анонимная пьеса, которую он недавно купил в книжном магазине. Шекспир, как и любой другой человек театра, понимал: после Эдмунда Тилни новым распорядителем празднеств вскоре назначат Джорджа Бака, – и потому, не раздумывая, согласился помочь.
Бак, к тому же, был одним из первых коллекционеров – он собирал современные пьесы. И хотя его коллекция целиком не сохранилась, букинистам удалось обнаружить целых шестнадцать книг с пометами самого Бака – эти издания теперь хранятся в архивах по всему миру. Сколько еще книг Бака разошлось по миру, – этого не знает никто. Из записей Бака нам известно, что в 1599-м он купил по меньшей мере четыре старые пьесы – «Альфонс, король Арагонский», «Эдуард I», «Джордж Грин, пастух из Уэйкфилда», «Клемон и Клэмидс». Все они вышли анонимно, однако Бак узнал: автор «Альфонса» – Роберт Грин; «Клемона и Клэмидса» и «Эдуарда I» – Джордж Пиль. Кто же написал пьесу о Джордже Грине, выяснить не удалось. Возможно, Шекспир прочитал их как раз в 1599-м: для «Как вам это понравится», ему, вероятно, пригодился образ Робин Гуда из «Джорджа Грина» и «Эдуарда I»; также, возможно, имя старого пастуха Корина заимствовано из пьесы «Клемон и Клэмидс». В 1599-м Шекспир и Бак скорее всего не раз встречались в книжных магазинах Лондона.
Купив в книжной лавке Катберта Берби (неподалеку от Королевской биржи) пьесу «Джордж Грин…», Бак решил выяснить, кто же ее автор, и потому, возможно, обратился к Шекспиру. Разговор состоялся, вероятно, во время их очередной встречи в одной из книжных лавок, или же у Королевской биржи, а может быть, и после одного из спектаклей в Куртине или Глобусе или же при дворе. Шекспир припомнил: автор пьесы – священник, однако кто именно, сказать затруднился. Вполне понятно, почему – эта пьеса шла в театре лет десять тому назад. Однако кое-что необычное Шекспир все-таки припомнил – роль Роберта Грина исполнял сам автор. В благодарность за эти слова Бак записал на титульном листе книги: «Автор пьесы… священник, который играл в ней роль пастуха. Записано со слов У. Шекспира». Фамилию драматурга он так и не узнал. Этот эпизод свидетельствует не только о том, какое значение в те времена приобретает публикация пьес и их коллекционирование, но и о том, что впервые остро встает проблема авторства пьес – как раз тогда, когда об этом всерьез задумался и сам Шекспир.
Название, которое Джаггард дал сборнику, говорит о том, что он прекрасно знал вкусы поклонников Шекспира. Публикуя пиратские книги, Джаггард создал на книжном рынке новую нишу. «Страстный пилигрим» напоминает читателю о встрече Ромео и Джульетты на балу, – первом разговоре влюбленных, написанном в сонетной форме, и их первом поцелуе. Когда Ромео обращается к Джульетте заученными фразами из петраркистской поэзии, Джульетта неожиданно отвечает ему на языке сонета – прием абсолютно новый, так как, согласно канону, даме не пристало разговаривать с влюбленным в нее поэтом. Первые восемь строк сонета написаны в форме катрена; Ромео и Джульетта говорят по очереди, но первым начинает Ромео:
Когда рукою недостойной грубо
Я осквернил святой алтарь – прости.
Как два смиренных пилигрима, губы
Лобзаньем смогут след греха смести.
( I, 5; здесь и далее перевод Т. Щепкиной-Куперник )
На что Джульетта отвечает:
Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно
К своей руке: лишь благочестье в ней.
Есть руки у святых: их может, верно,
Коснуться пилигрим рукой своей.
Название сборника было явно рассчитано на тех, кому еще не наскучил сонетный стиль «Ромео и Джульетты». Поэты той эпохи подшучивали над молодыми людьми, державшими под подушкой томик «Венеры и Адониса», а также над теми, кто воровал у Шекспира любовные строки. Годом ранее Джон Марстон высмеял молодых поэтов, «с чьих губ … слетают лишь / Джульетты и Ромео строки». Эта избитая шутка упоминается также и в университетской пьесе «Возвращение с Парнаса (часть первая)», разыгранной в Кембридже в конце 1599-го. Один из героев предостерегает другого: «Скоро у нас повсюду будет один Шекспир – его поэтические строки звучат со сцены всех наших театров». Он нисколько не преувеличивает. Минутой позже второй герой выдаст любовные строки из «Ромео и Джульетты» за свои собственные. В третьем переиздании «Страстного пилигрима» 1612 года на титульной странице Джаггард укажет, что это сборник «любовных сонетов», заострив на этом внимание читателей.
Многие поклонники Шекспира, попавшись на удочку издателя, верили, что сборник действительно написан Шекспиром. Сомнения возникли лишь в XIX веке; тогда же стало известно, кем написана примерно половина сонетов сборника. Однако даже сейчас авторы десяти сонетов все еще под вопросом. До сих пор неясно и то, кому принадлежат четыре стихотворения про Венеру и Адониса. На самом деле, отличить не самый блистательный шекспировский сонет от приличного сонета его подражателей довольно сложно, хотя сегодняшние исследователи, заявившие о том, что Шекспир – автор таких стихотворений, как «Умру ли я» или «Траурная элегия», неохотно признают это. Даже многие известные шекспироведы XVIII и XIX вв. – Эдмонд Мэлоун, Льюис Теобальд, Фредерик Джеймс Фернивал, Александр Дайс, Йозеф Коллер, Эдуард Дауден и Джеймс Орчард Холливелл-Филлипс – полагали, что большая часть стихотворений «Страстного пилигрима» принадлежит Шекспиру. Предполагаю, за исключением узкого круга поэтов и поклонников Шекспира, лишь немногие и в елизаветинскую эпоху думали иначе.
Возможно, некоторым поэтам сборник Джаггарда даже польстил. Но только не Шекспиру – его больно задела эта публикация; теперь уж точно к нему навсегда приклеится ярлык слащавого лирика! Об этом мы знаем от драматурга Томаса Хейвуда, собрата Шекспира по перу (один из его текстов беспринципный Джаггард позднее выдал за шекспировский, чтобы привлечь еще больше внимания к третьему изданию «Страстного пилигрима»). Узнав об этом, Хейвуд тогда громко заявил: приписав его сонет Шекспиру, Джаггард «ранил его в самое сердце». Он также вспомнил, что Шекспир «был очень обижен на м-ра Джаггарда, которого лично не знал, но который так бесцеремонно с ним обошелся».
Сложно сказать, что именно ранило Шекспира. Может, увидев в «Страстном пилигриме» собственные стихи, он решил: кто-то из друзей предал его, сговорившись с Джаггардом? Пожалуй, неприятнее этого лишь публикация трех сонетов «Бесплодных усилий любви», явно вырванных из контекста, ведь для героев своей пьесы, тех еще рифмоплетов, Шекспир нарочно сочинил второсортные сонеты. Самое слабое стихотворение сборника – пятый сонет, написанный плохим александрийским стихом. Это понятно уже по первым восьми строкам:
Как клясться мне в любви? Я клятву преступил.
Ах, лишь одной красе мы верность соблюдаем.
Но, изменив себе, тебе я верен был.
Мой дух, сей дуб, тобой, как ветвь лозы, сгибаем.
В тебе наука вся. Твои глаза – родник,
Где можно почерпнуть все радости ученья.
Тот, кто познал тебя, познания достиг;
Тот мудр, чей ум сумел тебе воздать хваленья.
( IV, 2; перевод Ю. Корнеева )
Как сказал бы Полоний, «это слишком длинно» (а прочитай он третье стихотворение «Страстного пилигрима», также заимствованное из «Бесплодных усилий любви», то счел бы фразу «Обет – дыханье, а дыханье – пар» (перевод Ю. Корнеева) совершенно неудачной). Сонет «Как клясться мне в любви?» написан для молодого Бирона, дамского угодника, однако вслух его читает не сам Бирон, а отец Натаниэль, священник. Тем самым текст выглядит еще нелепее. Сонет в комедии оказывается в чужих руках «по ошибке», случайно «попав не по назначению», – сам Шекспир оказался в похожей ситуации, и ему это совсем не понравилось.
В отличие от подлинных шекспировских сонетов, построенных на виртуозной игре слов (например, первые два сонета «Страстного пилигрима»), в сонете Бирона использованы избитые образы петраркистской поэзии. Поэтому, читая пьесу, понимаешь: текст Бирона беспомощен, и единственное его достоинство – каллиграфический почерк автора. Шекспиру оставалось лишь догадываться, что хуже: критическая реакция читателей на откровенно неудачный сонет или же, наоборот, – их похвала банальностям и ожидание, что он продолжит писать в том же стиле.
Одно дело, когда Шекспиру приписывали тексты его подражателей, и совсем другое (и это гораздо неприятнее), – стихотворение известного поэта, которое, пожалуй, в чем-то лучше его собственных:
О, будь возлюбленной моей!
Среди холмов, долин, полей,
В горах скалистых мы вдвоем
С тобою счастие найдем.
Увидим вместе мы тогда,
Как пастухи пасут стада,
Как над рекой, где водопад,
Птиц песни звонкие звучат.
Из тысяч роз я постелю
Постель душистую твою,
Одену в чепчик из цветов
И в плащ из миртовых листков.
Плюш поясом твоим бы стал,
На пряжке бы зардел коралл.
Пленясь утехами полей,
О, будь возлюбленной моей!
( перевод В. Давиденковой-Голубевой )
Даже в сокращенном варианте это один из лучших образцов английской пасторальной поэзии. Его послание столь искренно, что никого не оставит равнодушным. Поэты, такие как сэр Уолтер Рэли, Джон Донн и Генри Петоу, каждый по-своему отозвались на него. Теперь мы знаем: это текст Кристофера Марло; автор же самого известного ответа пастушки пастуху, скорее всего, Уолтер Рэли – отрывок из его стихотворения также вошел в сборник «Страстный пилигрим»:
Когда б любовь была юна
И клятва пастушков верна,
Тогда среди холмов, полей
Я милой стала бы твоей.
( перевод В. Давиденковой-Голубевой )
Однако ни один из этих текстов ни разу не публиковался до сборника Джаггарда и никто не знал, из-под чьего пера они вышли. Год спустя в сборнике «Английский Геликон» сонет «О, будь возлюбленной моей!» напечатали за подписью Марло, а ответ возлюбленной – снова анонимно (автор его неизвестен – так, по крайней мере, там утверждалось). Однако большинство читателей «Страстного пилигрима» поверили, что стихотворение написано Шекспиром, и вплоть до XIX века его авторство сомнению не подвергалось.
Однако Шекспир-то прекрасно понимал, кому оно принадлежит! Знал он и о том, что Марло вдоволь посмеялся над своим творением в «Мальтийском еврее», трагедии, тогда необычайно популярной. В этой пьесе невинная пастораль звучит из уст Итамора, невольника и злодея, в его разговоре с куртизанкой Белламирой:
Там есть сады, там заросли фиалок,
И не осока – сахарный тростник.
Ты в этих рощах будешь жить со мной,
И нам любовь сплетет венок живой.
( IV, 2; перевод В. Рождественского )
Марло не только сочинил прекрасную пастораль, но и показал, как легко его хрупкое и нежное стихотворение поддается переписыванию.
Шекспир и сам не преминул воспользоваться этим текстом. Незначительно изменив, Шекспир использовал его в комедии «Виндзорские насмешницы», где эти куплеты произносит – с чудовищным акцентом – пастор из Уэльса Хью Эванс:








