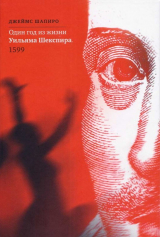
Текст книги "Один год из жизни Уильяма Шекспира. 1599"
Автор книги: Джеймс Шапиро
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)
Шекспир закончил работу над первой редакцией «Гамлета» осенью 1599-го, но не торопился представить трагедию на суд пайщиков и актеров театра. Перечитав пьесу после небольшого перерыва, он решил ее переработать, после чего переписал набело. Вряд ли он заранее знал, что потребуется внести столько различных изменений, – как стилистически важных, так и незначительных (в общей сложности, их около тысячи). Новая версия все еще не подходила для постановки – Шекспир сократил трагедию лишь на 230 строк, добавив при этом 90 новых, и время спектакля уменьшилось таким образом всего на 10 минут. Работа над второй редакцией шла своим чередом, без всякой спешки. Шекспир показал текст актерам только зимой 1600 года, и даже тогда для постановки в театре трагедия все еще нуждалась в существенных сокращениях.
Поскольку обе редакции «Гамлета» дошли до наших дней, мы можем проследить за тем, как Шекспир правил текст, разумеется, принимая во внимание, что изменения, в том числе, возникали из-за ошибок наборщиков, цензуры и т. п. Надо сказать, Шекспир отредактировал пьесу крайне тщательно – утверждение его современников о том, что он не поставил в своих рукописях ни одной кляксы, явная выдумка.
К примеру, в реплике Гамлета: «Что ему Гекуба, / Что он ей…» драматург заменил местоимение именем собственным, чтобы придать строке большую звучность: «Что ему Гекуба, / Что он Гекубе…» (II, 2). Шекспир также неустанно вычеркивал устаревшие слова, используя вместо них более современные, и упрощал те, смысл которых был неясен: описывая смерть Офелии, во второй редакции Гертруда упоминает «snatches of old tunes» (обрывки старых песен), тогда как в первой – вместо «tunes» использовано старинное существительное «lauds»; в пятом акте, когда священник рассказывает о церемонии прощания с Офелией, в первой редакции использовано выражение «virgin crants», а во второй – «virgin rites» (V, 1; дословно – проводы девы). Таких примеров очень много.
Самые, казалось бы, незначительные замены, тем не менее, существенны. Важнейшее изменение, о котором так много писали исследователи, – правка одного-единственного слова в первой строке первого монолога Гамлета. В первой редакции эта строка звучит так: «О that this too too sallied flesh would melt» («О, если б этот плотный сгусток мяса / Растаял»). Во второй редакции вместо «sallied» использовано слово «solid» (I, 2). Sallied (sullied) в первой версии дословно означает «мясо, извалянное в грязи» – Гамлет имеет в виду, что он очернен (испачкан) неверностью матери. Во второй редакции акцент не на неверности королевы, а на желании Гамлета раствориться в мире, стать ничем, ведь он бездействует.
Даже самые крошечные изменения в репликах главного героя меняют характер Гамлета, усложняя его. Подкарауливая Клавдия во время молитвы, в первой редакции принц говорит: «Now I must do it but now he is praying» (III, 3) («Сейчас я должен сделать это, но сейчас он молится»[19]), во второй редакции вместо «but» (но) использовано «pat» (как раз): «Сейчас я как раз должен сделать это – он молится»). Отличие весьма существенное. В первом варианте Гамлет сомневается – он не может убить Клавдия во время молитвы. Во второй редакции Гамлет может действовать прямо сейчас, так как он застал своего обидчика врасплох; он останавливает себя потому, что в таком случае душа Клавдия, получив прощение грехов, отправится на небеса.
Еще более показательный пример – в гневном обращении Гамлета к Офелии. В первой редакции Гамлет говорит:
I have heard of your paintings too, well enough; God has given you one face, and you make yourselves another: you jig and amble, and you lisp, and nickname God’s creatures, and make wantonness ignorance. ( III, 1 )
Слышал я и про ваше малевание, вполне достаточно; бог дал вам одно лицо, а вы себе делаете другое; вы приплясываете, вы припрыгиваете, и щебечете, и даете прозвища Божьим созданиям, и хотите, чтоб ваше беспутство принимали за неведение. ( перевод М. Лозинского )
Во второй редакции «paintings» заменено на prattlings (болтовня), «face» – на «расе», «make wantonness ignorance» – на «make your wantonness your ignorance». Таким образом, Гамлет указывает Офелии на иные недостатки, чем в первой редакции, и речь теперь идет не о том, как она выглядит, а о том, как она говорит и двигается.
Перечитывая «Гамлета», Шекспир также понял: не всё в его тексте понятно зрителю и потому внес ряд сокращений. Во второй редакции, к примеру, в конце первой сцены четвертого акта Клавдий произносит такие слова:
Come, Gertrude, we’ll call up our wisest friends;
And let them know, both what we mean to do,
And what’s untimely done. O, come away!
My soul is full of discord and dismay.
Идем, Гертруда, созовем друзей;
Расскажем им и то, что мы решили,
И что случилось…
Однако в более ранней версии Клавдий говорил иначе, более сложным метафорическим языком:
Идем, Гертруда, созовем друзей;
Расскажем им и то, что мы решили,
И что случилось; так, быть может, сплетня,
Чей шепот неуклонно мчит сквозь мир,
Как пушка в цель, свой ядовитый выстрел,
Минует наше имя и пронзит
Неуязвимый воздух. О, иди!
Страх и смятенье у меня в груди.
Ряд изменений позволяет предположить: как и в случае «Юлия Цезаря» и «Как вам это понравится», драматург поначалу до конца не понимал, что случится дальше с его героями и куда их приведет сюжет пьесы.
Правка, внесенная Шекспиром в первые три акта, довольно проста и понятна, чего не скажешь о конце четвертого акта и особенно о последнем монологе Гамлета («Как все кругом меня изобличает / И вялую мою торопит месть!», IV, 4). Если в предшествующих монологах герой не может найти ответы на мучительные вопросы, но все же принимает решение о том, как ему действовать дальше, то в монологе четвертого акта все иначе.
Перед отплытием в Англию Гамлету встречается Фортинбрас, ведущий свою армию на Польшу, чтобы «забрать клочок земли, / Который только и богат названьем» (IV, 4). За исключением финала трагедии это единственный раз, когда мы видим Фортинбраса, хотя время от времени о нем упоминают другие персонажи. В первом акте Горацио говорит:
…незрелой
Кипя отвагой, младший Фортинбрас
Набрал себе с норвежских побережий
Ватагу беззаконных удальцов
За корм и харч для некоего дела,
Где нужен зуб… ( I, 1 )
Опасаясь вторжения Фортинбраса в Данию, датчане готовятся к обороне и усиливают стражу – именно поэтому в начале пьесы мы видим Бернардо и Франсиско, несущих дозор. Позднее мы узнаем, что король Норвегии, дядя Фортинбраса, ныне немощный, по просьбе Клавдия «послал пресечь наборы / Племянника, которые считал / Приготовлениями против Польши» (II, 2). Фортинбрас – полная противоположность Гамлета; если бы не дядя, он давно бы отомстил за смерть своего отца.
Случайная встреча с Фортинбрасом – поворотный момент пьесы и, возможно, самый мрачный ее эпизод. Именно тогда Гамлет в полной мере осознает тщету и бессмысленность героических деяний. Глядя на войско Фортинбраса, Гамлет так оценивает его военный поход:
Две тысячи людей
И двадцать тысяч золотых не могут
Уладить спор об этом пустяке!
Вот он, гнойник довольства и покоя:
Прорвавшись внутрь, он не дает понять,
Откуда смерть. ( IV, 4 )
Эта мысль восходит к «Хроникам» Холиншеда, которые Шекспир хорошо знал. Бунт, пишет Холиншед, – «нарыв на теле государства; прорвись он, государство вряд ли оправится». Лекарства просто нет.
В четвертом акте Гамлет вновь во власти прежних дум. До этого он размышлял о звериной сущности людей, их вероломстве: Пирр космат и схож с «гирканским зверем» (II, 2), Клавдий – «блудный зверь, кровосмеситель» (I, 5), как называет его Призрак, мать Гамлета, скучала по мужу меньше, чем «зверь, лишенный разуменья» (I, 2). Теперь же Гамлет резко меняет свою точку зрения. «Раздумывать чрезмерно об исходе» столь же вероломно, что и действовать импульсивно. «Что человек, когда он занят только / Сном и едой?» – вопрошает Гамлет. И тут же сам себе отвечает: «Животное, не больше» (IV, 4). Он никак не может отрешиться от мысли о своей животной сути, которая, как теперь ему кажется, коренится в его трусоватой привычке к бесконечным размышлениям:
То ли это
Забвенье скотское, иль жалкий навык
Раздумывать чрезмерно об исходе, —
Мысль, где на долю мудрости всегда
Три доли трусости, – я сам не знаю,
Зачем живу, твердя: «Так надо сделать»,
Раз есть причина, воля, мощь и средства,
Чтоб это сделать. ( IV, 4 )
Гамлет презрительно отвергает даже мысль о необдуманных действиях, и этим завоевывает доверие зрителя. Но выхода все равно нет – действуй он решительно или бездействуй, это, как он полагает, ничего не изменит. Встреча с Фортинбрасом лишь укрепляет Гамлета в мысли о суетности и тщете мира:
…Вся земля пример;
Вот это войско, тяжкая громада,
Ведомая изящным, нежным принцем,
Чей дух, объятый дивным честолюбьем,
Смеется над невидимым исходом,
Обрекши то, что смертно и неверно,
Всему, что могут счастье, смерть, опасность,
Так, за скорлупку. ( IV, 4 )
Гамлет явно иронизирует. Фортинбрас действует как должно, но при этом он очень жесток. Гамлет называет норвежца «изящным, нежным принцем», чего совсем не скажешь о грубом и беспощадном норвежце. Фортинбрас честолюбив и готов идти в бой, он совсем не боится того, что случится, и потому готов пожертвовать жизнью своих солдат лишь «за скорлупку». Яичная скорлупа символизирует здесь также обесцененную корону (этот образ будет развит в «Короле Лире»).
Слова Гамлета не раз вызывали у критиков явное непонимание. Некоторые из них не верили сказанному, полагая, что реплику Гамлета
Rightly to be great
Is not to stir without great argument,
But greatly to find quarrel in a straw
When honour’s at the stake.
…Истинно велик,
Кто не встревожен малою причиной,
Но вступит в ярый спор из-за былинки,
Когда задета честь. ( IV, 4 )
нужно воспринимать как призыв к действию. Большого смысла я в этом не вижу. Гамлет здесь утверждает одно: величие не в том, чтобы бездействовать, пока не найдется важный повод, а в том, чтобы вступить в поединок тогда, когда тебе нанесено оскорбление.
Не очень веский довод для рыцарства, во времена Шекспира, уже доживавшего свой век, особенно в свете последних политических событий. После поражения Эссекса в Ирландии, елизаветинцы прекрасно понимали, что ждет «тяжкую громаду». По мысли Гамлета, жажда славы и почести для Фортинбраса сильнее всего на свете, и потому он готов пожертвовать ради них своими людьми:
Я, чей отец убит, чья мать в позоре,
Чей разум и чья кровь возмущены,
Стою и сплю, взирая со стыдом,
Как смерть вот-вот поглотит двадцать тысяч,
Что ради прихоти и вздорной славы
Идут в могилу, как в постель, сражаться
За место, где не развернуться всем.
Где даже негде схоронить убитых? ( IV, 4 )
Это очень мрачный и жестокий монолог. Когда зритель видит войско Фортинбраса, идущее через Данию на Польшу, в его памяти всплывает другой образ – войско отца Гамлета, который тридцать лет назад отправился в тот же поход, что и юный норвежец. Был ли он менее жесток с поляками, чем Фортинбрас? Об этих ли «грехах… земной природы» (I, 5) говорит Призрак в своем монологе? Будут ли вспоминать о кампании Фортинбраса, столь дорого ему обошедшейся, как о героическом деянии?
Монолог «Как все кругом меня изобличает» можно назвать венцом мрачных размышлений Гамлета, особенно если предположить, что развязка трагедии заранее предопределена. Гамлет знает, что должен убить Клавдия, но даже после мучительных раздумий не может оправдать для себя этот поступок, так как мотивы, которыми руководствуется традиционный герой-мститель, его не убеждают. Работая над трагедией, Шекспир вскоре понял, что медлительность Гамлета идет вразрез с традиционным сюжетом трагедии мести. Поэтому он долго думал над развязкой, пытаясь найти гораздо более убедительную мотивировку, чем «случайные кары» и «негаданные убийства», упомянутые Горацио в финале пьесы (V, 2). И все же для обреченного Гамлета, способного лишь на кровавые мысли, но не на деяния, – отомстить в конце концов означает признать, что он ничем не лучше Фортинбраса.
В последней сцене, убив Клавдия и будучи смертельно ранен, Гамлет вдруг слышит «бранный шум» (V, 2) – Фортинбрас возвращается из похода на Польшу со своей армией. Умирая, Гамлет предрекает корону Фортинбрасу: «Избрание падет на Фортинбраса; / Мой голос умирающий – ему» (V, 2). Чем объяснимы последние слова Гамлета? Либо они сказаны с иронией, либо это слова человека, осознающего, что ничто не вечно под луной, ведь когда-то прошло время даже таких великих личностей, как Александр Македонский или Цезарь. Появление Фортинбраса с армией, способной творить беспредел, говорит о том, что власть перейдет к нему, – теперь Дания для норвежца – легкая добыча. У Гамлета нет иллюзий о судьбе своей страны – ею будет править государь, легко пожертвовавший жизнью своих людей ради достижения корыстных целей. Пьеса, в начале которой датчане спешно готовятся к обороне, чтобы противостоять войску Фортинбраса, заканчивается полным ему подчинением – королевская семья мертва. «Вот он, гнойник довольства и покоя», разорвавшийся изнутри, о чем предупреждал нас в четвертом акте Гамлет.
Позволив трагедии развиваться так, как она сама того пожелает, Шекспир создал истинно трагического героя, но из-за монологов Гамлета развязка выбивалась бы из общей канвы, слишком отличаясь от традиционного финала трагедий мести, где герой наконец обретает мир с самим собой, исполнив задуманное. Шекспиру предстояло выбрать между цельностью характера героя и цельностью сюжета – он предпочел последнее. Еще раз перечитав текст, Шекспир решил отказаться не только от длинного монолога Гамлета, но и от разговора Гамлета с капитаном Фортинбраса (IV, 4). Остался лишь небольшой фрагмент из девяти строк – разговор норвежского принца с капитаном. Во второй редакции в пятом действии Гамлет ничего не знает о прибытии Фортинбраса и не высказывается язвительно в его адрес; поэтому строки, в которых Гамлет отдает свой голос именно ему, звучат гораздо более оптимистично. Они воспринимаются не столь противоречиво и потому, что во второй редакции «беззаконные удальцы» («lawless resolutes») армии Фортинбраса становятся «безземельными» («landless resolutes», I, 1) – то есть уподобляются тем средним сыновьям и наемным воинам, что пошли за Эссексом искать свое счастье в Ирландии.
Отказавшись во второй редакции трагедии от монолога Гамлета в четвертой сцене четвертого акта, Шекспир сместил центр тяжести пьесы. Теперь наибольшее значение приобретает монолог, который герой произносит незадолго до встречи с Фортинбрасом.
В третьей сцене четвертого акта Клавдий, спасая себя, посылает Гамлета на смерть:
Британец, сделай это;
Как огневица, он мне гложет кровь;
Будь мне врачом; пока не свершено,
Мне радости не ведать все равно.
Так как Шекспир убрал монолог Гамлета из следующей, четвертой, сцены четвертого акта, Клавдий кажется нам гораздо более страшным соперником, чем Фортинбрас, – он тот, чье слово закон, и так будет вплоть до пятого акта. В конце пьесы Шекспир наконец выведет на передний план внешний конфликт, показав реальную борьбу между соперниками, чего так ждала его публика.
Во второй редакции противник Гамлета не Фортинбрас, роль которого Шекспир изменил, сделав менее значимой, а Лаэрт. Он гораздо более достойный соперник для датского принца, а в чем-то и его своеобразный двойник. Во второй редакции Гамлет говорит Горацио:
Но я весьма жалею, друг Горацио,
Что я с Лаэртом позабыл себя;
В моей судьбе я вижу отраженье
Его судьбы… ( V, 2 )
Таким образом Гамлет ищет примирения с Лаэртом (в первой редакции текста он делает это, поддавшись на уговоры матери).
Шекспиру, однако, все еще предстояло объяснить, почему Гамлет убивает Клавдия. Поэтому драматург добавляет несколько важных строк к реплике Гамлета во второй сцене пятого акта. В первой редакции Гамлет просто перечисляет прегрешения Клавдия:
Не долг ли мой – тому, кто погубил
Честь матери моей и жизнь отца,
Стал меж избраньем и моей надеждой,
С таким коварством удочку закинул
Мне самому, – не правое ли дело
Воздать ему вот этою рукой? ( V, 2 )
Его размышления на этих словах прерываются, так как на сцене появляется Озрик. Понятно, почему Шекспир не стал продолжать речь Гамлета – после монолога «Как все кругом меня изобличает» вопросы Гамлета кажутся сугубо риторическими, а интонация – граничит с жалостью к себе самому. Может быть, сделать то, что должно, – это и «правое дело», но в мире, где все так относительно, разве можно что-то изменить? В ходе правки первой редакции Шекспир решил чуть отодвинуть выход Озрика и расширить монолог Гамлета на две строки, добавив новую мысль:
И не проклятье ль – этому червю [canker]
Давать кормиться нашею природой?
Эта реплика перекликается с репликой Клавдия о том, что, избавившись от Гамлета, он излечится. Однако очевидно: король и есть тот самый гнойник, что разрывает Данию изнутри. Чтобы исцелить государство, Гамлет должен избавиться от нароста, ибо этого требует божественная справедливость, а иначе нет ему спасения. Гамлет решает убить короля, чтобы освободиться от греха, а не потому, что так ему велит долг. Герой понимает: теперь он может «ополчась на море смут, сразить их / Противоборством», так как ничего не боится (вспомним монолог Гамлета «Быть или не быть», где Гамлета гнетет страх «чего-то после смерти», III, 1). Во второй редакции Гамлет больше не потерян, он не думает о тщете мира и потому наконец способен совершить убийство. Перемена во всех смыслах разительная: кажется, Шекспир наконец нашел скрытую пружину текста, которая изменила ход развития сюжета. Другие строки – «…божество / Намерения наши довершает» (V, 2) и «нас не страшат предвестья, и в гибели воробья есть особый промысел» (V, 2) теперь обретают смысл, подкрепляя довод о том, что спасение возможно только благодаря мести. Гамлет твердо намерен убить Клавдия, как он и хотел однажды сделать до этого, вспомним его монолог из третьего акта:
Назад, мой меч, узнай страшней обхват;
Когда он будет пьян, или во гневе,
Иль в кровосмесных наслажденьях ложа;
В кощунстве, за игрой, за чем-нибудь,
В чем нет добра[20]. ( III, 3 )
Вплоть до самого конца пьесы в обеих редакциях главный герой задумчив и меланхоличен. Лишь в самом финале два Гамлета расходятся, но оба образа по-своему цельны и закончены.
Шекспиру также пришлось изменить слова Гамлета, которые герой произносит перед дуэлью с Лаэртом. В первой редакции реплика Гамлета словно подводит итог тому, о чем он размышлял в монологе «Быть или не быть», говоря о бездействии: «Если теперь, так, значит, не потом; если не потом, так, значит, теперь; если не теперь, то все равно когда-нибудь; готовность – это все. Раз то, с чем мы расстаемся, принадлежит не нам, так не все ли равно – расстаться рано? Пусть будет» (V, 2). Гамлет говорит: нам неизвестно, что случится дальше, а потому не стоит ни о чем жалеть, ибо нельзя сожалеть о том, чего не знаешь. Сэмюэл Джонсон так отозвался об этих философских словах Гамлета, перефразировав их: «Отказываясь от чего-то, человек не знает, как могла бы повернуться его жизнь, последуй он этим путем, и потому незачем сожалеть о той жизни, что ты оставил».
Во второй редакции Шекспир изменил последнее предложение, сделав его менее удручающим. Наконец Гамлет находит ответ на вопрос о страхе загробной жизни: «Готовность – это все. Раз то, с чем мы расстаемся, принадлежит не нам, так что же это значит – расстаться своевременно?» (V, 2). Теперь Гамлет гораздо более решителен. Шекспир также вычеркивает и философскую фразу Гамлета «Пусть будет». И хотя Гамлет во второй редакции также утверждает, что смерть неизбежна, и потому неважно, умрет человек молодым или в старости, акцент смещен – от невозможности узнать будущее до незначительности обладания им, поскольку мы ни над чем не властны. Сэмюэл Джонсон пишет: «Гамлет мало думает о том, что оставляет позади не потому, что он не сможет взять это с собой, а потому, что его занимают другие, вечные вопросы бытия». Джонсону ближе Гамлет из первой редакции, философ, хладнокровно смотрящий на мрачный мир, чем новый Гамлет, в сознании которого месть связана со спасением и отречением от вещественности мира.
Эти сокращения дорого обошлись Шекспиру (начиная с XVIII века редакторы начали компилировать текст пьесы, с большой неохотой расставаясь со строками, вычеркнутыми драматургом из первой редакции). Причина, по которой Гамлет должен совершить священный акт насилия (не дать червю «кормиться нашею природой»), перекликается с тем, почему заговорщики в «Юлии Цезаре» хотят убить Цезаря: «Идя на это дело / Должна вести не месть, а справедливость» (II, 1), – и – еще шире – с мыслью о том, что с точки зрения божественной справедливости убийство тирана оправдано. Но в «Юлии Цезаре» Шекспир также показал и обратное: несмотря на это, в реальном мире, полном хаоса и кровопролития, происходит совершенно иное.
В первой редакции трагедии Горацио, объясняя появление Призрака, проводил параллель между нынешними событиями и событиями древнего Рима. В его монологе есть такие строки:
В дни перед тем, как пал могучий Юлий,
Покинув гробы, в саванах, вдоль улиц
Визжали и гнусили мертвецы. ( I, 1 )
Кассий в «Юлии Цезаре» (спектакль все еще был свеж в памяти зрителей Глобуса) считал подобные знаки судьбы «знаменьем предупрежденья / О бедствии всеобщем» (I, 3). Одно дело, утверждать, что Гамлет не получит спасения на небесах, если не убьет Клавдия, другое – учитывать все политические последствия такого поступка, ведь убийство плохого правителя, хотя и оправданное, ничего не решает. Поэтому Шекспир, вернувшись к данной сцене, решил сократить и монолог Горацио. Все эти изменения помогли драматургу переиначить образ мысли главного героя, но самый важный вопрос так и не был решен – чем же оправдать убийство плохого правителя? Ведь когда Гамлет наконец убивает Клавдия, все начинают кричать: «Измена!» Из шекспировских пьес – от «Генриха VI» до «Юлия Цезаря» – становится понятно, что, освободившись от нарыва, государство все равно не может исцелиться, потому что вместо одного тирана приходит другой, как Фортинбрас в «Гамлете».
Даже после правки вторую редакцию все равно нужно было еще сократить для постановки – не меньше, чем на триста строк. Неизвестно, сделал ли это сам Шекспир. Так или иначе, постановочная версия «Гамлета» имела небывалый успех. «Гамлет» потряс не только публику, но и литературный мир Лондона – пьесу растащили на цитаты, начали воровать из нее строки, а также подражать Шекспиру. В первые два года спектакль пользовался таким спросом, что труппа лорда-камергера даже приняла решение о гастрольном турне; к началу 1603 года «Гамлета» уже видела вся Англия. Возможно, в Оксфорде и Кембридже публика смотрела спектакль не по одному разу, так как два разных гастрольных маршрута проходили как раз через эти города. Для выездного спектакля текст сократили еще больше – к сожалению, этот вариант до нас не дошел (сценических версий было две, и обе ныне утрачены).
Литературоведам удалось детально изучить текстологию «Гамлета», потому что в 1603 году несколько актеров труппы, игравших в гастрольных спектаклях, в том числе и приглашенный на роль Марцелла актер (его строки воспроизведены максимально полно), записали по памяти гастрольную версию (2200 строк) и продали пьесу лондонским издателям. (Таким образом за три года появилось пять разных версий «Гамлета», каждая из которых короче предыдущей.) В 1603 году в книжных магазинах Лондона начали продавать пиратскую версию трагедии – частично она напоминала сценическую, но порядок сцен был неверный, а у некоторых героев появились другие имена, возможно, взятые из старого, дошекспировского «Гамлета» (Полоний стал Корамбисом, а Рейнальдо – Монтано). Один из выразительных примеров – начало самого известного монолога «Гамлета». Знакомые публике строки
Быть или не быть – таков вопрос;
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством? Умереть, уснуть —
И только; и сказать, что сном кончаешь
Тоску и тысячу природных мук,
Наследье плоти, – как такой развязки
Не жаждать? ( III, 1 )
были исковерканы и звучали совершенно иначе:
Так быть или не быть – о, вот, в чем суть;
Иль умереть, уснуть – и все? О нет!
Уснуть и видеть сны, подумать только,
Ведь в смертном сне проснемся к жизни вечной,
Представ перед божественным судьей
В неведомой стране, отколь покамест
Вернуться никому не удалось. На том суде
Избранник улыбнется, грешник будет проклят.
Однако же, на благодать надеясь,
Кто б выдержал глумленье и притворство мира,
В котором богатей, презревши бедняка, в отместку им же
проклят?
( перевод Е. Луценко )
Пиратская версия тем не менее имела такой невероятный успех, что книги буквально растащили по листку – первое кварто дошло до нас только в двух экземплярах, в каждом из них не хватает страниц (первый экземпляр был найден лишь в 1823 году).
В ответ на выход пиратского кварто, в конце 1604 года Слуги лорда-камергера решили познакомить читателя с выверенной версией «Гамлета». Им было, из чего выбирать, – суфлерский экземпляр, сокращенный сценический вариант для гастролей, а также первая и вторая редакция трагедии. Они выбрали первую редакцию. На титульном листе значилось: «Печатается впервые по подлинной и выверенной версии; пьеса дополнена вдвое против прежнего». Почему Слуги лорда-камергера остановились на этой редакции «Гамлета» – еще одна из загадок, связанных с этой трагедией. Возможно, труппа решила не издавать сценическую версию, чтобы другие театральные труппы не имели соблазна поставить ее на сцене. Как пайщик Глобуса Шекспир имел право голоса, хотя мы и не знаем, к какой из редакций он склонялся. Даже если он одобрил для печати самую раннюю версию, то не стал вносить в текст никаких изменений. Наборщикам и без того хватало работы – им пришлось полностью сверить первую сцену авторизованной версии со сценой из пиратского кварто, исправив все ошибки и неточности. Важно и другое. Когда в 1623 году речь зашла о публикации «Гамлета» в Первом Фолио, Хемингс и Конделл решили отказаться от традиционной практики и не перепечатывать пьесу по выверенной версии кварто. За основу вместо второго кварто 1604–1605 гг. они взяли редакцию, до того никогда не публиковавшуюся, – возможно, потому что она напоминала сценическую версию, им хорошо знакомую.
Такое решение не могло не сказаться на дальнейшей судьбе «Гамлета». В руках издателей оказались две выверенные, но совершенно разные версии, и многие из редакторов не смогли удержаться от искушения совместить их и создать наилучшую, по их мнению, редакцию трагедии. В результате, уже в XVIII веке появилось множество компилятивных редакций «Гамлета»: одни издатели полагались на текст второго кварто, другие – на текст Фолио, третьи – соединяли обе версии, добавляя при этом строки из первого кварто. Все эти произведения абсолютно не похожи друг на друга – вот почему Гамлет сценический и Гамлет книжный – два абсолютно разных персонажа. Соединив вместе фрагменты разных версий, издатели собрали новую версию «Гамлета», не имеющую отношения к настоящей пьесе Шекспира. «Гамлет», которого теперь изучают в университетах и ставят на сцене, нам не очень понятен, потому что, компилируя, издатели соединяли разные мотивировки вместе, а не отказывались от одних в пользу других. В результате Гамлет и сдержан, и решителен, он одновременно и хочет знать свое будущее, и не хочет обладать этим знанием; убив Клавдия, он спасется и в то же время будет проклят небесами.
Некоторые современные редакторы неохотно печатают «Гамлета» по совмещенной версии, так как она не вызывает у них большого доверия; другие, напротив, предпочитают следовать традиции. Единственная крупная серия, решившая пойти против течения, – «Oxford Shakespeare». Ее редакторы выбрали для публикации пусть и не первую версию пьесы, но Первое Фолио. Ситуация должна измениться с выходом в свет «Гамлета» в серии «Arden Shakespeare» – в новом издании появятся все три сохранившиеся версии трагедии; редакторы этой серии хотят побудить другие издательства последовать их примеру. Пройдет время, я полагаю, и совмещенная версия «Гамлета» будет интересна только историкам театра и литературы.
Изменив наше представление о «Гамлете», самом великом детище Шекспира, мы иначе отнесемся и к самому драматургу. Романтический миф о Шекспире как о загадочном гении, с легкостью сочинявшем пьесы и сонеты, расходится с представлением о драматурге, который, обладая большим талантом, тем не менее, очень тщательно работал над своими произведениями. Портрет Шекспира, нарисованный нами, – это портрет человека, хорошо представлявшего, чего он хочет и как это грамотно преподнести зрителю. Когда Шекспир понял, что идет на поводу у своего героя, он, не задумываясь, решил отредактировать трагедию. Шекспир сочинил «Гамлета» не ради собственной прихоти. Будь так, он удовольствовался бы первой редакцией, где образ Гамлета сильно усложнен. Она написана великим драматургом, и только драматург такого уровня, как Шекспир, мог пожертвовать частью собственного текста, чтобы позволить себе сказать: «Всякому веку и сословию – его подобие и отпечаток» (III, 2). Шекспир не был «словно с другой планеты», как о нем сказал Колридж, – он писал не для себя и не для публикации; он работал для Глобуса, театра, в котором все его идеи претворялись в жизнь. (Не случайно у театра такое всеобъемлющее название!)
Бен Джонсон, хорошо знавший Шекспира и высоко ценивший его как драматурга, понимал, что пьесы Шекспира столь гениальны еще и потому, что Шекспир умел работать над своим текстом. Здесь стоит вспомнить забытые ныне строки из стихотворения Бена Джонсона памяти Шекспира, напечатанного в Первом Фолио, где Джонсон рассуждает о мастерстве своего собрата по перу:
Дерзнувший языком живым
слагать стихи, подобные твоим,
по наковальне Муз обязан нанести
свой собственный удар: за мысли обрамленье
заслужит лавры он или презренье.
Поэт рождён, но нужно становленье,
поэт – кто, как и ты, выковывает стих.
( перевод А. Бурыкина )
Как любой подлинный художник Джонсон понимал, что драматургами не только рождаются, но и становятся, и любое великое произведение, выковывается, словно раскаленный металл, обретая свои очертания благодаря тщательной редактуре. В витиеватых строках Джонсона также заключен намек на то, сколь затратен, и духовно, и физически, весь творческий процесс. Величие Шекспира, говорит Джонсон, результат не только выдающегося таланта, но и неутомимого труда, которому тот отдал 25 лет своей жизни. Чтобы прикоснуться к гению Шекспира и понять этого драматурга, достаточно взглянуть на его правку к «Гамлету», подобную искрам, летящим при ковке металла. Только так мы убедимся, что шекспировский «Гамлет» – «вещичка, потрепанная работой» (II, 1; подстрочный перевод мой. – Е. Л.). Кропотливый труд Шекспира позволяет нам понять, почему пьеса «Принц Гамлет», как ее назвал Энтони Сколокер, современник Шекспира и заядлый театрал, «всем пришлась по душе».








