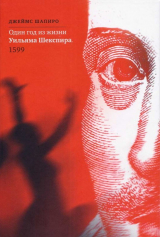
Текст книги "Один год из жизни Уильяма Шекспира. 1599"
Автор книги: Джеймс Шапиро
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц)
Уайтхолл располагал всем, чего Шекспиру так не хватало. Здесь размещалась самая большая в королевстве коллекция произведений искусства разных стран: «просторные комнаты» «украшали персидскими ткаными коврами», сокровища привозили «из самых богатых городов гордой Испании», и не только. Англичанину, никогда не покидавшему родных берегов (как, впрочем, и сама королева), дворец предоставлял редкую возможность увидеть работы заморских мастеров. Вначале винтовая лестница вела в королевские покои, из которых открывался вид на площадку для рыцарских турниров; затем Шекспир оказывался в другой удивительной галерее. Ее потолок был покрыт золотом, а стены увешены необычными картинами; среди них – изображение пророка Моисея, якобы «поразительно достоверное». Рядом висела «наикрасивейшая картина на стекле, представлявшая 36 эпизодов Страстей Христовых». Но более всего здесь привлекал внимание детский портрет Эдуарда VI. Те, кто впервые видели эту картину, думали, что «голова, лицо и нос настолько длинны и лишены пропорций, что, кажется, не стремятся передать человеческие очертания». Справа от картины стояла железная стойка с прикрепленной к ней пластинкой. Посетителям предлагали посмотреть на портрет через круглое отверстие в форме буквы «о», вырезанное в пластинке. К их удивлению, «ужасное лицо приобретало прекрасные пропорции».
Несколько лет назад благодаря известному портрету Шекспир в «Ричарде II» задумался о роли ракурса: «Картины есть такие: если взглянешь / На них вблизи, то видишь только пятна, / А если отойдешь и взглянешь сбоку, – / Тогда видны фигуры» (II, 2; перевод М. Донского). Быть может, отсюда и похожее размышление в «Генрихе V» о городах, увиденных королем «как бы в кривом зеркале» (V, 2). Слова Хора в этой пьесе о «круге из дерева» («Wooden О»), то есть театре, отсылают нас к портрету в Уайтхолле – его оптическое стекло может показать верные пропорции и придать изображаемому смысл, только если зрители приложат должные усилия и напрягут свое воображение.
Покинув картинную галерею, Шекспир, вероятно, вошел в другую – секретную, которая вела в кабинет Тайного совета, где волей Елизаветы определялась государственная политика. Рождественские каникулы не прерывали трудов Тайного совета; семеро из них уже встретились в тот день, отдав, среди прочего, распоряжение о теплой одежде для скудно экипированных английских войск – армии предстояло пережить суровую ирландскую зиму. Советники прервали работу ради вечернего развлечения и возобновили свое совещание следующим утром.
Дальше извилистый коридор уводил в покои Елизаветы – к ее опочивальне, библиотеке и комнатам, где она совершала туалет и обедала. Когда Елизавета надолго покидала дворец, они были открыты для посещения. Отзывы современников дают представление об их великолепии, выставленном на всеобщее обозрение. Несмотря на позолоченный потолок, в королевской опочивальне, оснащенной одним-единственным окном, царил полумрак. Немало внимания привлекала к себе диковинная купальня Елизаветы – в особенности тем, как «с устричных раковин и разного вида камней стекала вода». В покоях также находились органы и клавесины, на которых играла королева, и «многочисленные часы всевозможных размеров с самыми искусными механизмами». Разумеется, во дворце располагалась и баснословно дорогая изысканная гардеробная королевы, чрезвычайно интересная для такого актера, как Шекспир, – его труппа тратила большую часть своих денежных средств на пышные костюмы.
Шекспира заинтересовала и королевская библиотека, где хранились книги на греческом, итальянском, французском и английском языках, наряду с собственными сочинениями Елизаветы. Интерес к чтению не был показным: историк той эпохи Уильям Кемден сообщает, что Елизавета «читала или писала что-то каждый день». В 1598 году она «перевела на английский язык большую часть „De arte poetica“ Горация и небольшую книжку Плутарха „De curiositate“ (Елизавета записывала перевод собственноручно) – в то время как в Ирландии полыхало опасное восстание». Королева, упражнявшаяся в письме каждый день, вероятно, была разборчивым критиком и, возможно, симпатизировала драматургу, занимавшемуся тем же делом, что и она, больше, чем остальные.
По пути в зал, где сегодня вечером будет сыгран спектакль, Шекспир сначала проходил мимо Тайного кабинета (здесь размещалась знаменитая стенная роспись, изображавшая Генриха VII, Генриха VIII и их жен, Елизавету Йоркскую и Джейн Сеймур), а затем мимо просторной комнаты с высокими потолками. Это была святая святых – только самому близкому кругу Елизаветы, ее фаворитам, дозволялось заходить в Тайный кабинет, и разграничение между теми, кому разрешено, а кому нет, было предельно четким. Комнату с позолоченным потолком украшали также «картины, изображавшие победоносные сражения английских войск».
В 1600 году один иностранный путешественник записал, что Уайтхолл – «место, поражающее воображение», тем самым отразив общее впечатление от дворца. В известном смысле Уайтхолл напоминал другое не менее удивительное место елизаветинской Англии – публичный театр. Как и театры, он располагал сценой для показа спектаклей и закулисьем с его тайниками, не видимыми для зрителя, придававшими ему загадочность. При дворе, так же, как и в театрах, совершенно не заботились о жанровом единстве представлений. Посетители Уайтхолла записывали свои впечатления от его самых незабываемых экспонатов – «бюст Атиллы, предводителя гуннов», картина, на которой «слепец несет на своих плечах калеку», голландский натюрморт, группа портретов святых протестантской Реформации, заводные часы с изображением «эфиопа верхом на носороге», «родословное древо королей Англии», «огромное зеркало в шелковом чехле», портрет Юлия Цезаря (он, конечно же, привлек внимание Шекспира), портрет Лукреции (он тоже), «солнечные часы в форме обезьяны», вышитая карта Англии, «описание Нового Света на двух дощечках с картами тех же частей Нового Света в придачу» и перламутровый орган с надписью, на которой Елизавета, королева-девственница, названа «второй Марией» (ассоциация, несомненно раздражавшая пуритан). На других предметах также содержались девизы и надписи, включая такую: «Три обстоятельства уничтожили суверенность Рима – затаенная ненависть, неопытный Совет и корысть». Добрую часть предметов явно выставили с целью польстить Елизавете, например картину «Юнона, Афина Паллада и Венера вместе с королевой Елизаветой».
Шекспир, должно быть, ощущал, насколько, в конечном счете, Уайтхолл был полон противоборствующих тенденций, соперничающих между собой. Надписи, отсылавшие к Деве Марии, соседствовали с портретами реформаторов церкви. Изображения, будившие мечты о далеких странах, – такие, как эфиоп, оседлавший носорога – боролись за внимание посетителей с новыми картами и глобусом, свидетельствовавшими о процветании английской торговли и обогащении за счет колонизации. Солнечные часы делили кров с современными. Сокровища дворца лишь отдаленно напоминали богатства, хранящиеся в кунсткамере, или Кабинете редкостей, изобретении XVI века. Прародитель современного музея, Кабинет редкостей представлял собой комнату для демонстрации экзотических предметов. Самые диковинные из них, возможно, принадлежали в Лондоне Уолтеру Коупу, торговцу и авантюристу, члену Общества антикваров. Во время своего визита в Лондон в 1599-м Томас Платтер побывал в кабинете, «заставленном <…> странными иностранными предметами»: африканский оберег из зубов, побрякушка и колокольчик шута Генриха VIII, индейский каменный топор и каноэ, цепочка из зубов обезьяны, Мадонна из индийских перьев, хвост единорога, обувь всех стран мира. В другом антикварном кабинете, без названия, на Лондонском мосту, Платтер даже видел «огромного живого верблюда».
В отличие от беспорядочных собраний, выставлявших все необычное и способное изумлять публику, Уайтхолл в своем разнообразии отражал становление Англии – его коллекции, объективно говоря, запечатлели запутанную историю династической власти и политических интриг. Ни одна из комнат дворца не отражает этого в такой мере, как галерея щитов, – длинный зал с видом на Темзу, через который посетители, прибывшие по воде, шли во двор. Галерея была заставлена сотнями imprese – щитов с изображениями и изречениями на латыни.
Этот странный обычай возник при Елизавете, требовавшей от каждого рыцаря, принимавшего участие в ежегодных праздничных церемониях по случаю дня рождения королевы и дня ее восшествия на престол, – подарка в виде щита. Необходимость придумать подходящую impresa – тяжкое испытание для рыцарей, и потому они обращались за помощью к поэтам и художникам. В отличие от эмблемы, тоже сочетавшей в себе слово и образ, impesa носила в высшей степени личный характер, ее послание, как и сонетное, связывало дарителя и объект его поклонения незримыми узами. В данном случае объектом поклонения была Елизавета, а послание в impresa – попыткой придворного польстить королеве или задобрить ее. Галерея щитов, можно сказать, отражала политическую историю правления Елизаветы, совокупность взлетов и падений политических фаворитов. В своей опоре на таинственное сочетание слова и образа, на желание удивить публику мастерством интерпретации, она, как ничто иное во дворце, отражала соответствие материального мира дворца вымышленному миру сцены.
Несомненно, когда Шекспир вошел в галерею щитов, он сразу заметил свои собственные послания на щитах, представленные анонимно. Очевидно, он был мастером этого жанра; позднее драматург прорекламирует свои таланты в «Перикле», в прекрасной сцене с шестью рыцарями, демонстрирующими свои imprese. На щите самого Перикла изображена «высохшая ветка / С зеленою верхушкой, а девиз – / In hac spe vivo» (II, 2; перевод Т. Гнедич). По очевидным причинам об авторе, сочинявшем imprese на заказ, сохранилось очень мало сведений, хотя в книге приходов и расходов осталась запись о том, что Шекспиру было уплачено 45 шиллингов за impresa для графа Рэтленда, которую он продемонстрировал на турнире в марте 1613 года в честь ежегодного праздника восшествия на престол короля Якова. Всего за несколько слов Шекспир получил очень щедрое вознаграждение. Надо сказать, он отвечал только за послание; его приятель, актер Ричард Бербедж, опытный художник, неплохо заработал на том, что «вырезал щит и украсил его рисунком». Вряд ли этот заказ на излете карьеры Шекспира был его первым заказом не для театра. В конце концов, кто как не он мог лучше выразить неразделенные чувства придворного?
Далее Шекспир направился в просторный зал Уайтхолла, известный как караульный, где этим вечером Слуги лорда-камергера должны были выступать. Им, самой знаменитой труппе страны, выпала честь давать – шестой год подряд – представление в первый вечер рождественских каникул. Но они не могли позволить себе почивать на лаврах – в прошлом рождественском сезоне труппа дала три представления из пяти, хотя два года назад была в ответе за все четыре из заявленных. В текущем сезоне труппа лорда-камергера делила сцену со Слугами лорда-адмирала – по два спектакля на каждую труппу. Такое положение дел вряд ли обнадеживало.
Просторный зал – самое уютное место для выступлений в Уайтхолле: шестьдесят футов в длину и тридцать в ширину, потолок – двадцать футов, пол – из дерева; здесь же располагался камин, стены украшали тканые гобелены. Акустика была, возможно, гораздо лучше, чем в соседнем, наиболее подходящем для театра помещении – большом зале с высокими потолками и каменными полами, обращенном к часовне и значительно превосходящем зал по размеру. Годом раньше французский посол записал в своем дневнике, что во время рождественских празднеств «перед королевой разыгрывают комедии и танцуют; действо происходит в большом зале, где установлен трон; королеву сопровождает сотня дворян <…> а также дамы и весь двор». Посол этого не упоминает, но, возможно, в зале присутствовали также и дети. Леди Анна Клиффорд, в то время девочка лет девяти, впоследствии вспоминала, как во времена правления Елизаветы в Рождество она «часто бывала при дворе и иногда лежала на постели в покоях тети, Анны Уорвик». Возможно, в начале 1590-х ее тетя Уорвик содержала актерскую труппу и потому вполне могла приберечь для своей племянницы место на всем известный спектакль.
Если после представления большой зал готовили для танцев (среди них и энергичная гальярда, требовавшая просторного помещения), то зрители скорее всего сидели на скамьях с мягкой обивкой или в креслах (возможно, как в случае иных торжеств, публика занимала и узкие приставные скамьи у стены), которые легко можно было убрать. Над хорошим спектаклем трудилось немало людей. Отдел по организации празднеств осуществлял контроль за освещением и сценографией, в то время как придворный художник и его помощники занимались оформлением. Билетеры, уборщики и другие слуги следили за чистотой помещения и его обогревом, а также за рассадкой гостей и украшением зала. Подчас было совсем непросто рассадить всех гостей. Однако Джон Чемберлен пишет, что на Рождество 1601 года «придворных собралось так мало, что у стражников почти не было хлопот во время представлений и других развлечений». Если бы это Рождество ничем не отличалось от многих других, они бы не сидели сложа руки.
В отличие от публичного театра, где за деньги можно было выбрать место получше, в большом зале действовал негласный порядок рассадки гостей. В письме секретаря Эдварда Джоунза графу Эссексу содержится печальное подтверждение того, как поддерживалась социальная иерархия. В 1596 году, перед началом рождественского представления, лорд-камергер Кобэм заметил, что Джоунз, женатый на женщине более высокого социального положения, чем он сам, занял в зрительном зале место рядом с женой (в то время она была в положении), предназначенное для особ высшего общества. Возможно, Шекспир (его труппа – единственная из всех – выступала при дворе в то Рождество) также был свидетелем унизительного происшествия, случившегося с Джоунзом. Указав на Джоунза своей белой тростью, Кобэм публично отчитал его и велел ему занять положенное ему место. Несколько дней спустя Джоунз написал Кобэму обиженное письмо – «больше всего его печалило, что вечером в воскресенье перед спектаклем он навлек на себя гнев его светлости на глазах не только своих многочисленных друзей, которые сочли это несправедливостью, но и жены – находясь в положении, она так расстроилась, что расплакалась». В свое оправдание Джоунз сказал, что вовсе не предполагал занимать чужое место, а всего лишь хотел удостовериться, что с его женой все в порядке, и потому не заслуживает таких «оскорбительных слов», как «дерзкий наглец» и тому подобных.
Если в рождественский сезон 1598 года Слуги лорда-камергера представили публике новейшие сочинения своего постоянного драматурга, то скорее всего это были вторая часть хроники «Генрих IV» и комедия «Много шума из ничего». В отличие от Слуг лорда-камергера, труппа лорда-адмирала предложила гораздо более развлекательную программу – две пьесы о Робин Гуде, написанные Энтони Мандеем в соавторстве с Генри Четтлом (в конце ноября Четтл получил плату «за перелицовку пьесы о Робин Гуде для дворцового спектакля»; вероятно, по просьбе Эдмунда Тилни, распорядителя празднеств, он внес изменения в уже имеющийся текст пьесы). Тилни – в обязанность которого входили «созыв всевозможных актеров, а также чтение пьес, их отбор для постановки и улучшение их содержания, если оно не соответствует вкусу Ее Величества», – должно быть, еще в ноябре тщательно вычитал каждую пьесу, исполнявшуюся при дворе в Рождество, не только проверив ее текст, но и согласовав костюмы: нужно было удостовериться в том, что пьеса не оскорбит королеву ни словом, ни внешним видом актеров.
Если в Рождество 1599-го Слуги лорда-камергера исполняли вторую часть «Генриха IV», это было как нельзя более кстати. Пролог, открывающий пьесу, произносит Молва – персонаж, хорошо знакомый придворным: «Внимайте все. Кто зажимает уши, / Когда гремит Молвы громовый голос?»:
На языках моих трепещет ложь:
Ее кричу на всех людских наречьях,
Слух наполняя вздорными вестями.
Про мир толкую, а меж тем вражда
С улыбкой кроткой втайне мир терзает.
( I, 1; перевод Е. Бируковой )
Образ, возникающий в дальнейших репликах Молвы, был настолько мил Шекспиру, что он решил использовать его в «Гамлете», значительно улучшив, – в небольшой реплике, в которой датский принц укоряет Розенкранца и Гильденстерна: «Не сыграете ли вы на этой дудке?.. На мне вы готовы играть; вам кажется, что мои лады вы знаете» (III, 2):
Молва – труба;
В нее дудят догадки, подозренья
И зависть; так легко в нее трубить,
Что даже страшный, многоглавый зверь —
Изменчивая, бурная толпа —
На ней играет.
( I, 1; перевод М. Лозинского )
По всей вероятности, эти слова задели за живое зрителей спектакля, разыгранного во дворце в конце декабря, так как по Уайтхоллу пошли мрачные толки: чего же ждать – войны с Испанией или мира? Согласится ли в конце концов нерешительный граф Эссекс возглавить английское войско, чтобы подавить восстание в Ирландии?
В первоначальных спектаклях второй части «Генриха IV», сыгранных труппой лорда-камергера в театре Куртина, пьеса заканчивалась монологом, написанным для Уилла Кемпа. Герой, которому Шекспир поручает эпилог, как правило существует одновременно в мире воображаемом и реальном, и финал данной хроники не исключение. В конце пятого акта сэра Джона Фальстафа (его играл Кемп) сажают во Флитскую тюрьму, и на этот раз кажется, что Фальстаф, всегда удачливый, не сможет выпутаться из беды. Неожиданно на сцене снова появляется Кемп. Через несколько мгновений зритель поймет, что пьеса действительно закончилась, и Кемп произносит эпилог не от лица Фальстафа, а, скорее, от себя (условное разграничение, так как Кемп в каждой роли играл самого себя):
Если мой язык вымолит у вас оправдание, не прикажете ли вы мне пустить в ход ноги? Правда, это было бы легкой расплатой – отплясаться от долга. Но чистая совесть готова дать любое удовлетворение, и я на все пойду. Все дамы, здесь присутствующие, уже простили меня; если же кавалеры не простят, значит, кавалеры не согласны с дамами – вещь, совершенно невиданная в таком собрании.
Еще одно слово, прошу вас. Если вы еще не пресытились жирной пищей, то ваш смиренный автор предложит вам историю, в которой выведен сэр Джон, и развеселит вас, показав прекрасную Екатерину Французскую. В этой истории, насколько я знаю, Фальстаф умрет от испарины, если его уже не убил ваш суровый приговор; как известно, Олдкасл умер смертью мученика, но это совсем другое лицо. Язык мой устал, а когда мои ноги также устанут, я пожелаю вам доброй ночи (перевод Е. Бируковой).
В остроумном эпилоге Шекспир решает сразу несколько задач. Кемп говорит о танце и своей готовности сплясать, а значит, джига – непристойная танцевальная сценка, которой завершались все спектакли и в которой Кемпу не было равных, – вот-вот начнется. Кемп также упоминает и Шекспира, «вашего смиренного автора», обещающего новую историю, поэтому его поклонники убеждены, что скоро увидятся с ним снова. Это единственный раз, когда Шекспир решил поделиться с публикой своими планами, рассказав о пьесе про Джона Фальстафа и Екатерину Французскую, обрученную с Генрихом V. Очевидно, что его новая, еще не оконченная пьеса – это «Генрих V», заключительная хроника второй тетралогии, начало которой было положено четыре года назад в «Ричарде II»; затем последовали две части «Генриха IV». Ближе к концу эпилога Шекспир вынужден оправдываться за то, что в первой части «Генриха IV» один из персонажей носит имя Олдкасл (отсюда и уточнение: «Олдкасл умер смертью мученика, но это совсем другое лицо»).
Данный эпилог вряд ли подошел бы для исполнения при дворе, где было не принято завершать пьесы скабрезными джигами. Подобно Гамлету, набросавшему для сцены в «Мышеловке» «каких-то двенадцать или шестнадцать строк», Шекспир добавил примерно столько же строк для спектакля в Уайтхолле. Извинившись перед зрителями в первой версии эпилога, Шекспир, перерабатывая текст, ищет новые пути развития мысли. В эпилоге появляются черты бесцеремонности и самоуверенности, что, вполне вероятно, сильно удивило его актеров. Находясь в центре внимания, Шекспир говорит от первого лица («…ведь то, что я имею сказать, сочинил я сам»). Это единственная сцена в его пьесах, когда он говорит сам за себя и словно для себя:
Я появляюсь перед вами прежде всего со страхом, затем с поклоном и, наконец, с речью. Страшусь я вашего неудовольствия, кланяюсь по обязанности, а говорю, чтобы просить у вас прощения. Если вы ждете от меня хорошей речи, то я пропал, – ведь то, что я имею сказать, сочинил я сам, а то, что мне следовало бы вам сказать, боюсь, испорчено мною. Но к делу, – я все-таки попробую. Да будет вам известно (впрочем, вы это сами знаете), что недавно я выступал здесь перед вами в конце одной пьесы, которая вам не понравилась, и просил у вас снисхождения к ней, обещав вам лучшую. Признаться, я надеялся уплатить вам свой долг вот этой пьесой. Если же она, как неудачное коммерческое предприятие, потерпит крах, то я окажусь банкротом, а вы, мои любезные кредиторы, пострадаете. Я обещал вам явиться сюда – и вот я пришел и поручаю себя вашей снисходительности. Отпустите мне хоть часть долга, а часть я вам заплачу и, подобно большинству должников, надаю вам бесконечных обещаний.
<…> А затем я преклоню колени, но лишь для того, чтобы помолиться за королеву ( перевод Е. Бируковой ).
Эпилог написан мастерски. Теперь нет ни упоминания о том, чему будет посвящена новая пьеса, ни малейшего обещания, что Кемп вернется на сцену в роли Фальстафа. Извинение за то, что он использовал имя благородного Олдкасла в первой части «Генриха IV» (возможно, как раз эта хроника или же пьеса «Виндзорские насмешницы» стала сочинением, которое публика не смогла оценить по достоинству и потому упомянутом лишь вскользь), внедряется в текст эпилога практически незаметно: в знак своего оправдания Шекспир предлагает зрителям пьесу о Фальстафе, которой они только что аплодировали. Помимо этого, изначальная установка монолога на соблюдение этикетных формул – бесконечные реверансы и поклоны – уступает место новой мысли Шекспира о том, что зритель и драматург – партнеры, то есть пайщики венчурной компании. Часть публики, уловив здесь отголосок идей, звучавших в недавней пьесе Шекспира, возможно, выделила для себя ключевые слова эпилога – венчурное предприятие и кредит, уступки в цене и выплаты, обещание и невыполнение обязательств, – важные для понимания той пьесы, где он описал новый мир венчурного капитала, – «Венецианский купец». Если Шекспир называет себя рисковым дельцом, свои пьесы – сокровищем, а публику – инвестором, то из этого следует, что неудачная венчурная компания, которая развалится или обанкротит его, будет дорого стоить его кредиторам.
Аналогия между театральной труппой, устроенной как товарищество пайщиков, и торговым акционерным обществом – совсем не натяжка. Оба вида акционерного капитала прекрасно регулировали общественные отношения, меняя исторически сложившиеся сословные границы общества. Шекспир, недавно вложивший все свои театральные сбережения в покупку герба и примкнувший к категории «любезных кредиторов», понимал, что деньги дают возможность не только купить собственность, но и утвердить свою принадлежность к старинному роду. Для Шекспира и Слуг лорда-камергера прибыль была также ощутима, как и угроза убытков. Придворные, много повидавшие на своем веку, знали, как часто распадались талантливые труппы – в 1590-х Слуги Ее Величества, Слуги графа Сассекса, Слуги графа Пембрука и Слуги лорда Стренджа имели большой успех при дворе, а затем внезапно исчезли. Угроза финансового краха, вызванная потерей постоянной площадки для выступлений, преследовала актера-пайщика в самых страшных снах.
Когда Шекспир описывает свою публику как «любезных кредиторов», он имеет в виду, что они не только разрешают ему писать то, что ему хочется, но и считают его надежным партнером и верят в него. Играя смыслами этого словосочетания, он ставит кредиторам новые условия: если они пойдут на уступки, то есть дадут ему послабление, он сможет вернуть остаток долга частями. Перефразируя мысль о том, что должники дают бесконечные обещания (то есть вечно обещают с три короба), Шекспир утверждает, что он поступает так же – как и многие должники, говоря про «бесконечные обещания», он не гарантирует ничего определенного. Примите эти требования, и тогда они окупятся с лихвой его бессмертными пьесами. В варианте эпилога для Кемпа «наш смиренный автор» действовал по эффективной формуле успеха, едва ли сейчас известной; но путь, который Шекспир открыл для себя накануне 1599 года, во втором эпилоге, отличался разительно. Благодаря тому, что Шекспир раскрыл нам свое намерение двигаться в новом направлении и требовать большего от своей публики, актеров и самого себя, мы намного лучше понимаем его творческие замыслы.
Почтительно начав с любезностей в адрес зрителей, Шекспир в конце эпилога повторяет этикетные формулы. Заканчивая спектакль, он встает на колени (что само по себе старый прием елизаветинского театра) – для того, скорее, чтобы отдать дань социальной условности и иерархии, нежели поблагодарить за сотрудничество и взаимовыручку. Но здесь Шекспир – истинный актер и джентльмен – обрывает сам себя, чтобы кое-что объяснить публике: хотя кажется, что он склоняется перед ней, это не так; он преклонил колено в молитве за Елизавету, почтение к которой, разумеется, должен незамедлительно выразить каждый подданный, последовав его примеру. Перед королевой в конце концов равны все – должники и кредиторы, слуги и господа, актеры и их покровители.
Этот необычный эпилог сохранился случайно, или, точнее, благодаря чьей-то небрежности. Вторая часть «Генриха IV» была опубликована менее чем два года спустя. Когда рукопись отдали в печать, в ней содержались обе версии эпилога. Наборщик, не зная, как поступить, оставил оба варианта, отделив их друг от друга несколькими пробелами. Будь у него больше времени на раздумья, он бы понял, что посреди эпилога актеру нет никакого смысла вставать на колени перед королевой: ведь затем ему придется подниматься снова. Когда в 1623 году с этой же трудностью столкнулся наборщик Фолио, он решил не выбирать между двумя эпилогами и соединил их в один; правда, он по крайней мере попытался устранить нестыковку и переместил молитву за королеву в конец эпилога. Странно, но современные текстологи, знания которых намного глубже, последовали его примеру, не разобравшись в путанице и так и не выяснив творческие намерения Шекспира.
В начале 1599 года отношения Шекспира и Кемпа разладились окончательно (в исправленной версии монолога чувствуется намек на данное обстоятельство), когда Кемп отказался от своей доли в Глобусе (или же его к этому подтолкнули), а также и в труппе, чем предоставил Шекспиру и другим пайщикам возможность разделить его долю между собой. Почему Кемп решился покинуть Глобус и Слуг лорда-камергера, остается неизвестным. Можно предположить, что пропасть между тем, как он видел свое положение в Глобусе и как оно расценивалось остальными пайщиками, была непреодолимой, особенно учитывая тот факт, что Кемп пожертвовал деньгами, отдав свою долю. Решение Шекспира лишить своего звездного шута роли в «Генрихе V» подорвало зрительские ожидания, так как публика, знакомая с постановками на этот сюжет, пребывала в уверенности, что снова встретится с клауном. То ли это решение ускорило уход Кемпа, то ли было принято в ответ на заявление Кемпа об уходе – сказать сложно, но я подозреваю первое. Великий предшественник Кемпа Дик Тарлтон был главным клауном, исполнявшим роль Дерика (и, возможно, Олдкасла) в пьесе «Знаменитые победы Генриха V», основном сюжетном источнике шекспировской пьесы. Роль, благодаря которой можно было бы превзойти Тарлтона в комическом мастерстве, стала бы апогеем карьеры Кемпа, находящегося в то время на пике популярности.
Начиная по меньшей мере с XVIII века, критики пытались понять, почему Шекспир изменил свою точку зрения на Фальстафа. Зачем он отказался от одного из самых блистательных своих персонажей, особенно после того, как пообещал, что мы снова увидим Фальстафа на сцене? Объяснить решение драматурга художественными целями непросто, хотя Сэмюэль Джонсон сделал все возможное: вероятно, Шекспир «не смог придумать новые коллизии для своего героя, или не сумел подыскать Фальстафу собеседников, способных вдохновить его, или ему не удалось найти новый источник для шуток». Бессмысленно думать, что Шекспиру не хватило изобретательности; возникает ощущение, что Джонсон и сам в это не верит. Однако Джонсон счел совершенно непростительным, что Шекспир не сдержал слово: «Пусть более посредственные авторы на его примере научатся тому, что опасно продавать медведя, который еще не пойман, и обещать публике то, что еще не написано». Очевиднее всего, Джонсон не рассматривал причины шекспировского решения, имевшие отношение не к персонажу или сюжету, а к Кемпу и буффонаде. Расхождение путей Кемпа и Шекспира (случайно, а может, и преднамеренно отразившееся в холодном отказе Хела продолжать общение с Фальстафом) ознаменовало не только отказ от определенного типа комедии, но и утвердило новый принцип шекспировского театра – теперь перед нами театр драматурга, а не актера, каким бы популярным тот ни был.
Кемп и Шекспир странно смотрелись вместе. Старше лет на десять, Кемп выглядел более солидно благодаря своему плотному телосложению. Он был хорошо сложен и корпулентен, обладал невероятной выносливостью, однако не терял и элегантности (для роли тучного Фальстафа ему приходилось надевать специально изготовленные вязаные штаны гигантского размера). На гравюре из дерева, датированной 1600 годом, – единственном прижизненном портрете Кемпа – изображен человек среднего возраста с седой бородой и длинными волосами. Однако, если судить по фигуре, он гораздо младше – мужчина среднего роста, мускулистый, крепкий, с хорошей выправкой; легкий на подъем, он одет в традиционный костюм для моррисовой пляски[1]. Кемп отреагирует на разрыв отношений со Слугами лорда-камергера, пустившись в пляс; его путь «из мира» (конечно же, имеется в виду Глобус) продлится – в начале 1600 года – от Лондона до Норича; моррисова пляска растянется на несколько недель, и в сольном танце на дороге он будет чувствовать себя, как на родной сцене. Манера поведения Кемпа выявляет еще одно его коренное отличие от Шекспира, связанное с социальным статусом. Обычно он изображал на сцене деревенских персонажей низкого социального положения; среди них Основа, Башка, Питер и Ланселот. Даже в роли Фальстафа, аристократа по происхождению, Кемп играл человека из народа и надевал для этой роли картуз ремесленника. Роль Фальстафа он воспринимал гораздо серьезнее, чем другие свои роли, в этом образе проявились его личные убеждения, которые лишь добавили ему популярности. Он ненавидел выскочек, карабкавшихся по социальной лестнице, и горячо приветствовал тех, для кого социальный статус значения не имел. Безусловно, стремление Шекспира доказать свою принадлежность к знатному роду раздражало Кемпа.








