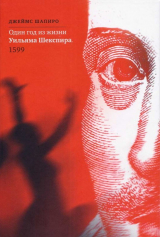
Текст книги "Один год из жизни Уильяма Шекспира. 1599"
Автор книги: Джеймс Шапиро
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Смерть рыцарской культуры совпала с рождением империи. Не только Хаклут разглядел грядущие перемены – примерно пятая часть дворян, которых Эссекс посвятил в рыцари в Ирландии, включая самых преданных его сторонников, графа Саутгемптона и графа Монтеигла в итоге занялись инвестициями, запоздало пробивая себе дорогу к торговым экспедициям. Рыцари, искатели приключений, неожиданно отошли на второй план. Когда, например, лорд-казначей Бакхерст попытался надавить на членов Ост-Индской кампании, добиваясь назначения сэра Томаса Майклбурна, одного из рыцарей Эссекса, на должность капитана во время первого плавания, купцы высказались против, объяснив, что не желают, чтобы ими командовал дворянин – вспыльчивый рыцарь наверняка бы расстроил им все торговые связи постоянными стычками с португальцами в Ост-Индии. Теперь всем заправляли купцы.
Шекспир, в то время писавший «Гамлета», не присутствовал на сентябрьском заседании в Фаундерс Холле. Даже если после строительства Глобуса у него не осталось свободных средств, наверняка они появились через год-другой; тем не менее его имя не фигурирует в списках инвесторов Ост-Индской компании, ибо он предпочитал вкладывать деньги в земельную собственность (или товары, такие, как, например, солод), нежели в авантюрные заграничные плавания. И все же Шекспир сыграл свою роль в этом предприятии, пусть и не лично, – на борту одного из первых кораблей, отплывавших в Ост-Индию, среди книг и других предметов оказался и «Гамлет». В 1607 году Уильям Килинг, капитан корабля «Дьявол», вместе с другими кораблями («Гектор» и «Согласие») отплыл к берегам Ост-Индии. В начале сентября, когда корабли вышли из порта Сьерра-Леоне, Килинг записал в бортовом журнале: по его просьбе матросы исполнят «Гамлета». Шесть месяцев спустя они сыграют «Гамлета» во второй раз – для капитана «Гектора» Хокинса. Килинг объясняет, что «просил сыграть „Гамлета“» скорее из практических, нежели художественных соображений: «чтобы не дать своим людям скучать, играть в запрещенные игры или беспробудно спать». Шекспировская пьеса быстро стала частью культурного обновления, о котором в ней самой шла речь.
Не то чтобы Шекспир не интересовался авантюрами и торговлей – пьесы («Венецианский купец», «Отелло», «Перикл» и «Буря») подтверждают его восхищение заморской торговлей, открытиями и завоеванием новых территорий. Однако в отличие от других драматургов, которые в своих пьесах прославляли достижения лондонских купцов, с самого начала своего творческого пути, а возможно, и с самого детства, Шекспир выбирал для себя совершенно другие сюжеты: его зачаровывали короли и королевы, войны и империи, героизм и благородство, а также неизведанные страны. Хотя в его пьесах действуют и купцы, и простые люди, ни они, ни Лондон сам по себе, для него не самоцель.
Шекспир прекрасно знал, что слово «искатель приключений» (adventurer) имеет двойное значение. Так, Гамлет, узнав, что к ним едут актеры, говорит: «…отважный рыцарь (the adventurous knight) пусть орудует шпагой и щитом» (II, 2; перевод М. Лозинского); Ромео, как и полагается сыну купца, убеждает Джульетту: «Не кормчий я, но будь ты так далеко, / Как самый дальний берег океана, – / Я б за такой (I should adventure) отважился добычей» (II, 2; перевод Т. Щепкиной-Куперник). Безусловно, уже работая над «Троилом и Крессидой» (вскоре он приступит к «Гамлету»), Шекспир понимал, что время рыцарских подвигов ушло в прошлое. В этой пьесе он играет на контрасте: сначала воссоздавая в Прологе эпическое повествование:
Пред вами Троя. Вот могучий флот
Властителей. Их непреклонный дух
Воспламенен обидою и гневом;
В Афинах приготовили они
Тьму кораблей, отлично оснащенных
Орудиями яростной войны…
( перевод Т. Гнедич )
а затем показывая эгоизм, тщеславие и жестокость греческих героев. В «Троиле и Крессиде» Шекспир обнажает неприглядные стороны героического эпоса Гомера, подчеркивая отталкивающие, хищнические моменты троянской кампании. Только драматург, все еще отчасти верящий в героические идеалы, мог развенчать их – пьеса пропитана горечью этого ниспровержения. Если бы сохранилась поздняя пьеса «Карденио», созданная Шекспиром в соавторстве с другими драматургами (она написана около 1612 года и исполнялась при дворе примерно тогда же), мы бы еще сильнее почувствовали разочарование Шекспира: ее сюжет восходит к истории Карденио и Люсинды из «Дон Кихота» Сервантеса, блистательного романа, сатиры на странствующее рыцарство, не так давно переведенного на английский язык. Шекспир сочинит пьесы об Отелло, Антонии и Кориолане: все эти трагические герои раздавлены миром – его рамки столь узки, что он не способен оценить их героическое величие. Об этом прекрасно говорит Кориолан; «повернувшись к Риму спиной», он заканчивает монолог такими словами: «Нет, не сошелся клином свет на Риме» (III, 3; перевод О. Сороки)[17]. В конце пьесы, наказав Кориолана, Шекспир показывает, насколько тот был не прав.
В «Гамлете», написанном на распутье, – на заре глобализации и на закате рыцарской культуры – чувствуется влияние этих двух тенденций, в отличие от саркастической пьесы «Троил и Крессида». В «Гамлете» также отразились и размышления драматурга об уместности подвига. Они придают пьесе особую ностальгическую ноту – в «Гамлете», в не меньшей степени, чем в новой культуре, стоящей на пороге новых морских открытий, мы видим мир прошлого, который уже мертв, но все еще не погребен. Дух отца Гамлета, возвращающийся из чистилища в начале пьесы, взывает не только к утраченному католическому прошлому, но и к ушедшей эпохе рыцарства. Разница между прошлым и настоящим подчеркивается и одеянием призрака. Он одет так же, как и много лет назад, когда в юности разгромил норвежца на поле боя: «Такой же самый был на нем доспех, / Когда с кичливым бился он Норвежцем» (I, 1; здесь и далее перевод М. Лозинского). Мы видим отца Гамлета не таким, как в час его смерти, но тридцать лет назад, в момент его боевой славы. К 1599-му так уже давно не одевались: рыцари облачались в ржавые от времени доспехи разве что в день Восшествия монарха на престол.
Шекспир очень подробно описывает мир, где жили по законам дворянской чести; он воссоздает героическое сражение, в котором принимал участие отец Гамлета – тогда солдаты, прекрасно владевшие оружием, бились не на жизнь, а на смерть:
ГОРАЦИО
Покойный наш король,
Чей образ нам сейчас являлся, был,
Вы знаете, норвежским Фортинбрасом,
Подвигнутым ревнивою гордыней,
На поле вызван; и наш храбрый Гамлет —
Таким он слыл во всем известном мире —
Убил его; а тот по договору,
Скрепленному по чести и законам,
Лишался вместе с жизнью всех земель,
Ему подвластных, в пользу короля;
Взамен чего покойный наш король
Ручался равной долей, каковая
Переходила в руки Фортинбраса,
Будь победитель он; как и его
По силе заключенного условья
Досталась Гамлету. ( I, 1 )
Пьеса заканчивается другим, не менее известным сражением. Но схватка, где погибнут Клавдий, Гертруда, Лаэрт и сам Гамлет, очень сильно отличается от той, какую в начале пьесы описывает Горацио. Это дуэль, или, если сказать точнее, – состязание в фехтовании на затупленных мечах. Шекспировские современники гораздо лучше нас понимали разницу между старым и новым видом оружия, осознавая то, что стоит за каждым из них. Только во второй половине XVI столетия тяжелые мечи начали заменять рапирами, все больше отдавая им предпочтение; рапира и кинжал, любимое оружие Лаэрта, вошли в широкий обиход лишь в 1580-х.
В фехтовальном трактате «Парадоксы защиты» (опубликован в 1599-м с посвящением графу Эссексу), который Шекспир прочитал, работая над «Гамлетом», Джон Сильвер оплакивает старые времена. Автор ностальгически вспоминает мир прошлого; битва отца Гамлета со старшим Фортинбрасом лучшее тому воплощение: «Наши предки были мудры, хотя в наш век их и считают глупцами; они доблестно сражались, хотя мы и называем их трусами; будучи прозорливы, они пользовались для самообороны короткими клинками, защищая и подчиняя себе врага оружием и отвагой». «Мы, их сыны, – приспособленцы, забывшие о добродетели предков и оружии прошлого; охваченные странной лихорадкой, мы стремимся использовать в бою фехтовальные приемы итальянцев, французов и испанцев», – резюмирует Сильвер. Вспомним, что Клавдий задумывается о поединке Лаэрта и Гамлета как раз после того, как француз хвалит фехтовальные навыки Лаэрта.
Не так давно Шекспир высмеял фехтовальную культуру в комедии «Как вам это понравится». Его Оселок убежден в том, что можно ссориться и не обмениваясь ударами: «Я имел четыре ссоры, и одна из них чуть-чуть не окончилась дуэлью» (V, 4; перевод Т. Щепкиной-Куперник). В «Гамлете» в вычурном языке Озрика мы видим совершенно иное проявление «учтивого возражения» (выражение Оселка из его рассуждений о семи степенях хороших манер), когда Озрик упоминает о предстоящем поединке между Лаэртом и Гамлетом. Гамлету сообщают, что его соперник, Лаэрт, «совершеннейший дворянин, преисполненный самых отменных отличий, весьма мягкий обхождением и видной внешности; поистине, если говорить о нем проникновенно, то это карта или календарь благородства» (V, 2). При датском дворе рыцарский кодекс нивелируется до общих слов и тщательно продуманного пари. В частности, Гамлет узнает, что король держит пари с Лаэртом и выставил «шесть берберийских коней против шести французских шпаг, их принадлежностей и трех приятно измышленных сбруй; таков французский заклад против датского» (V, 2). Сражаться так, как было принято при отце Гамлета, когда славу завоевывали боевыми подвигами, уже не представлялось возможным.
Елизаветинцы сразу поняли разницу между настоящим подвигом на поле боя и театральной игрой, оказавшись в ноябре того года в Уайтхолле – на ежегодном рыцарском турнире в день восшествия монарха на престол. Участники ирландской кампании (у некоторых из них навсегда остались боевые шрамы) не получили приглашения на праздничную церемонию, в их числе и Эссекс; а ведь в прошлом году именно он был в этот день в центре внимания. Только двое из тех, что служили в Ирландии (они вернулись домой в середине июля), оказались среди участников турнира в Уайтхолле, оба принимали в нем участие и в прошлом году – заклятый враг Эссекса лорд Грей и Генри Кери, теперь сэр Генри, преданный сторонник Эссекса, которого он посвятил в рыцари в Ирландии. За их поединком, далеко не самым опасным (они сражались в нападении с копьем наперевес), несомненно наблюдал весь Уайтхолл. Вспоминая турнир, Роланд Уайт с горечью отмечал: боевое искусство превратилось теперь в яркое театральное зрелище. Один из придворных, лорд Комптон, появился на празднике в костюме «рыбака, а шестеро его людей – в костюме шутов; в попоне его лошади, сшитой из сетей, лежала лягушка». И офицерам, и солдатам, искушенным в боях, в тот день сразу стало понятно, как низко пала рыцарская культура, как изменился мир вокруг и сколь этот процесс неостановим.
В «Гамлете» Шекспир вновь обратился к глубинным переменам в обществе, к слому времен, ознаменовавшему рождение новой эпохи. Именно о таком разладе напишет он позднее в «Зимней сказке»: «Печальные дела, печальные! Но ты, малый, погляди. Тебе подвернулись умирающие, а мне новорожденный» (III, 3; перевод В. Левика). Шекспир родился в тот период, когда новая религия сменила старую, и теперь, как и любой его современник, он с тревогой ожидал неотвратимого конца правления Елизаветы и конца династии Тюдоров, и потому его глубинный интерес к эпохальным переменам, хотя и необычен для того времени, но вполне объясним. В «Гамлете» он запечатлел как раз такой момент, объяснив, что значит жить в смутное время, когда прошлого уже не вернуть, а будущее туманно.
До тех пор, пока не решится судьба Эссекса, все остальное тоже было покрыто мраком. «Люди внимательно следят за тем, какое решение примет Ее Величество», – пишет Роланд Уайт. Тем временем Эссекс оставался под домашним арестом, вдали от друзей и жены, недавно разрешившейся от бремени. Не совсем понятно, что именно Эссекс сделал не так. За пределами двора люди терялись в догадках. Например, поэт Томас Чёрчьярд, многое видавший на своем веку, написал в начале ирландской кампании стихотворение, прославлявшее Эссекса; пока Эссекс воевал в Ирландии, он успел сочинить и второе хвалебное послание – в честь возвращения графа домой («Добро пожаловать домой, граф Эссекс»), зарегистрировав его в Гильдии печатников первого октября 1599-го. Однако этот текст, явно несвоевременный, никогда не публиковался, и его рукопись скорее всего уничтожили.
В Лондон один за другим стали возвращаться из Ирландии доблестные сторонники Эссекса; их появление вызвало в столице еще больший переполох и напряжение: «Они разгуливают повсюду, к огромному неудовольствию Ее Величества». Возможно, Шекспир видел кого-то из них в Глобусе, так как, по свидетельству Роланда Уайта, «лорд Саутгемптон и лорд Рэтленд при дворе не появлялись <…> Они поселились в Лондоне и каждый день ходили по театрам».
Не известно, какие пьесы они смотрели в Глобусе в октябре – начале ноября того года. В то время труппа лорда-камергера играла на сцене шекспировскую хронику «Генрих VI» (часть третья), в одной из сцен которой сторонникам Эдуарда, находившегося тогда под домашним арестом, удалось найти «друзей с конями и людьми, / Готовых вызволить его из плена» (IV, 5; перевод Е. Бируковой). Какое опасное совпадение! Опасаясь, что Эссекса заточат в Тауэр, его друзья в начале ноября разработали похожий план. По словам сэра Чарльза Денверса, лорд Саутгемптон и лорд Маунтджой, близко знавшие Эссекса, советовали «ему бежать во Францию или в Уэльс, с помощью друзей; также, благодаря хорошим знакомствам при дворе» они предлагали «провести его во дворец на аудиенцию с королевой».
Денверс пишет, что «эти идеи витали в воздухе, но о них даже не заикались» вплоть до середины ноября, когда состоялась встреча, на которой присутствовал он сам, его брат Генри Денверс, лорд Саутгемптон и лорд Маунтджой. Друзья Эссекса решили: если впереди Тауэр, лучше всего «помочь Эссексу бежать». Саутгемптону удалось передать Эссексу записку: он и Генри Денверс готовы последовать за ним в ссылку. Денверс заверил: даже если ему придется остаться в Лондоне, он «продаст все, что у него есть, до последней рубашки», лишь бы помочь Эссексу уехать заграницу. Но Эссекс категорически отказался: «…коли у них нет другого решения, кроме как заставить его бежать, то он скорее подвергнется смертельной опасности, чем станет изгнанником». Позднее, Саутгемптон иначе вспоминал об этом, утверждая, что «буквально за три часа до начала» решительно высказался против и тем самым дал делу обратный ход.
Даже самые преданные сторонники Эссекса считали, что события складываются очень скверным образом, а сам Эссекс – безумец. Джон Харингтон, ныне сэр Джон, несколько месяцев назад утверждавший, что «долг чести призывает его принять участие в ирландской кампании», изменил свою точку зрения: «в этом начинании ему [Эссексу] помешали амбиции, быстро затуманившие его разум. Я убежден в своей оценке милорда Эссекса, ибо вижу, как внезапно у него меняется настроение – от печали и раскаяния до неистовства и бунтарства; вот подтверждение тому, что он лишился рассудка и выжил из ума». Во время нашей последней беседы в Ирландии, поясняет Харингтон, Эссекс «произнес речь, полную таких странностей, что мне захотелось поскорее откланяться. Слава Богу! Я дома и в безопасности, и, если снова попаду в такие неприятности, пусть меня повесят за то, что я по глупости влез не в свое дело».
С политической точки зрения осень 1599-го выдалась не менее напряженной, чем лето, когда над городом висела угроза Невидимой армады. Эссекс лишился расположения королевы, судьба его висела на волоске; и все же, о каких «странностях» шла речь – неужели Эссекс хотел привлечь на свою сторону короля Шотландии? В шекспировских пьесах отразилась атмосфера политической нестабильности той осени – на улицах и на стенах дворца расклеивали пасквили, по городу распускали слухи, перехватывали письма, слежка и цензура процветали. Если верить Фрэнсису Бэкону, политические пасквили добрались и до театра: «В это время на улицах Лондона и в театрах распространяли крамольные заявления, священники вели смелые бунтарские беседы; многие верные и усердные советники и другие подданные Ее Величества были обременены непосильными налогами; вину за тяжелое положение дел в Ирландии приписывали чему угодно, только не бездействию Эссекса, его истинного виновника».
Другие, например Фулк Гревилл, были убеждены, что слухи распространяли не сторонники Эссекса, а его враги – желая еще больше опорочить графа, они действовали как настоящие макиавеллисты: «Его враги набрались дерзости и стали заграницей распространять от его имени листовки против Тайного совета и королевы; они также распространяли тексты, порочащие друзей Эссекса, явно невиновных». Они же распространяли и коварные слухи о безграничной власти Эссекса и его невероятных амбициях. Юристы с особым пристрастием зачитывали вслух личные письма графа, всякий раз подтверждая, что каждое слово Эссекса говорит против него. «Кто ответил за то, что в конце декабря все стены дворца были расписаны мерзостями о Роберте Сесиле?», недоумевал Роланд Уайт.
Чем ближе к концу года, тем безутешнее становились сторонники Эссекса. Так как Эссекс отказался бежать, оставалось разыграть последнюю карту – союз с Шотландией. Летом друг Эссекса лорд Маунтджой отправил Генри Ли к шотландскому королю – заверить его в том, что, несмотря на все слухи, Эссекс не претендует на английский престол и считает короля Якова единственным законным наследником. Незадолго до Рождества (позднее это подтвердил секретарь Эссекса Генри Кафф), созрел новый план. После того, как королева назначила Маунтджоя в Ирландию наместником, он снова отправил в Шотландию Генри Ли, на сей раз с таким посланием: если король Шотландии «вступит с нами в союз, милорд Маунтджой готов покинуть Ирландию и со своими сторонниками и армией, насчитывающей около пяти тысяч солдат, присоединиться к предприятию; вместе с войском, которое соберет граф Эссекс, нам хватит сил для осуществления задуманного». Таким образом Эссекс восстановит свое доброе имя, сокрушив соперников при дворе, а английский трон перейдет к королю Якову. Саутгемптон также сообщил Якову, что согласен участвовать.
Многие друзья Эссекса полагали, что Якову не терпится заявить свои права на английский престол. Однако сэр Чарльз Денверс очень сомневался (как ясно из его последующего признания) в том, намерен ли король Шотландии вторгнуться в Англию и одобрит ли он это предложение. Вероятно, Елизавету и Сесила преследовали в ту пору страшные кошмары: чужеземная армия приближается к границам Англии, в английской армии, высадившейся в Уэльсе, полыхает мятеж, а в Лондоне растет недовольство. К тому времени, как Ли вернулся из Шотландии (за его передвижениями в Шотландии тщательно следили), Маунтджой уже отплыл в Ирландию. Хотя Ли арестовали и отправили в тюрьму Гейтхаус в Вестминстере, Эссекс все еще не терял надежды и даже послал Саутгемптона к Маунтджою в Ирландию с просьбой «вернуть армию, отправленную в Уэльс», чтобы «осуществить задуманное ранее». По словам Саутгемптона, Денверс был убежден: войска, которое Маунтджой приведет из Ирландии, будет достаточно, и им не придется рассчитывать на двусмысленные обещания Якова. На этом этапе Маунтджой отказался от дальнейшего участия и советовал Саутгемптону сделать то же самое: если Яков остается вне игры, речь идет уже не о престолонаследии, а о личных амбициях Эссекса.
К тому моменту как заговор был раскрыт, о нем кроме горстки конспираторов практически никто не знал. Поэтому неудавшийся переворот в «Гамлете», а также упоминание короля соседнего государства и его армии под командованием Фортинбраса, предъявляющего права на датский престол в конце пьесы, – всего лишь совпадение. Однако подобные идеи носились в воздухе, и заговоры возникали не раз. «Гамлет», написанный в это время, пропитан изменчивым духом перемен. Драматург постоянно держит публику в напряжении – зритель погружается в столь знакомую ему жутковатую атмосферу. В «Гамлете» Шекспир верен своему слову: «назначение лицедейства» – показать «всякому веку и сословию – его подобие и отпечаток» (III, 2). Вполне возможно, что в своем взволнованном письме Роберту Сидни осенью 1599-го Роланд Уайт, говоря о теперешних временах, словно вспоминает двор Клавдия: «за нами подсматривают со всех сторон, и потому да будут счастливы и благословенны те, кто живут вдали от нас». «Да поможет мне Господь», пишет Уайт, «ибо настали опасные времена».

Глава 14
Эссе и монологи

Сюжет «Гамлета», пожалуй, как никакой другой у Шекспира, совершенно не оригинален. Источником шекспировского текста послужила трагедия мести 1580-х годов с одноименным названием (до наших дней она не дошла), которая к тому моменту, как Шекспир начал свой творческий путь, всем уже давно приелась. В 1589 году Томас Нэш, сочиняя инвективу против театра, объектом для своих нападок выбрал «Гамлета»: «Читая ночью, при свече, английского Сенеку, вы найдете у него немало удачных фраз <…> а если возьметесь за чтение ясным морозным утром, вам встретится у него целая россыпь по-гамлетовски трагических монологов». Под английским Сенекой Нэш имеет в виду Томаса Кида, автора таких пьес, как «Испанская трагедия» (невероятно популярная в те годы!) и, вероятнее всего, «Гамлета».
Когда Шекспир переехал в Лондон, «Гамлет» все еще шел на сцене. У Шекспира было время хорошо изучить эту пьесу, так как в середине 1590-х она по-прежнему значилась в репертуаре новой труппы, с которой он сотрудничал, – Слуги лорда-камергера. Вероятнее всего, Шекспир, Бербедж и Кемп были заняты в спектакле девятого июня 1594 года – именно в тот день на сцене театра Ньюингтон Баттс, расположенного примерно в двух километрах южнее Лондонского моста, Слуги лорда-камергера давали «Гамлета»; это помещение труппа тогда делила со своими конкурентами, Слугами лорда-адмирала. Судя по сохранившимся финансовым документам, пьеса уже порядком устарела – билеты на «Гамлета» раскупали намного хуже, чем раньше; зритель явно предпочитал смотреть другие трагедии мести на старинные сюжеты, например, «Тита Андроника» Шекспира или «Мальтийского еврея» Марло. Когда труппа лорда-камергера перебралась в Театр, пьеса осталась в репертуаре. К этому времени леденящий кровь монолог Призрака, призывающего к отмщению, уже стал притчей во языцех. В своем сочинении «Несчастия ума» Томас Лодж упоминает «бледный призрак, который жалобно кричал на театре, подобно торговке устрицами: „Гамлет, отомсти!“»[18]
Основные черты сюжета начали формироваться еще в XII веке, когда Саксон Грамматик написал сагу об Амлете, датском мстителе (опубликована на латыни в 1514 году). Тем, кто знаком с шекспировской пьесой, сага не откроет ничего нового. Отец Амлета, король Дании, разгромивший в поединке норвежского короля, умирает от рук предателя, своего же брата, Фенгона. После смерти мужа мать Амлета выходит замуж за Фенгона. Принц Амлет хочет отомстить за отца, но вынужден скрывать свои намерения, притворяясь сумасшедшим, – только так он отвратит от себя подозрения. Чтобы разузнать о планах пасынка, дядя подсылает к Амлету юную красавицу. Затем, разговаривая с матерью в ее покоях, Амлет убивает королевского советника, следящего за ним. Тогда Фенгон отправляет Амлета в Британию в сопровождении двух вассалов – они везут приказ о его казни, начертанный на деревянной табличке, но Амлет, обыскав их карманы, перехватывает послание и, соскоблив написанное, вместо своего вписывает их имена. Затем он возвращается в Данию, мстит дяде за смерть отца и становится королем. Амлет действует согласно кодексу чести и мщения. Герой выходит победителем благодаря своему терпению и хитрости; он действует решительно и сообразно ситуации.
Сага Саксона Грамматика была опубликована на французском языке в переводе-пересказе Франсуа Бельфоре в 1570 году в сборнике «Трагические истории». Даже если Шекспир не читал Саксона Грамматика, он абсолютно точно знал французскую версию. Надо сказать, Бельфоре добавил в текст несколько новых штрихов. Самое важное изменение касается матери Гамлета. Она изменяет королю с его братом еще до убийства. Однако с течением времени королева переходит на сторону Гамлета, хранит его тайну и поддерживает его в борьбе за трон. При этом Бельфоре называет юного мстителя меланхоликом. Характерные черты трагедии мести конца 1580-х годов – такие, как появление призрака, прием пьесы в пьесе, притворное сумасшествие и смерть героя, – скорее всего, привнесены в сюжет анонимным автором елизаветинской эпохи. Из всех героев только Фортинбрас (в начале пьесы он угрожает датчанам вторжением, а в конце, видимо, занимает датский престол), возможно, придуман Шекспиром.
Безусловно, оригинальность пьесы кроется далеко не только в ее сюжете. Шекспир редко придумывал сюжеты – не это занимало его воображение. Новизна шекспировской пьесы проявляется, помимо монологов Гамлета, прежде всего в стилистике трагедии. Сочиняя «Гамлета», Шекспир неожиданно увлекся неологизмами. По сравнению с пьесами других великих драматургов лексикон шекспировских пьес невероятно широк. Грубо говоря, в 4000 строках трагедии Шекспир употребляет такое же количество различных слов (к примеру, словарный запас «Доктора Фауста» и «Мальтийского еврея» в два раза меньше). Тех 14 000 слов, которые Шекспир уже использовал в своих пьесах (на закате творческого пути цифра увеличится до 18 000), для «Гамлета» оказалось недостаточно. Альфред Харт педантично подсчитал, что в «Гамлете» драматург задействовал 600 слов, не встречающихся в его более ранних пьесах; две трети из них ему больше никогда не потребовались. Случай поистине уникальный; пожалуй, к «Гамлету» приближаются лишь «Король Лир» (350 новых слов) и «Юлий Цезарь» – (70 новых слов). Поэтому «Гамлет» был для зрителя местами довольно непрост, ибо такого сложного языка публика в театре еще не слышала – согласно Харту, в тексте пьесы 170 абсолютно новых для английского языка слов, и это либо неологизмы, либо новые значения существующих слов.
Дело, пожалуй, даже не в выборе слов, а в их сочетании – именно поэтому язык «Гамлета» столь замысловат. Очевидно, Шекспир нарочно держит зрителя в постоянном напряжении. Для того чтобы заставить публику думать, он использует, к примеру, такую фигуру речи, как гендиадис. На самом деле она нам хорошо знакома (самые распространенные примеры – «кричать и плакать» или же шекспировское «шум и ярость»), Гендиадис (дословно – «одно через два») означает понятие, выраженное двумя лексическими единицами, отличающимися оттенками значения. Шекспир часто применяет эту фигуру в речи Гамлета. Например, когда Гамлет молит небеса о защите («Angels and ministers of grace defend us!»; I, 4; «Да охранят нас ангелы Господни»! – здесь и далее перевод М. Лозинского); когда говорит об актерах («the abstract and brief chronicles of the time»; II, 2; «они – обзор и краткие летописи века») или о самом себе («Within the book and volume of my brain»; I, 5; «И в книге мозга моего пребудет»); а также когда сетует на судьбу («а fantasy and trick of fame»; IV, 4, «ради прихоти и вздорной славы»). Чем больше вчитываешься в текст, тем сложнее кажется эта фигура. Возьмем, к примеру, выражение «Within the book and volume of my brain». Возможно, зритель и вовсе не обратит внимания на эту фразу, ведь общий смысл ее вполне понятен. Однако разве Гамлет говорит об «уме только как о книге»? Значения слов наслаиваются друг на друга, и «volume», конечно, не только «книга», но и «простор, пространство». Вязь слов запутывает нас. Мы теряемся в хитросплетениях мысли Гамлета.
Использовать гендиадис непросто – почти никто из драматургов до Шекспира или после него не прибегает к нему столь часто. Впрочем, до 1599-го этот прием не слишком интересовал и Шекспира. Однако начиная с «Генриха V» и «Как вам это понравится» драматург стал использовать гендиадис повсеместно. После «Гамлета» он появится во многих других его пьесах, включая «Отелло», «Меру за меру», «Короля Лира» и «Макбета», а затем снова исчезнет. Но нигде присутствие гендиадиса не ощущается столь явно, как в «Гамлете», – по самым скромным подсчетам, он применяется в пьесе 66 раз, то есть в каждой 60-й строке. За «Гамлетом» следует «Отелло» (28 раз). Гендиадис прекрасно отражает дух «Гамлета» – с помощью данного приема Шекспир показывает безысходность общества, стремящегося найти утраченный смысл и преумножить его; в то же самое время драматург предупреждает нас: как бы мы ни стремились скрепить распавшуюся связь времен, ничего не выйдет.
Шекспир поступил со старой версией «Гамлета» так же, как Слуги лорда-камергера с деревянным каркасом Театра, – разобрав по составляющим старый остов пьесы, он целиком собрал пьесу заново. Устаревшей трагедии мести Шекспир придал современное звучание, передав с ее помощью мысль, не дававшую ему покоя (поэтому она так глубоко укоренена в пьесе): мир изменился до неузнаваемости. Старые идеалы ушли в прошлое, а новые еще не прижились. Самый верный способ убедить в этом зрителя – заставить его сравнить двух «Гамлетов»: пусть во время нового спектакля публику неизбежно сопровождает воспоминание о старой пьесе. Вовлекаясь в сюжет, публика, вдруг осознает, что, как и Гамлет, сама пытается примирить непримиримое, связав прошлое и настоящее. Однако ей намного легче справиться с такой сложной задачей, ведь сюжет всем прекрасно знаком. Поэтому зрителю удается, не теряя нити повествования, лучше понять идеи Шекспира и прочувствовать всю глубину созданных им характеров.
Создавая новый тип драматургии, Шекспир иначе распределяет в «Гамлете» амплуа героев. Клаун больше не будет все время отвлекать на себя внимание зрителей. Неслучайно, среди «столичных трагиков» (II, 2), прибывших в Эльсинор, клауна нет – даже после ухода Кемпа из труппы Шекспир так и не забыл об их ссоре. При этом Гамлет абсолютно безосновательно нападает на клаунов, склонных к отсебятине:
А тем, кто у вас играет шутов, давайте говорить не больше, чем им полагается; потому что среди них бывают такие, которые сами начинают смеяться, чтобы рассмешить известное количество пустейших зрителей, хотя как раз в это время требуется внимание к какому-нибудь важному месту пьесы; это пошло и доказывает весьма прискорбное тщеславие у того дурака, который так делает. ( III, 2 )








