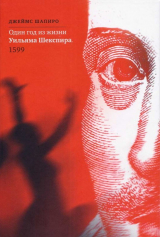
Текст книги "Один год из жизни Уильяма Шекспира. 1599"
Автор книги: Джеймс Шапиро
Жанр:
Литературоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
Скорее всего, в этих словах Гамлета отразились личные размышления Шекспира. В «Гамлете» публика последний раз смеется вместе с клауном кемповского типа. В этой пьесе роль клауна Шекспир поделил между двумя персонажами – шутом-могильщиком (его играл Роберт Армин) и, как ни странно, самим протагонистом (Гамлета исполнял Ричард Бербедж). Словесные поединки, откровенный разговор с публикой, непристойное поведение (во время «Мышеловки» Гамлет отпускает неприличные шутки в адрес Офелии, называя себя «скоморохом»), постоянное фиглярство – все это традиционные черты комического персонажа, которыми Шекспир наделяет трагического героя.
Армин появляется в спектакле только после того, как Гамлет перестает паясничать. Шекспировский могильщик, чьи остроты так памятны зрителю, скорее поет, чем говорит (всего он исполняет четыре песенки). Упоминание о Йорике («Вот этот самый череп, сударь, это – череп Йорика, королевского шута»; V, 1) из уст Первого могильщика – дань уважения Ричарду Тарлтону, первому великому клауну елизаветинского времени, избравшему, как говорят, юного Армина своим преемником. Надо сказать, Армин прекрасно понял замысел Шекспира. Понимая, что исполняет роль второго плана, его герой всегда уступает место Гамлету и никогда не перехватывает у него инициативу.
Уже в XVIII веке Николас Роу, первый биограф Шекспира, знал, что единственная роль, которую Шекспир играл в театре, – роль Призрака в «Гамлете». Слова Призрака, обращенные к Гамлету, – «помни обо мне» – произносил на сцене сам Шекспир. Успехом в театре Бербедж был целиком и полностью обязан Шекспиру. В начале 1590-х Бербеджу, начинающему актеру, часто поручали лишь слова вестника. Через несколько лет Шекспир напишет для него такие судьбоносные роли, как Ричард III и Ромео, но по-настоящему знаменитым он проснется, сыграв Гамлета. Один панегирист, имени которого история не сохранила, вспоминая после смерти Бербеджа в 1619 году, его самые блистательные роли (Ромео и, прежде всего, Гамлета) с особой теплотой описывает сцену, где Гамлет бросается к могиле Офелии:
Кто б ни был он: король ли Лир, печальный Мавр
иль юный Гамлет,
иль Иеронимо, мстительный старик,
иных героев череда… – все умерли в тот миг,
когда его не стало… Сколько раз —
клянусь! – я видел, как бросается в могилу
к возлюбленной так преданно, что верил:
от горя он сейчас же и умрёт!..
Манера игры Бербеджа, описанная панегиристом, в точности соответствует указаниям Гамлета для актеров: «…в смерче страсти вы должны усвоить и соблюдать меру, которая придавала бы ей мягкость <…> сообразуйте действие с речью, речь с действием» (III, 2):
И в каждой пьесе – через монолог,
присвоенные жесты персонажа,
походку, голос и манеры даже, —
давался истинной гармонии урок.
( перевод А. Бурыкина )
Шекспир также сочинил ответ Бербеджа на слова призрака «Помни обо мне». В нем вновь звучат слова надежды и упования, связанные с будущим театра: «Помнить о тебе? / Да, бедный дух, пока гнездится память / В несчастном этом шаре» (I, V).
Разрыв с традицией прошлого проявляется в творчестве Шекспира в неоднозначности оценки, которую он дает таким явлениям современности, как упадок рыцарской культуры, увядание католицизма, уничтожение Арденского леса. Осовременивая устаревшую трагедию мести, драматург находит и в ней подходящий момент, чтобы проститься с прошлым: во второй сцене второго акта Гамлет упоминает старомодный монолог из одной пьесы, который он «особенно любил». В нем рассказывается о том, как Пирр, сын Ахилла, мстит царю Приаму за смерть своего отца. Гамлет с волнением читает по памяти этот текст:
«Косматый Пирр – тот, чье оружье черно,
Как мысль его, и ночи той подобно,
Когда в зловещем он лежал коне, —
Свой мрачный облик ныне изукрасил
Еще страшней финифтью, ныне он —
Сплошная червлень; весь расцвечен кровью
Мужей и жен, сынов и дочерей,
Запекшейся от раскаленных улиц,
Что льют проклятый и жестокий свет
Цареубийству; жгуч огнем и злобой,
Обросший липким багрецом, с глазами,
Как два карбункула, Пирр ищет старца
Приама». ( II, 2 )
Уже в конце XVII века почитатели Шекспира совершенно не понимали смысла этих строк, считая их явным промахом, либо упущением драматурга (монолог якобы заимствован из старой пьесы, и Шекспир поленился его переписать). Джон Драйден вынес самый суровый вердикт: «Возникает ощущение, что грохот и пафос этого монолога напоминают дребежжание старой кареты». Другое высказывание, более позднее, принадлежит Александру Поупу (он также считал, что монолог не принадлежит перу Шекспира): Гамлет, «кажется, хвалит эту пьесу, чтобы показать ее напыщенность». Лишь в конце XVIII века Эдмонд Мэлоун предположил, что монолог Гамлета стилизован под старину. Перечитывая этот текст, осознаешь, какое значение когда-то имел для Шекспира жанр трагедии мести, в котором воплощены идеалы чести, к концу XVI века утраченные. Суть пьесы гораздо яснее, если знаешь: сквозь шекспировский палимпсест все еще проступают следы старой краски.
В последние годы правления Елизаветы англичане почти утратили веру в героические деяния; именно об этом идет речь в шекспировской пьесе. Осенью 1599-го, когда Шекспир писал «Гамлета», ощущение безысходности лишь укрепилось. Лондонцы, едва оправившиеся после довлевшей над ними угрозы испанского вторжения и провала ирландской кампании, снова остро почувствовали тревогу в середине ноября 1599-го, когда власти обрушились на одного из проповедников, открыто осмелившегося заявить с кафедры Собора святого Павла перед многотысячной аудиторией о «провале ирландской кампании». Многие почувствовали напряженность и во время рыцарского турнира в Уайтхолле – без Эссекса и его рыцарей прославление мужества и отваги показалось им еще более искусственным, чем бутафорские щиты для состязаний. Шекспир и другие столичные жители были потрясены тем, насколько жизнь теперь подчинена политике. Той осенью «при дворе, в столице и во всей стране» враги королевы распространяли «безбожную клевету» – в ответ на это Тайный совет решил опозорить Эссекса во время открытых слушаний Звездной палаты. Не веря слухам, Фрэнсис Вудворд, решил удостовериться во всем лично. Во время одного из слушаний Вудворда нещадно толкали со всех сторон (в письме он жаловался Роберту Сидни на «скопление народа и давку»); затем, разбушевавшаяся толпа отбросила его «так далеко, что [он] уже не слышал, о чем шла речь». Генри Уоттон, секретарь Эссекса в Ирландии, писал в Лондон своему другу Джону Донну: «верно, что Ирландия пострадала от злого умысла и попустительства», однако английский двор сейчас «в еще худшем положении». «Двор как таковой, – с горечью замечает он, – самое суетное место на земле». Вот и все, что Уоттон осмелился доверить бумаге. «Больше не скажу ни слова, возможно, я и так сказал слишком много». Осенью Шекспир, удрученный, как и многие другие, политическими событиями, возможно думал так же, как Роланд Уайт: «Настроения нашей эпохи еще дадут о себе знать». Именно об этом, упоминая героические деяния и культуру чести, Шекспир размышляет в «Генрихе V» и «Юлии Цезаре», пьесах, которые, само собой разумеется, не предполагались к исполнению при дворе на Рождество. Удивительно, что именно тогда Шекспир решил осовременить пьесу о пороках двора, проблемах престолонаследия, угрозе вторжения и опасности государственного переворота.
«Вот я один», – с облегчением произносит Гамлет в конце второго акта, избавившись от Розенкранца и Гильдернстерна, актеров и Полония. Это не совсем так – он остается не в одиночестве, а один на один со зрительным залом, и публика слышит, как герой «отводит словами душу» (II, 2). Он откровенен с залом как никто другой до него. Одна из загадок «Гамлета» в том, каким образом Шекспир научился писать столь убедительные монологи, которые еще полгода назад в «Юлии Цезаре» давались ему с трудом:
О, если б этот плотный сгусток мяса
Растаял, сгинул, изошел росой!
Иль если бы Предвечный не уставил
Запрет самоубийству! Боже! Боже!
Каким докучным, тусклым и ненужным
Мне кажется все, что ни есть на свете!
О, мерзость! Это буйный сад, плодящий
Одно лишь семя; дикое и злое
В нем властвует. ( I, 2 )
Шекспир так мастерски воссоздает внутреннее состояние героя, как не удавалось до него ни одному драматургу, – мы понимаем, что Гамлет тщетно пытается собраться с мыслями. В других, более ранних произведениях Шекспира, нам встретится немало ярких монологов, но какое бы сильное впечатление они ни производили, им не хватает той глубины, того погружения в себя, какие присущи монологам Гамлета. Когда Шекспир работал над «Гамлетом», огромное влияние оказало на него знакомство с новым литературным жанром той эпохи – эссе. Хотя, безусловно, и без него Шекспир рано или поздно нашел бы новый способ обновить жанр монолога.
Англичане открыли для себя Монтеня лишь в конце 1580-х годов. Когда Монтеню было уже под сорок, он покинул суетный мир, раздираемый религиозными войнами, ради уединения; погрузившись в чтение и созерцание, философ открыл новый жанр – эссе, главное действующее лицо которого – сам автор. Первые два тома «Опытов» Монтеня были опубликованы во Франции в 1580 году. Наверное, Шекспир мог бы прочитать их еще в начале своего творческого пути, так как владел французским языком, но этого не случилось. Монтень увлек Шекспира и его современников лишь на исходе века – времени, исполненного скептицизма и, в то же время, глубинного интереса к субъективному началу, то есть к «я».
Эссе Уильяма Корнуоллиса, одного из первых подражателей Монтеня в Англии, не только объясняют своевременность обращения англичан к Монтеню, но и дают понять, что привлекло Шекспира в новом жанре и как он отразился в монологах Гамлета. В возрасте 21 года Корнуоллис вызвался воевать в Ирландии в рядах армии Эссекса. Он вернулся домой осенью 1599-го, получив во время кампании рыцарский титул. Внутренне сломленный и утративший вкус к жизни, он нашел себя в писательстве. Еще несколько лет назад – даже, пожалуй, год назад – Корнуоллис выбрал бы для себя жанр сонета, тогда невероятно популярный. Однако в конце 1599 года он увлекся новым модным жанром. Нам сложно представить себе времена, когда не было ни дневниковых записей, ни эссеистики, и люди не задумывались о субъективном опыте, о своем «я». Но в 1600 году, когда сборник Корнуоллиса, состоящий из 25 эссе, вышел в свет (еще 25 будут опубликованы годом позже), даже сам термин был англичанам в новинку. Корнуоллис открыто заявил: своими эссе он обязан Монтеню, однако его французский настолько плох, что при чтении эссе французского философа он опирался на перевод; фамилию переводчика он назвать затруднился. Возможно, он имеет в виду Джона Флорио, чей блистательный перевод эссе Монтеня на английский язык появился в 1603 году; в 1598-м работа над ним как раз шла полным ходом. А может быть, речь идет о его сопернике, одном «из семи-восьми великих остроумцев», который, как пишет Флорио, так и не сумел завершить свой перевод. Слова Флорио (у нас нет оснований им не доверять) лишь подтверждают необычайный интерес англичан к переводу «Опытов» Монтеня.
Англичане далеко не сразу оценили эссе по достоинству. В начале XVII века вышло несколько других сборников, после чего наступило затишье и, вплоть до XVIII века, ничего выдающегося в этом жанре создано не было. Так как эссе Корнуоллиса сегодня почти неизвестны, стоит, пожалуй, привести из них несколько отрывков. В словах Корнуоллиса временами проступает гамлетовское начало – его герой ощущает душевный разлад. Проговаривая одну и ту же мысль снова и снова, он часто сетует на невозможность примирить непримиримое:
Гнев – отец несправедливости, и все-таки справедливость часто вынуждена заискивать перед ним, исполнять все его поручения; сражаясь за свои убеждения, справедливость часто отдает ему свою победу. Восстановить согласие между ними никак нельзя; тем не менее, ради правды и милосердия я буду бороться против общепринятых правил. Я думаю, в государстве суровое наказание полагается только за убийство. ( «О терпимости» )
Ничто не причиняет мне столько душевных терзаний, сколько несправедливость. ( «О терпимости» )
Мое тело и разум находятся в постоянном разладе. Оба упрямо стремятся к своей цели, и я не могу в этом их винить: как только одно побеждает, другое тут же сдает позиции. Моя душа требует созерцания и побуждает меня к размышлениям, тогда как мое тело этого не понимает, призывая к действию. Оно говорит мне, что не подобает, будучи земным созданием, отказываться от радостей грешного мира, настаивая на том, что в созерцании я совершенно бесполезен для своей страны. Его не устраивают никакие убедительные доводы, даже горние. Я постоянно стараюсь примирить одно с другим, потому что мне ни в чем не было успеха, когда я пытался их разъединить. Однако Земля и Небо никогда не соединятся, ибо это невозможно. ( «О жизни» )
Тот, кто говорит: «Он живет достойно», слишком добр ко мне, ибо я живу для того, чтобы отточить мой разум и излечить тело от врожденных пороков. Я должен действовать решительно, как того требует мое происхождение. ( «Об образе жизни» )
Мы постигаем мир благодаря разуму, ибо в маленькой черепной коробке мы способны уместить многое – все этапы человеческой жизни, все поступки, все знания; благодаря нашему маленькому сокровищу мы отдаем распоряжения, контролируем ход событий, выносим решения – осуждаем человеческие качества и поступки, государственную политику, перевороты и войны – одним словом, действия всех актеров, занятых в театре человеческой жизни. ( «О советах» )
Тексты Корнуоллиса ходили в списках, и, возможно, он читал их вслух горячим поклонникам и «близким друзьям» – точно так же, как Шекспир свои сонеты. По объему эссе Корнуоллиса меньше двух тысяч слов – идеально для чтения вслух. Издание 1600 года было столь компактно, что легко умещалось в кармане, – читатель всегда мог носить книгу с собой.
Корнуоллис называет эссе набросками и сравнивает себя с писцом, «расписывающим перо, прежде чем красиво и четко переписать текст». Сэмюэл Джонсон позднее так отозвался об этом жанре: «Необдуманное спонтанное сочинение, сплошная вольность ума». Безусловно, эссе Корнуоллиса – огромный шаг вперед после тех десяти текстов, что Фрэнсис Бэкон опубликовал в 1597 году, – самых первых эссе, написанных на английском языке. Для своего сборника Бэкон использовал название книги Монтеня (возможно, он узнал о нем от своего брата, Энтони Бэкона, который состоял с французским философом в переписке), однако его ранние опусы лишены личного начала, четко структурированы. В них нет той игры ума или импровизации, что отличает эссе Корнуоллиса, не говоря уже о Монтене. Они появятся лишь в поздних редакциях эссе Бэкона, когда, изменив отношение к этому жанру, он решит усовершенствовать свои тексты. Если бы мы не знали название сборника Бэкона, нам бы и в голову не пришло считать их таковыми.
Эссе Корнуоллиса, исполненные иронии, самокритики, искреннего желания поделиться с читателем своими переживаниями, во многом автобиографичны, даже когда автор выходит на рамки личного опыта. Корнуоллис опечален неудачами в Ирландии и интригами при дворе. Возможно, он возлагал на поход в Ирландию слишком большие надежды, и потому, вернувшись назад, предался скептицизму, подобно Джону Харингтону и другим участникам войны.
Растерянность Корнуоллиса особенно ощущается в эссе «О решимости»: «Мир движется неведомо куда, и я не знаю, что мне делать». Сходство душевной организации героя Корнуоллиса и Гамлета несомненно. В источниках шекспировской пьесы у Гамлета монологов нет; Шекспиру они нужны отнюдь не для развития сюжета. Подобно Хору в «Генрихе V», монологи нарочно замедляют действие. И, тем не менее, именно они помогают понять суть пьесы. Вряд ли Шекспир читал эссе Корнуоллиса до того, как взялся за трагедию; сколь ни заманчиво подобное предположение, эссе и трагедия написаны примерно в одно время. В лучшем случае Шекспир слышал об эссе Корнуоллиса или прочитал хотя бы те из них, что ходили в списках.
Если даже такой неофит, как Корнуоллис, легко отыскал «Опыты» Монтеня, то Шекспиру, который, конечно, мог достать любую книгу или рукопись, не составило бы труда найти эссе Монтеня. Он скорее всего познакомился с Монтенем еще до того, как начал «Гамлета» (доверимся здесь мнению критиков, писавших об этом с 1830-х годов), однако ему совершенно не было нужды перефразировать Монтеня или заимствовать его идеи. Он и без «Опытов» мог, к примеру, прийти к такому выводу: «…нет ничего ни хорошего, ни плохого; это размышление делает все таковым…» («Гамлет», II, 2). Сравним у Монтеня: «Наше восприятие блага и зла во многом зависит от представления, которое мы имеем о них» («Опыты», т. 1, глава 14; здесь и далее перевод Г. Косикова). В последние годы правления Елизаветы в Англии царили подозрительность и напряженность, а в 1599 году эти настроения лишь усилились – Шекспир чувствовал это как никто другой.
Шекспира интересовали скорее не философия и стиль письма Монтеня, но устройство эссе как такового: гибкость и парадоксальность мышления, быстрая смена предмета обсуждения, доверительность интонации («Содержание моей книги я сам», – говорит Монтень в Предисловии к «Опытам»). Другие лондонские драматурги, в том числе Бен Джонсон, Джон Уэбстер и Джон Марстон, тоже вскоре обратились к жанру эссе. К примеру, в «Вольпоне» у Джонсона леди Политик сравнивает популярность одного итальянского поэта с популярностью Монтеня:
Англичане —
Писатели, что знали итальянский,
У этого поэта воровали,
Пожалуй, столько же, как у Монтеня.
( III, 4; перевод П. Мелковой )
Подобно сонетам и пьесам, эссе сочетает в себе живую разговорную речь с речью литературной, личные размышления автора с общепринятыми представлениями. Увидев, насколько эссеист искренен с читателем, Шекспир задумался, не использовать ли этот прием в пьесах, – ни в одном другом жанре, даже в сонете, герой настолько не откровенен, как в эссе. Кроме, разве что, монолога. Гамлет хочет выговориться – эта потребность в нем сильнее, чем у любого другого героя. Но он не знает, кому излить душу. В пьесах Марло и Джонсона всегда есть персонаж, с которым главный герой может поговорить: у Вараввы – Итамор («Мальтийский еврей»), у Фауста – Мефистофель («Трагическая история…»), у Вольпоне – Моска, его приживал («Вольпоне») и т. д. Герои Шекспира, будь то Брут, Генрих V и т. д., – одиночки. Гамлет – в особенности (даже Горацио, всецело ему преданный, не способен до конца его понять).
Старые друзья, Розенкранц и Гильденстерн, шпионят за ним. Гертруда зависит от Клавдия, и потому не заслуживает доверия сына. Отношения Гамлета с Офелией еще более сложны. Было время, до убийства отца, когда он верил ей, – письмо Гамлета к Офелии подтверждает это. Полоний читает его вслух королю и королеве – «Небесной, идолу моей души, преукрашенной Офелии…»:
Не верь, что солнце ясно,
Что звезды – рой огней,
Что правда лгать не властна,
Но верь любви моей. ( II, 2 )
Как это оскорбительно – слышать, как читают вслух это неумелое стихотворение! Передав письмо Гамлета отцу, Офелия, «послушливая долгу» (II, 2), по сути, предает Гамлета. Она явно не понимает, какую опасность таит в себе публичная огласка этого письма, в котором Гамлет открывает ей свою душу. Иными словами, «кто же будет продолжать писать, если его письма перехватывают и вскрывают, истолковывая их содержание как заблагорассудится?» (из размышлений Джона Харингтона о слежке в Англии).
Эта сцена в «Гамлете» заставляет нас вспомнить о другой – из комедии «Как вам это понравится». Ее герой, Орландо, изливает душу на бумаге, сочиняя сонеты. И Орландо, и Гамлет со временем оставляют это занятие. В начале пьесы мы видим Гамлета, еще не притворяющегося сумасшедшим, однако уже в первом монологе Гамлета чувствуется пропасть между Гамлетом из прошлого, любившем Офелию, и Гамлетом теперешним. Птоломеевская система, на которую опирается в своих размышлениях Гамлет, в конце XVI века была вытеснена коперниканской, о чем Шекспир хорошо знал: звезды – не «рой огней», а солнце не вращается вокруг земли. В нашем мире истинное легко становится ложным. У Офелии есть все основания сомневаться в том, что Гамлет любил ее. Мы понимаем, почему Гамлет больше не доверяет Офелии и не может больше изливать ей душу. Поэтому единственным собеседником Гамлета становится зритель. Возможно, самая большая тайна монологов этого героя – не глубина его душевного познания, а, наоборот, открытость Гамлета миру, умение установить близкий контакт с аудиторией и заставить зрителя смотреть на мир его глазами.
Горацио, исполняя предсмертную волю Гамлета, готов поведать миру его историю:
…то будет повесть
Бесчеловечных и кровавых дел,
Случайных кар, негаданных убийств,
Смертей, в нужде подстроенных лукавством,
И, наконец, коварных козней, павших
На головы зачинщиков. Все это
Я изложу вам. ( V, 2 )
Сходство между жанром эссе и монологом не исчерпывается чувством вселенской тоски или глубиной самораскрытия героя. Прежде чем Шекспир наконец обратился в своем творчестве к жанру трагедии, прошло почти десять лет. Он начинал с комедий и хроник, пытаясь освоить эти жанры. Девять комедий и девять хроник, написанных им в 1590-е, – прекрасное свидетельство того, как глубоко он исследовал их природу и те новые возможности, что они открывали для драматургии. До 1599 года жанр трагедии был ему скорее чужд, – исключение составляют лишь «Тит Андроник», ранняя трагедия мести, и сонетная трагедия «Ромео и Джульетта» (обе были горячо приняты зрителем); однако ни одна из них так и не приблизила Шекспира к пониманию этого жанра.
В третий раз Шекспир задумался о жанре трагедии, обратившись к «Юлию Цезарю». Новизна построения монолога проглядывает уже в двух монологах Брута:
Да, только смерть его: нет у меня
Причины личной возмущаться им,
Лишь благо общее. Он ждет короны;
Каким тогда он станет – вот вопрос.
<…>
Меж выполненьем замыслов ужасных
И первым побужденьем промежуток
Похож на призрак иль на страшный сон. ( II, 1 )
Услышав размышления героя, мы понимаем, какой разлад поселился в его душе, – другие герои, обращаясь в зал, никогда не говорили со зрителем столь откровенно: ни Джульетта, ни Ричард III, ни даже Фальстаф. В «Юлии Цезаре» Шекспир нащупал новый путь развития трагедии, основанный на внутреннем противоречии, терзающем героя; именно так он будет писать последующие шесть лет. Однако после двух небольших монологов Брута Шекспир не стал дальше углублять внутренний конфликт, сконцентрировавшись на конфликте внешнем, – трагических отношениях Брута и Цезаря; во второй части пьесы и он теряется в общей сюжетной канве – в сценах, где заговорщики сами оказываются жертвами собственного заговора.
Елизаветинская драматургия восходит к жанру моралите, суть которого – борьба между добром и злом. Следы назидательной традиции все еще видны в образах злого и доброго ангелов, борющихся за главного героя в «Трагической истории…» Марло. Похожие образы, только без религиозной подоплеки, встречаются в таких шекспировских пьесах, как «Генрих VI» (третья часть), где показано противоборство двух домов – Йорков и Ланкастеров, «Тите Андронике» (в этой пьесе до конца не ясно, кто с кем воюет, – готы с римлянами или римляне между собой) и «Ромео и Джульетте» (трагическое столкновение домов Монтекки и Капулетти). В пьесах, написанных Шекспиром в 1599 году, чувствуется желание драматурга вырваться за пределы условности жанра, обновить тип конфликта. Уже в «Генрихе V» Шекспир, в отличие от своих предшественников, делает главным источником конфликта не соперничество между королем Генрихом и французским дофином, а противоречие между тем, как трактует события Хор, и тем, что мы действительно видим на сцене. В «Как вам это понравится» Шекспир отказывается от персонажей, препятствующих, как принято в жанре комедии, счастью влюбленных, будь то родители девушки или герой-соперник: отношениям Орландо и Розалинды препятствует сам Орландо – ему еще предстоит понять, что такое любовь.
В «Гамлете» Шекспир наконец нашел наиболее убедительный способ выразить глубинный внутренний конфликт, мучающий героя. Для этого прекрасно подошел жанр монолога: Гамлет, как и Брут, постоянно задается вопросами, на которые нет ответа. Страдания Гамлета тем сильнее, что он живет в мире Постреформации, обуреваемом социальными, религиозными и политическими противоречиями, – именно поэтому так часто говорят: в «Гамлете» во всей полноте отразился дух эпохи. Читатель обескуражен событиями пьесы, ибо многого не понимает: действительно ли Гамлет медлит и почему? кто же настоящий наследник престола – он или его дядя? не слишком ли поспешно Гертруда вступает в брак и не кровосмесителен ли ее новый союз с Клавдием? как трактовать смерть Офелии?
Шекспировский Гамлет пытается размотать клубок этических проблем прежде, чем начать действовать, – именно этим объясняется его мнимое бездействие, а вовсе не нарушенным равновесием между мыслью и поступками, как полагал Колридж, и не Эдиповым комплексом, по Фрейду. Гамлет размышляет над дисгармонией мира; кульминация его размышлений – монолог «Быть или не быть» (II, 2): стоит ли жить дальше, когда все кажется «докучным, тусклым и ненужным» (I, 2)? Может ли страх, что он испытывает перед загробным миром, помешать ему совершить самоубийство? Действительно ли представший перед ним Призрак – дух умершего отца или, может быть, это дьявол, который, как полагали протестанты, не верившие в существование Чистилища,
властен
Облечься в милый образ; и возможно,
Что, так как я расслаблен и печален, —
А над такой душой он очень мощен, —
Меня он в гибель вводит. ( II, 2 )
Отмщение – дело рук человека или воля небес? Стоит ли убивать Клавдия во время молитвы, ведь, получив отпущение грехов, его душа попадет на небеса? В каком случае оправдано убийство тирана и что будет, если Гамлет не выполнит свое предназначение?
Безусловно, «Гамлет» ознаменовал новый шаг в шекспировской драматургии. Редактируя первый вариант «Гамлета» (об этом речь подробнее пойдет в следующей главе), Шекспир, осознал, что зашел слишком далеко, и переписал ряд сцен, чтобы добиться равновесия. Наконец-то он нашел свой путь к трагедии, который скоро приведет его к Отелло и Макбету, – героям, утратившим спокойствие духа. Обновление жанра трагедии мести, подсказанное жанром эссе, также открывает Шекспиру путь к мрачным проблемным комедиям, созданным уже во времена правления короля Якова, – «Мера за меру» и «Все хорошо, что хорошо кончается»; в них Шекспир использует вместо привычных внешних препятствий внутренний конфликт, – душевный разлад не дает покоя ни Изабелле, ни Бертраму.
Глава 15
Переосмысление

Шекспировский «Гамлет», и это не раз отмечалось исследователями, – невероятно длинная пьеса. Для постановки в Глобусе трагедию наверняка сокращали (размер второго кварто – 4000 строк, оно полностью совпадает с первой редакцией, 1599). Версия Первого Фолио (идентична второй редакции, 1599) на двести строк короче, но и она для спектакля не подходила. Играй актеры полный текст, им потребовалось бы не меньше четырех часов при том, что в елизаветинском театре не было ни антрактов, ни смены декораций. Даже если актеры говорили очень быстро, за час они произносили не больше тысячи строк. Спектакли в Глобусе начинались в два часа дня; если бы, скажем, на исходе зимы или ранней осенью, когда солнце садилось около пяти часов вечера, Слуги лорда-камергера исполняли пьесу целиком, им пришлось бы играть сцену с могильщиками (V акт) практически в потемках, равно как и поединок Лаэрта и Гамлета, что – в таких условиях – было отнюдь небезопасно.
В Прологе к «Ромео и Джульетте» Шекспир напоминает зрителю: актеры будут занимать внимание публики в течение двух часов. Бен Джонсон, пожалуй, чуть точнее определил длительность постановок тех лет – в «Варфоломеевской ярмарке» сказано, что спектакль продолжается около двух с половиной часов. Во второй сцене II акта Полоний рассуждает о «неопределенных сценах и необъятных поэмах»; шекспировский «Гамлет» и есть та самая «poem unlimited». За десять лет работы в театре Шекспир понял, какая по размеру пьеса идеально подходит для постановки и легко мог вписаться в объем: в «Юлии Цезаре» – 2500 строк, в «Как вам это понравится» – 2800. По-другому и быть не могло – учитывая особенности театра тех лет, драматург бы ничего не выиграл, сочини он текст больше нужного объема.
Публикация трагедии вряд ли интересовала Шекспира больше, чем ее театральная постановка, – не этим объясняется размер шекспировской трагедии, каким бы заманчивым такое объяснение нам ни казалось. Если бы Шекспир хотел опубликовать «Гамлета», он поступил бы как Бен Джонсон со своей пьесой «Всяк вне своего гумора», недавно ушедшей в печать. На титульном листе Джонсон просил указать свое имя, а также написать, что публикуемая версия комедии длиннее, чем та, что звучит в спектакле Слуг лорда-камергера. И то, и другое было для XVI века новшеством. Книга Джонсона прекрасно продавалась, став бестселлером, – менее, чем за год она переиздавалась дважды. Шекспир, однако, не торопился с публикацией «Гамлета» и словно не задумывался о литературной судьбе своего текста. Даже пиратская версия «Гамлета» выйдет только в 1603 году.
Ранние редакции «Гамлета» говорят о том, что Шекспир не спешил и с постановкой. Ему явно нравился сам процесс работы над трагедией. Такое мог себе позволить далеко не каждый автор тогдашнего времени – как пайщик театра и основной драматург Глобуса Шекспир имел особые привилегии. Однако после «Гамлета» он не решится написать еще одну длинную пьесу, которая требует большой переработки для сцены; так долго, как «Гамлета», Шекспир будет редактировать разве что «Короля Лира». Возможно, пайщики даже освободили Шекспира от репетиций и спектаклей, чтобы он мог спокойно заниматься «Гамлетом», – Шекспира нет в списке актеров, задействованных осенью 1599-го в постановке комедии Джонсона «Всяк вне своего гумора», хотя за год до этого фамилия Шекспира значится среди исполнителей другой комедии Джонсона – «Всяк в своем гуморе» одной из первых.
Различия в первой и второй редакциях «Гамлета» существенны и потому, что раскрывают процесс работы Шекспира над трагедией, а также позволяют понять, почему драматург решил пересмотреть ход развития сюжета и изменить характер главного героя, добавив ему решительности. Среди литературоведов нет единого мнения о том, как трактовать отдельные расхождения двух версий «Гамлета» и каково их соотношение. В этой главе я кратко, не вдаваясь в детали (чтобы полноценно осветить вопрос обо всех расхождениях разных редакций пьесы потребовалось бы написать по меньшей мере несколько томов), расскажу о самых важных изменениях, которым в литературоведении есть веское обоснование.








