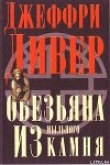Текст книги "Танцор смерти. Дорога домой. Полет орлов. Исав"
Автор книги: Джеффри Дивер
Соавторы: Дебора Смит,Джек Хиггинс,Филип Керр
Жанры:
Современные любовные романы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
– Закс... риск слишком велик!
– Риск – благородное дело, – ответила она, глядя ему в глаза. Затем выпрямилась и пошла к выключателю.
– Стой, – окликнул ее Райм и отдал команду компьютеру: – Выключить свет.
Комната погрузилась в темноту.
* * *
ДЖЕФФРИ ДИВЕР
«Свою первую книгу я написал в 11 лет, – заявил Джеффри Дивер на недавней интернет-конференции. – Книгу я писал два дня, а потом целый месяц разрисовывал ее обложку». Затем в писательской карьере Дивера наступил значительный перерыв, за время которого он успел окончить юридический факультет и поработать адвокатом. Возобновив литературную деятельность, Дивер создал 14 детективных романов, в числе которых и такие всемирные бестселлеры, как «Могила девы» и «Собиратель костей». Во время конференции один из читателей посетовал, что, взявшись за книгу Дивера, не может уснуть, пока не дочитает ее до конца. На что писатель ответил: «Для того я и пишу».
ДОРОГА ДОМОЙ
Дебора Смит
Рони Салливана никогда не было дома. У Клэр Мэлони всегда были и дом, и большая любящая семья.
Еще детьми Рони и Клэр полюбили друг друга. Их чувство прошло испытание горем и долгой разлукой.
В конце концов любовь помогла им найти одну, общую для обоих дорогу домой.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Пролог
Я предполагала, что со временем стану эдакой пожилой дамой, из тех, что беседуют с помидорными кустами и покупают своим кошкам свитерочки. Мне едва исполнилось тридцать, но, зная, кто я и откуда, я могла прикинуть, что из меня получится. Старушка со странностями, которая красит губы алой помадой и рассказывает правдивые истории про свою семью. Обо мне бы говорили: «Да, да, она всегда была немного не в себе. Вы понимаете, что я имею в виду».
Я представляла себе, как буду сидеть в кресле-качалке на веранде дома для престарелых журналистов, особняка, стилизованного под середину прошлого века, потягивать бурбон с кока-колой и рыдать о Роне Салливане. В последний раз я его видела, когда мне было десять лет, а ему пятнадцать. С тех пор прошло двадцать лет, но я всегда о нем помнила и знала, что не забуду никогда.
– Хочется верить, что у Ронни жизнь сложилась, – время от времени начинала мама, а отец, опуская глаза, кивал, и тему закрывали. Они чувствовали себя виноватыми в том, что приложили руку к изгнанию Ронни, и знали, что я не могу их простить. В остальном мы прекрасно понимали друг друга, что для меня было очень важно, особенно после того, как прошлой весной меня привезли из больницы домой – я тогда чувствовала себя безнадежной неудачницей.
Два моих старших брата, Джош и Брейди, о Роне вообще не говорили. Когда Рон Салливан жил у нас, они учились в колледже и дома бывали редко. Но два других брата вспоминали о нем всякий раз, подстрелив на охоте оленя.
– Этот в подметки не годится тому, что завалил Рон Салливан, когда мы были мальчишками, – говорил Эван Хопу.
– Да уж, – мрачно вздыхая, соглашался Хоп. – Тот был всем оленям олень. – Чем меньше были рога у их добычи, тем больше они убивались.
Что до остальных родственников – и с папиной, и с маминой стороны ветви фамильного древа были такими спутанными, а корни такими глубокими, что оно походило на старый развесистый дуб, – то для них Рон Салливан был размытым отражением их собственных предубеждений, сожалений, пристрастий. Насколько хорошо они его помнили, зависело от того, как они воспринимали ту, прошлую жизнь и себя тогдашних. Большинство из них избегали этих болезненных воспоминаний.
Но мы с Роном остались навсегда вместе, примером живым и трагическим – именно так нас запомнили жители нашего маленького, затерянного в горах Джорджии городка, где люди хранят память о грустном так же бережно, как прабабушкин фарфор. Кстати, стекло и фарфоровый сервиз моей прабабки сложены в сундуке на чердаке у родителей. Мама в глубине души лелеяла надежду, что когда-нибудь они мне пригодятся, что ее единственная из пятерых детей дочь чудом превратится-таки в настоящую даму, из тех, что ставят на стол фарфор, а не пластмассу.
Да, надежда была... Но то, что произошло с Роном Салливаном и со мной, изменило и мою жизнь, и мою семью. Именно благодаря ему мы увидели себя такими, какими были на самом деле, людьми одновременно добрыми и жестокими, а сочетание это столь же неразделимо, что и узы крови, брака, времени. Я пыталась его спасти, а вышло так, что он спас меня. Его уже двадцать лет как могло не быть на свете – тогда мне ничего не было об этом известно, – но я знала, что из-за него жизнь моя замкнется в заколдованный круг: я всегда буду ждать его возвращения.
Самые тяжелые воспоминания – о том, чего так и не случилось.
Глава первая
Началось все в тот год, когда на карнавале в День Святого Патрика я танцевала чечетку в костюме гнома-лепрекона, а Ронни Салливан приставил ржавый перочинный ножик к горлу моего кузена Карлтона. В том же году распались «Битлз», солдаты Национальной гвардии застрелили четверых студентов Кентского университета, а Джош из Вьетнама писал Брейди, кончавшему школу: «Только не вздумай идти добровольцем. Во всем этом дерьме нет ничего патриотического».
Мне тогда было всего пять лет. Я жила в мире замкнутом, самодостаточном, обеспеченном, очень южном, крепко-накрепко связанном с землей и с семьей, – все мои родственники были потомками ирландских иммигрантов, поселившихся в Джорджии лет сто тридцать назад. Я чувствовала себя в центре жизни, события которой разбегались вокруг меня ровными кругами.
На карнавале в День Святого Патрика, который устраивали у старого загородного павильона, семейство Джейси торговало сандвичами, печеньем и пуншем, разложенными на столиках неподалеку от сооруженной в павильоне сцены. Оркестр «Даун маунтин бойз» играл блуграсс, а младшая группа танцевальной студии моей тетушки Глории, наряженная в костюмы лепреконов, била чечетку.
Мама фотографировала меня за этой каторгой. Танцы не были моим призванием. Я вечно сбивалась с ритма и к тому же терпеть не могла коллективных выступлений, предпочитая быть сама по себе.
Мои подружки под аккомпанемент пластинки с каким-то ирландским танцем прошаркали наш последний номер. Я посмотрела в зал и увидела в толпе у самой сцены высокого десятилетнего мальчишку, неряшливо одетого, с грязными темными волосами. Рон Салливан. Ронни. Даже в маленьком городке каждый занимает определенное место на крутой общественной лестнице. Мои родители стояли на самом верху. Ронни и его отец – на ступеньках в подвал.
Он смотрел на меня совершенно серьезно, словно я вовсе не вела себя как полная дурочка. Я умудрилась дважды наступить на ногу своей кузине Вайолет, а кузину Ребекку пихнула локтем, и поэтому вокруг меня образовалась пустота.
Я забыла про свои неуклюжие руки-ноги и уставилась на Ронни Салливана – я впервые видела вблизи сына мерзкого и ужасного Большого Рона Салливана из Салливановой ложбины. Наша семья с Роном Салливаном не общалась, хоть они с Ронни и были нашими ближайшими соседями, так как жили на Соуп-Фоллз-роуд милях в двух от нашей фермы.
Все знали, что Ронни Салливан – из отбросов общества, таким он родился, так выглядел, и даже пахло от него, как от отбросов – поэтому и в толпе люди старались держаться от него подальше. Может, это была одна из причин, почему я глаз с него не сводила.
Мой кузен Карлтон стоял в полуметре от Ронни, как раз между ним и столом Джейси. Среди родственников встречаются такие, которых переносишь с трудом, и Карлтон Малоуни принадлежал к их числу. Ему было лет двенадцать, он был воображалой и вечно надо мной смеялся.
Я заметила, как он оглянулся – раз, другой. Около коробки из-под обуви, которую использовали вместо кассы, лежала пара долларовых бумажек. Карлтон протянул руку, схватил деньги и сунул их в карман брюк.
Я глазам своим не поверила. Он украл деньги у семейства Джейси! У своего собственного дяди! Нас с братьями с пеленок приучали к честности, мы бы и пенни не стащили из чашки с мелочью, стоявшей у папы на комоде. Воровство – страшный грех.
Дядя Дуэйн взглянул на стол, нахмурился, пошарил между коробками с печеньем, а потом, наклонившись к Карлтону, что-то ему сказал. Карлтон отпрянул назад и, помотав головой, указал на Ронни.
Я остановилась как вкопанная. Папа замахал руками, словно я – напуганный теленок, которого надо расшевелить. Ничем я не была напугана. Я была в ярости.
Дядя Дуэйн, выпятив челюсть, метнулся к Ронни и схватил его за руку. Я видела, как дядя Дуэйн что-то грубо ему сказал, и Ронни насупился.
Потом Ронни взглянул на Карлтона, бросился на него и, швырнув наземь, повалился сверху. Зрители с визгом кинулись врассыпную.
Дядя Дуэйн пытался оттащить Ронни от Карлтона, но Ронни его не отпускал. Одной рукой он вцепился Карлтону в свитер, а другую, в которой был зажат ржавый перочинный ножик, держал у самого его горла.
– Не брал я никаких денег! – орал Ронни. – Ты все врешь!
В дело вмешался мой папа. Уперевшись коленом в спину
Ронни, он выхватил у него нож и одним рывком поставил мальчишку на ноги.
– Где деньги? – грозно спросил дядя Дуэйн.
– Не брал я никаких денег, – прошамкал Ронни. Передний зуб у него был сломан.
– Нет, брал! – завопил Карлтон. – Я сам видел! Все знают, что ты вор. Как твой папаша!
– Ронни, верни деньги, – сурово сказал ему папа.
– Да нету их у меня.
Я была зажата в проходе и подойти не могла, но видела, какое отчаянно-воинственное у Ронни лицо.
Но он не вор.
Не доноси на Карлтона. Малоуни всегда должны держаться вместе.
Нет, так нечестно!
– Он не брал денег, – сказала я громко. – Это сделал Карлтон. Пап, я все видела!
Все уставились на меня. Я поймала настороженный и удивленный взгляд Ронни. Эти глаза, они словно горели огнем.
Карлтон залился пунцовой краской. Дядя Дуэйн сунул руку ему в карман и вытащил две смятые бумажки.
Вот и все. Дядя Дуэйн велел Карлтону привести родителей, дядю Юджина и тетю Арнетту.
– Давай иди отсюда, – сказал папа, отпуская Ронни.
– Он же вытащил нож, Холт, – сказал за моей спиной дядя Пит.
Папа нахмурился.
– Да таким ножиком и бумажного мешка не разрезать. Пит, забудь об этом. Ну, что стоите, расходитесь!
Ронни не сводил с меня глаз. В них было и удивление, и благодарность, и искорка подозрения •– взгляд его жег меня словно огнем. Папа взял Ронни за шиворот и потащил в сторону. Я ринулась за ними, но мама, успевшая пробраться сквозь толпу, взяла меня за руку.
– Уймись, Клэр Карлин Малоуни. Ты уже выступила.
Я изумленно взглянула на нее. Хоп с Эваном не сводили с меня глаз, а Вайолет и Ребекка так и стояли, открыв рты. Весь клан Малоуни на меня уставился.
– Карлтон поступил гадко, – объяснила я наконец.
Мама кивнула.
– Ты сказала правду. Молодец. Я горжусь тобой.
– А ты случайно не боишься Ронни Салливана? – выпалила Вайолет.
– Он не смеялся, когда я танцевала. По-моему, он хороший мальчик.
– Странные ты делаешь выводы, – сказал Эван.
– Похоже, у нее не все дома, – добавил Хоп.
В тот раз я поняла, что Ронни – не просто из тех, кого называют отбросами, не просто другой. Я поняла, что он опасен и, если я буду вставать на его сторону, наверняка заработаю репутацию смутьянки и подозрительной личности.
Он очаровал меня раз и навсегда.
Мало кому известно, что в Джорджии есть такой городок, Дандерри. На потрепанной, залитой кофе дорожной карте, лежавшей в бардачке нашего пикапа, отыскать его было непросто. Атланта была отмечена жирной звездочкой, Гейнсвилл – кружком, а Дандерри просто точкой. Мы жили на дюйм левее Гейнсвилла и на полтора дюйма выше Атланты. В городке царили тишина и покой. Уютная маленькая площадь перед зданием суда, улочки, утопающие в зелени, чудесные старинные дома, огромные фермы в лесистых долинах, а вокруг – готическими соборами возвышавшиеся горы, наши верные стражи.
Мама, урожденная Делейни, стала в замужестве Малоуни, другими словами, оказалась членом двух старейших семейств Дандерри. Ее прапрадед Глен и прабабка Фиона Делейни эмигрировали из Ирландии в 1838 году, в один год с семейством Малоуни. Но в отличие от Малоуни, неграмотных фермеров-арендаторов из ирландской глубинки, они были людьми довольно образованными, лавочниками. И, что самое важное, Делейни были протестантами, а предки отца, Малоуни, католиками.
Делейни и Малоуни никогда друг на друге не женились – мешала гордость, разница в происхождении, религия, хотя все они в конце концов стали людьми обеспеченными, демократами и методистами. И только сто с лишним лет спустя мои мама с папой нарушили устоявшиеся традиции.
Мой прапрадедушка, Говард Малоуни, на месте старой бревенчатой хижины построил дом, в котором я выросла. Там родились мой дедушка Джозеф Малоуни и пять его братьев, там родился отец и все шестеро его братьев и сестер.
Каждое из поколений добавляло к этому сундуку с приданым что-то новое. К тому времени как на свет появились мы с братьями, в доме было десять спален, четыре ванные комнаты и три камина, а к основному зданию, двухэтажному, были пристроены две широкие веранды. Дом располагался в самом центре долины Эстато, окруженной лесистыми холмами. Это была вотчина семейства Малоуни.
Домашние дела лежали на маме. У нее все всегда было в идеальном порядке. Кровати застелены, одежда починена, серебро начищено, в вазах свежие цветы, полы блестят. Она водила нас к врачу, отправляла в школу, проверяла уроки.
Когда я была маленькой, моя бабушка Делейни, родом из Англии, и моя прабабушка Малоуни жили с нами. Упрямство и гордость я переняла именно от них. Мама говорила, что под одной крышей с ее мамулей и папиной бабушкой могут жить только святые. Или безумцы.
Восьмидесятивосьмилетняя прабабушка Малоуни была бодрой старушкой, а семидесятилетняя бабушка Делейни – хрупкой болезненной дамой (о чем она, говорившая с неподражаемым английским выговором, неустанно нам напоминала). Да уж, хрупкая – как кедровый пень. Элизабет Уоллинфорд Делейни красила волосы в каштановый цвет и носила шиньон из двух роскошных кос. Платья она предпочитала светлые, а если кто-то не спешил выполнить ее просьбу, подталкивала нерасторопного медным набалдашником своей трости из красного дерева.
С дедушкой Патриком Делейни она, семнадцатилетняя сирота, познакомилась в Лондоне во время Первой мировой войны. Она рассказывала, что он был лихим пехотинцем, очаровавшим ее историями о своем родном Юге. Она вышла за него замуж и поехала за океан, рисуя в своем воображении богатые плантации и роскошные особняки. Она так до конца и не простила дедушку Патрика за то, что жить ей пришлось в городишке, а особняк представлял собой столетней давности развалюху.
Но бабушка Элизабет все это выдержала – ради четырех сыновей и четырех дочерей. Более того, она во многом преуспела: местные дамы почитали ее законодательницей стиля и образцом благопристойности, а после того, как дедушка Патрик стал президентом ссудно-сберегательной ассоциации Дандерри, ее -главенствующее положение в дамском обществе упрочилось окончательно.
Когда мне было четыре года, дедушка Патрик перенес несколько ударов и стал инвалидом. Они переехали к нам в дом, и весь следующий год я видела, как она, забыв о своей хрупкости, за ним ухаживает. После его смерти она бросила остатки сил на прабабушку Малоуни, чья спальня была напротив, и принялась ее изводить.
Это была старинная вражда, зародившаяся в молодости, окрепшая в зрелости и все еще тлевшая в старости.
Прабабушку звали Алисой. Ее муж, Говард Малоуни, умер от инфаркта за двадцать лет до моего рождения. К тому времени они с прабабушкой уже передали ферму своему сыну, моему деду Джозефу, но всем по-прежнему заправляла прабабушка. Дедушка Джозеф успел отойти от дел, на его место заступил мой папа, а ее время словно не трогало.
У прабабушки были редкие седые кудряшки, обрамлявшие полное морщинистое лицо. Она носила мрачные коричневые платья и башмаки на толстой подошве. Ростом она была под шесть футов, а весила все двести фунтов.
С прадедушкой Говардом она познакомилась на воскресном приеме, который устраивала женская школа-интернат, где она учительствовала. Через месяц она вышла за него замуж и увезла в округ Дандерри, где рожала детей и изумляла соседей: ходила по дому в комбинезоне и участвовала в демонстрациях суфражисток задолго до того, как в Вашингтоне задумались о предоставлении женщинам права голоса.
Когда бабушка Элизабет вышла за дедушку Патрика и переехала из Англии в Дандерри, она тотчас заняла доселе принадлежавшее прабабушке место самой интересной дамы в округе и с тех пор была у той как бельмо на глазу.
В 1950 году, в ночь после выпускного бала, мама бежала из дому с отцом. Какой разразился скандал! Красавица Мэрибет, дочь Элизабет Делейни, только что принятая в женский методистский колледж, и любимый внук Алисы Малоуни Холт, разъезжающий на мотоцикле и работающий на птицеферме! Элизабет Делейни грозилась подать на Холта Малоуни в суд за совращение малолетней. Алиса Малоуни прилагала все усилия, чтобы аннулировать брак. Но мама с отцом уже ожидали появления на свет моего брата Джоша. На горе или на радость, семейства Делейни и Малоуни вынуждены были породниться. Бабушка Элизабет и прабабушка Алиса не жалели сил, дабы отравить друг другу жизнь, а поскольку обе они жили с нами, то отравляли ее и нам.
Сын прабабушки Алисы Джозеф и его жена Дотти жили в двух минутах ходьбы от нас. Дотти Малоуни в свои шестьдесят была все еще моложава – рыжеволосая, крупная, она светилась силой и здоровьем. Будучи женщиной хваткой и сообразительной, она научилась у отца-банкира умению вкладывать деньги, успешно играла на бирже и вела бухгалтерию на ферме. Я ее обожала, но самым любимым моим наставником был дедушка Джозеф. Он был крепким коренастым стариком, ходил тяжело, по-медвежьи; его лысина, окаймленная пучками седых волос, походила на монашескую тонзуру. Сажал и сеял он, сообразуясь с лунным и звездным календарем, и кукуруза у него вырастала под двенадцать футов.
Во Вторую мировую дедушка воевал, а когда после победы над Японией вернулся домой, нашел ферму в полном упадке. Они с бабушкой были разорены, а им надо было поднимать семерых детей. Старшему из них, моему папе Холту, было всего шестнадцать.
Компания, проводившая в округе электричество, до войны до наших мест добраться не успела. Дедушка Джозеф собрал бригаду, в которую вошли мой отец и почти все имевшиеся в семье мужчины. Они нанялись в строительную фирму и протянули линии электропередачи по всей нашей части штата, на чем неплохо заработали. А бабушка Дотти занялась приумножением капитала, играя на бирже.
Благодаря их усердию денег у нас оказалось столько, что, как говорили в городке, мы сами не знали, куда их девать. Кругом были наши огороженные пастбища, бескрайние поля, пять огромных амбаров и птицеферма на десять курятников, дававшая пятьдесят тысяч цыплят в год.
Так мы и жили – прабабушка, старая бабушка, бабушка помоложе, самый любимый дедушка, мама с папой, Хоп с Эваном, Джош (когда вернулся из Вьетнама) и Брейди, раз в месяц приезжавший из колледжа. Плюс сто голов герефордских коров, дюжина собак, пять кошек, домработница, десять наемных рабочих с бригадиром, тонны тыкв, кукурузы, капусты и, наконец, я.
А еще у нас постоянно толклись тринадцать дядюшек и тетушек с супругами, три дюжины кузенов и прочие родственники, свойственники и друзья.
Много позже я поняла: Ронни Салливану было не прорваться. Он с самого начала был один против толпы.
Они с отцом жили в трейлере рядом с оврагом, заваленным полусгнившим мусором. Говорили (сама я не видела), что у Большого Рона одна нога, а вместо второй – протез.
Большой Рон Салливан, ирландец, но не из удачливых, был парнем лихим и бесшабашным. Он забрел в наш город года за два до войны в Корее и устроился работать на кормодробилку Мерфи. В самом начале войны его призвали в армию и тут же послали на фронт, где он потерял правую ногу, подорвавшись на мине.
Папа говорил, что он и раньше был угрюмым типом, а после войны совсем обозлился, да к тому же умудрился спиться, хотя у нас в округе тогда был сухой закон. Поскольку Большой Рон был героем войны, дедушка Джозеф Малоуни выделил ему в собственность два акра земли в ложбине к востоку от нашей фермы. От организации ветеранов зарубежных войн он получил старый трейлер для жилья и подержанный грузовик. Женская ассоциация Дандерри разбила у трейлера лужайку, а моя мама посадила несколько розовых кустов. Все пять членов Негритянской ассоциации на тракторе дружно вспахали ему землю под сад, а Баркер Мерфи снова предложил работу на кормодробилке.
Спасение Большого Рона Салливана было самым крупным общественным проектом с тех пор, как торнадо до основания разнес здание окружного суда. Но человек – не здание, его не перестроишь. И лужайка, и сад заросли сорняками. Розовые кусты засохли, трейлер стал похож на мусорный контейнер, грузовик с грехом пополам ездил – на нем Большой Рон катался в Атланту за выпивкой.
По крайней мере один орган у Большого Рона все еще неплохо функционировал, что влекло к нему определенного рода девиц. Ходили слухи, что Дженни Болтон забеременела. Дженни была хорошенькой брюнеточкой лет семнадцати, правда, уже потасканной. Когда в округе наконец догадались, кто ее обрюхатил, была организована целая кампания с целью заставить Большого Рона признать отцовство. В те времена это называлось «женить под дулом пистолета».
Дженни переехала к Большому Рону в ложбину. Когда начались схватки, он валялся в стельку пьяный за трейлером. Мама, жалевшая Дженни, заходила к ней почти каждый день; она-то ее и выручила – та лежала вся в слезах, скорчившись от боли, на узкой грязной койке. Папа с мамой срочно отвезли ее в гейнсвиллскую больницу, где ей пришлось делать кесарево. Когда мама спросила Дженни, как она хотела бы назвать малыша, та прошептала: «Роном-младшим, мэм...» – и на двенадцать часов забылась сном.
Чтобы Отличать мальчика от Большого Рона, все называли его Ронни. Через пять лет, как раз перед моим рождением, Дженни заболела воспалением легких и умерла. Думаю, она все свои силы положила на Ронни. Кое-кто предлагал забрать его у Большого Рона, но законопослушное большинство считало, что отбирать у отца сына не следует.
Порой даже хорошим людям надоедает лезть в чужие проблемы. И моя семья оставила Ронни на произвол судьбы.
Мне все это представлялось следующим образом: я появилась на свет, чтобы заботиться о Ронни вместо его мамы. Никто больше этим заниматься не хотел.
Когда я пошла в первый класс, Ронни учился в шестом. Я смотрела на него издалека, со смесью ужаса и любопытства.
Ронни всегда ходил грязным и неопрятным, и джинсы у него были то слишком длинные, то слишком короткие. Он был рослым для своих лет и худым как щепка, темноволосым, с огромными серыми глазами в пол-лица.
Ронни вечно с кем-то дрался. Ему кричали: «Вонючка помойная! Несет как из сортира!» – и он кидался на любого – на тех, кто старше, крупнее, сильнее, и в доброй половине случаев бывал нещадно бит. Директор Рафферти постоянно таскал Ронни к медсестре накладывать швы.
Его озлобленность, одиночество, положение изгоя – все это меня околдовывало, поскольку я, избалованное дитя процветающего клана, была его прямой противоположностью. Но одно у нас с Ронни было общим – все мои проступки тоже сразу выплывали наружу. Стоило мне нашкодить – поболтать на уроке или написать на стене школьного туалета какие-нибудь глупости, – весть об этом долетала до моего семейства в мгновение ока.
Ронни терпеть не мог, когда его видели на дороге у ложбины. Наверное, он понимал, как убого выглядит, стоя в ожидании школьного автобуса около покосившегося почтового ящика, за которым виднелись проржавевший трейлер и заваленный мусором овраг.
Была тому и еще одна причина: мои кузены Арлан и Гарольд Де-лейни. Они были старшеклассниками, сами водили машину и, если заставали Ронни у дороги, со всей силы колотили бейсбольной битой по почтовому ящику, а когда удавалось – то и по Ронни.
Как-то майским утром я была в дурном настроении – на улице лило как из ведра, а в такую погоду мои рыжие кудри вставали дыбом и походили на сахарную вату. Я, рыдая, спряталась в ванной и на автобус опоздала.
Дедушка был единственным, кто мог выносить меня в таком состоянии, поэтому нас с Хопом и Эваном в школу повез он. Машина тащилась сквозь пелену дождя по Соуп-Фоллз-роуд. За поворотом у Салливановой ложбины мы увидели удаляющийся грузовичок Арлана и Гарольда.
– Они опять приставали к Ронни! – завопила я.
Дедушка выругался себе под нос.
Ронни стоял под проливным дождем – без плаща, без зонта, только на плечи был накинут пластиковый мешок для мусора. Книги его валялись в бурьяне.
Завидев еще одну машину, он метнулся прочь, упал, снова вскочил на ноги и помчался по скользкой дороге к ложбине.
– Дедушка! – взмолилась я. – Пожалуйста, остановись.
Дедушка свернул на обочину.
– Клэр, ты что? – возмутился с заднего сиденья Хоп.
– От него вся машина провоняет, – сказал Эван.
Дедушка пристально посмотрел на меня:
– Ронни – твоя забота, Клэр. Тебе придется самой идти под дождь и звать его сюда.
Наверное, он решил проверить, что во мне победит – тщеславие или смелость. Я распахнула дверь и вылезла на дорогу.
– Ронни! – закричала я и, поскользнувшись, шлепнулась в грязь. – Ронни, мы подвезем тебя до школы! Никто тебя не обидит, обещаю!
Дедушка тоже вышел и встал надо мной.
– Ронни, иди сюда!
Ни звука. Ни шороха. Мы звали его минут десять.
Я знала, что Ронни наблюдает за нами откуда-нибудь из-за дерева – я чувствовала на себе его взгляд. Но из укрытия он не выходил.
Ну ладно, – устало сказал дедушка. – Эту мышку нам из норки не выманить.
Не в силах больше сдерживать переполнявших меня чувств, я горько разрыдалась. Грязная, промокшая, все равно я была в лучшем положении, чем Ронни.
Он думает, мы приносим несчастье, – всхлипывая, говорила я дедушке, идя к машине. – Каждый раз, как мы появляемся рядом, с ним случается что-то плохое.
– Мы не приносим несчастья, – сказал дедушка, погладив меня по голове. – Мы просто живем по другую сторону забора. Мы для него такие же чужие, как и он для нас.
– Приходи к нам в гости! – прокричала я, обернувшись к лощине. – Я оставлю ворота открытыми!
Я училась во втором классе, когда третьеклассник Нили Типтон превратил мою жизнь в настоящий ад. Он постоянно подкрадывался ко мне и шипел на ухо: «Малявка Малоуни!» – а потом дергал меня за волосы и, не успевала я обернуться, убегал.
Но однажды Нили получил по заслугам и с тех пор меня больше пальцем не трогал.
Началось все как обычно. На перемене я осторожно вышла во двор. Он поджидал меня, притаившись за дверью, и я, не поняв даже, что происходит, вдруг повалилась на землю.
– Попалась, Малявка Малоуни, – завопил Нили.
Я с трудом приподнялась, опершись на локоть, и тут вдруг услышала глухой удар и увидела, как Нили, отлетев от стены, валится на землю. Над ним стоял Ронни.
– Еще раз ее тронешь, – сказал он невозмутимо, – руки-ноги переломаю.
Ронни обернулся ко мне. Глаза его сверкали как молнии. Он словно ждал, что я на него сейчас накинусь.
– Спасибо, Ронни, – сказала я.
– Я слышал тебя тогда, в ложбине, – внезапно признался он. – Ты не похожа на всех остальных.
Сказав это, он развернулся и ушел.
В тот день я влюбилась в Ронни Салливана.
Сестры Макклендон жили в северной части городка, в застроенном старыми покосившимися домишками тупике, называвшемся Стафим-роуд или, как чаще говорили, Вставь-им-роуд.
Я, как и все, хихикала, слыша это название, смутно догадываясь, что в нем есть что-то неприличное. И еще я знала, что, если кто-нибудь из моих братьев сунет нос на Стафим-роуд, мама с отцом с него шкуру спустят.
Мама, если б могла, спустила бы шкуру со своего брата Пита. Всем было известно, что дядя Пит вечно ошивается у сестер Макклендон на Стафим-роуд. Даже я была наслышана о его дурных привычках и знала, что он – позор семейства Делейни.
Сестер было четыре – Дейзи, Эдна, Лула и Салли. Старшей, Дейзи, когда мне было семь, исполнилось лет тридцать пять, но из-за вытравленных перекисью волос и грубых складок у рта она выглядела гораздо старше. У нее имелся муж, о котором уже много лет не было ни слуху ни духу. Большую часть времени Дейзи проводила с Большим Роном Салливаном.
У Эдны и Лулы была целая вереница мужей. «Швырни горсть горошин в кучу Лулиных и Эдниных детишек, и ни за что не попадешь хотя бы в двоих от одного отца», – говаривал мой дедушка.
Салли Макклендон, младшей из сестер, было шестнадцать. Школу она бросила, хуже того, успела родить ребенка, мальчика. Говорили, что Салли – любимица дяди Пита.
Сестры Макклендон жили на пособие и кое-как подрабатывали – стирали, ходили убираться плюс к этому получали деньги от захаживавших к ним мужчин. Я решила, что дядя Пит – совсем чудной, раз имеет с ними дело.
Став старше, я поняла, что сестры Макклендон были бедными, необразованными и несчастными женщинами. Но в семь лет я только видела, что у моих родственников они вызывают жалость и отвращение. Добавьте к этим чувствам христианское милосердие – и получите благотворительность.
Такую, например, как на Пасху.
Стыдно признаться, но Пасха для меня была прежде всего корзинками с угощением, расписными яйцами и новыми платьями в оборочках. О благоговейной торжественности и речи не было – на Пасху я была принцессой. Мама купила мне бледно-розовое платьице с пышной юбкой, волнами расходившейся от талии. А к нему – белые замшевые туфельки и белую соломенную шляпку с розовой лентой.
В субботу перед Пасхой мы красили яйца. Весь день мы их варили и окунали в пахнущие уксусом краски. Часть яиц мы разложили в дюжину корзиночек с конфетами и книжками с библейскими рассказами. Корзиночки предназначались бедным детям Макклендонов со Стафим-роуд, которым мама вместе с другими благочестивыми дамами каждый год возила пасхальные подарки.
Утром на Пасху я в ночной рубашке спустилась в гостиную, где на столе стояла пасхальная корзина для меня – огромная, в розовых лентах, с розовым плюшевым пуделем. Я разорвала обертку гигантского шоколадного зайца и, предвкушая наслаждение, принялась вертеть его в руках.
В комнату вошел Эван в синем праздничном костюме и с Библией в руке. Ему было двенадцать, и он как раз проходил стадию «кто кого благочестивее».
– Главное на Пасху – вовсе не угощения, – заявил он. – По-моему, с этим следует подождать.
– Эван прав, – согласилась появившаяся вслед за ним мама. – Клэр, шоколад съешь после церкви.
А я уже поднесла зайца ко рту. О, искушение! О, необоримая жадность! О, грех вожделения!
– Тьфу ты, черт! – вырвалось у меня.