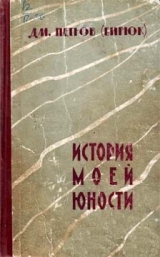
Текст книги "История моей юности"
Автор книги: Дмитрий Петров-Бирюк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
Неласковый прием
Приезд наш к Юриным был неожиданным для них, они даже немного растерялись. Когда из комнаты все ушли и мы остались вдвоем с сестрой отца, тетушкой Агафьей Петровной, она мне прямо и откровенно высказала свое отношение к нашему приезду:
– Черти вас принесли, оглоеды проклятые…
Как ошпаренный, выскочил я из комнаты, разыскал во дворе отца и, обливаясь слезами, рассказал ему, что услышал по поводу нашего прибытия из уст тетушки. Отец это сообщение принял совершенно равнодушно.
– Э, да пусть! – усмехнувшись, махнул он рукой. – Она всегда такая. Ты, Саша, не обращай на нее внимания… Все дело в Ефиме Константиновиче. А он человек золотой.
Ефим Константинович, супруг моей тетушки, маленький, тщедушный старичок, добрейшей души человек, с патриаршей серебряной бородой, веером лежавшей у него на груди, был живописцем, имел свою мастерскую.
Хороший он был старик. За всю свою жизнь никогда никому грубого слова не сказал.
На облысевшей, блестящей, словно отполированной, его голове росли реденькие кучерявые седые волосы, будто серебристым ореолом окружая его лысину.
Я находил разительное сходство между дядей Ефимом Константиновичем и богом-отцом Саваофом, изображенным на большой иконе «святой троицы», висевшей на стене в мастерской.
Всматриваясь в бога-отца, я думал, что у него борода была точно такая же, как у дяди, – широкая, серебряная, лопатообразная. Да и серебристые петушки на лысине у бога-отца были такими же, как и у Ефима Константиновича.
Долго я не мог понять такого совпадения, а потом разгадка пришла сама собой. Оказывается, живописцы, работавшие в мастерской дяди, образ бога-отца списывали со своего хозяина.
Это показалось мне до того забавным, что каждый раз при встрече со стариком я фыркал от смеха.
– Ты чему это смеешься-то? – недоумевал дядя.
Я отмахивался и, давясь от смеха, убегал от озадаченного старика. Ну разве же это не смешно: представить себе дядю Ефима Константиновича, сидящего на троне рядом с Иисусом Христом и богом-духом святым на иконах в церкви и домах казаков?
Нас с отцом поселили жить во флигеле, в котором находилась мастерская Юриных.
Флигелек этот состоял из двух комнат, дополна забитых мольбертами, иконами, картинами, вывесками, красками, кистями, коробками, бутылками и самым разнообразным хламом.
Конечно, кроватей в мастерской не было, и мы с отцом, расстелив на полу рогожи и дерюги, укладывались спать.
– Вот раздолье-то, Сашурка, – смеясь, говорил отец.
Я молчал. Раздолье это мне совсем не нравилось.
Все бы, конечно, было ничего, да уж очень вставать рано не хотелось. А что делать? Приходилось. Работа в мастерской начиналась в семь часов утра. К этому времени мы должны были уже убрать свою постель…
Первым в мастерскую приходил дядя Ефим Константинович.
– С добрым утром! – приветствовал он нас.
Затем появлялись два мастера – длинноволосый рыжий Иван Максимович Лужин и плешивый старичок Егор Лукич Курочкин. Вслед за ними торопливо прибегали заспанные, вечно зевающие ученики Васька Морковкин и Андрей Орлов.
Все усаживались за мольберты. Кто писал Николая-чудотворца, кто богоматерь, а кто просто вывеску или, по заказу, какой-нибудь фривольный, веселенький этюд.
Минут через пять после этого в мастерскую приходил старший сын Ефима Константиновича – Степан. А через час после этого появлялся здесь и самый младший сын хозяина, любимец всей семьи, Петя, девоподобный юноша лет семнадцати, с вьющимися длинными волосами, локонами спадающими на плечи.
Были у Ефима Константиновича и еще два сына – Павел и Александр. Павел отбился от семьи и жил сейчас где-то в Ростове, а Александр отбывал военную службу.
Отец бросил пить, работал у Юриных прилежно, копил деньги, чтобы с чем-нибудь приехать в станицу. О станице своей мы с отцом мечтали, как о чем-то несбыточном. Так уж нам хотелось попасть в нее поскорее!
Возможно, мы скоро бы и уехали туда, но возникло обстоятельство, которое нас задержало на довольно продолжительное время: совсем неожиданно приехала Маша. Ей надоело жить на чужбине одной и она, скопив денег на дорогу, решила приехать к нам.
Для меня приезд ее был большой радостью. Я не мог наглядеться на свою сестру. Она повзрослела, похорошела, стала настоящей барышней.
Но тетка Агафья Петровна на приезд Маши посмотрела совсем по-другому. Никого не стесняясь, тетушка недовольно ворчала:
– Не было заботы, так вот господь-бог наслал мне ее… Что мне с тобой делать?.. У меня у самой дочь на выданье, а тут ты еще заявилась… Надо тебя поскорее замуж выдать.
И, не откладывая в долгий ящик, она с большим рвением начала подыскивать для Маши жениха. И старания ее не пропали даром. Жених нашелся. За Машу приехал свататься молодой парень, казак с хутора Белогорского, Георгий Ковалев.
Устроили смотрины. Жениху невеста понравилась очень. Невесте жених – не особенно. Но девушка понимала, что ей надо наконец устраивать свою жизнь, и дала согласие выйти за Георгия замуж.
Чтоб поскорее спровадить с глаз своих нелюбимую племянницу, тетушка Агафья Петровна поспешила сыграть свадьбу. Она даже не поскупилась справить ей кое-какое приданое.
После свадьбы Георгий увез Машу к себе на хутор.
Побег
Вот так мы и дожили до зимы 1912 года. Мне шел двенадцатый год.
– Балбес какой вырос, – ворчала тетушка, неприязненно оглядывая меня, как только я попадался ей на глаза. – Шлындает здесь. Тьфу, прости меня господи!.. К делу надо определять.
К какому, собственно, делу хотела определить меня тетушка, я не мог понять. Если она вообще имела в виду, чтобы я приучался к какой-нибудь профессии и помогал отцу, так это я уже делал. Я вместе с отцом красил палисадники и заборы. Мне даже очень нравилось красить. Обмакнешь этак кисть в ведерко с краской и размазываешь по забору. Сначала нарисуешь чертика с рожками и хвостом, а потом закрашиваешь его постепенно, и он исчезает, словно в пучине морской. Интересно!
Но тетушка имела в виду другое. Ей очень нравились приказчики, живые, веселые пареньки, торгующие у купцов в лавках. Она мечтала выдать замуж свою дочку Любу за приказчика. Ей хотелось, чтобы отец отдал и меня на выучку к какому-нибудь купцу.
– Ведь они, приказчики-то, живут, боже мой, как! – внушала она моему отцу. – В крахмалочках ходят, на жилетах золотые цепочки… Многие лисопеты имеют…
Все это, быть может, и очень было соблазнительно, но меня мало трогало. Я хотел быть маляром и живописцем, как и отец мой. Но тетушка, не переставая, зудела отцу:
– Отдай же ты мальчишку-то в приказчики… Слышь, брат, отдай. Нехай-ка приучается к делу… Человеком ведь будет.
Разговоры тетушки все же возымели действие. Отец послушался своей старшей сестры и договорился с купцом Чаговым, чтобы тот взял меня на выучку.
Как-то раз вечером отец сказал мне:
– Завтра, Саша, отведу тебя к лавочнику. Говорил я с одним, берет тебя. Будешь у него покуда керосин разливать, а потом приглядишься и за прилавок станешь.
Я стал умолять отца, чтобы он не водил меня к купцу. Но отец был непреклонен.
– Пойдем, пойдем. К делу ведь приучишься. Я тоже приказчиком был.
– Не хочу, папа, приказчиком. Буду маляром.
– Одно другому не мешает.
– Но мы ж в станицу уедем летом. Зачем мне учиться на приказчика?.. Разве ж за зиму я научусь?
– Когда надумаем ехать в станицу, тогда возьму тебя от купца, а пока учись.
И вот на следующий день отец отвел меня к купцу Чагову. Чагов, сухой, поджарый мужчина лет под пятьдесят, с козлиной бородкой и злыми тонкими губами, одетый в крашеный черный полушубок, встретил меня насмешливо:
– Вот это и есть твой деляга? – спросил он у отца, оглядывая меня своими черными глазами.
– Он и есть, Павел Николаевич, – подобострастно произнес отец. – Приучите его к делу, пожалуйста.
– Пущай остается, – важно сказал купец. – Поглядим, на что он будет пригоден…
– Он парнишка-то смышленый, – промолвил отец. – Понятливый.
– Сказал, погляжу, – раздраженно прикрикнул купец, – стало быть, и все. Нечего приставать-то зря… Ленька! – строго крикнул Чагов пареньку лет четырнадцати, вертевшемуся в лавке.
– Чего изволите, Павел Николаевич? – подскочил к хозяину тот.
– Научи-ка вот этого мальца керосин покупателям разливать. Понял?
– Понял, Павел Николаевич, – угодливым голоском пропел паренек. – Научу.
– А как научишь, я тебя к другому делу приставлю.
– Благодарю покорно, Павел Николаевич, – ответил Ленька.
Я заметил, что не только Ленька, но и старшие приказчики подхалимничали перед хозяином. С первой минуты мне стало все это невыносимо противно. Еще не приступив к работе, я стал уже обдумывать, как мне убежать отсюда.
– Ну, я пошел, Сашурка, – сказал отец. – Бог тебя благослови. Слушайся тут старших, будь покорным, не своенравничай…
Хмуро выслушивал я нравоучения отца. Не нравилось мне здесь.
Отец ушел. Ленька шепотом спросил меня:
– Как тебя зовут-то?
– Сашурка.
– Это как же понимать? Сашка, что ли?
Я мотнул головой.
– Ты. Сашка, не бойся, – промолвил Ленька. – Тут хорошо… Поперву, конечно, страшновато… а потом привыкнешь… Я тож поначалу боялся, а потом вот, видишь… Хозяин-то повышение мне обещал. Слыхал, небось? Ну, пойдем, я тебя научу керосином орудовать.
Он подвел меня к большим железным бочкам, стоявшим в углу. У каждой бочки был кран, а под краном таз.
– Ежели к тебе подойдет, скажем, какой-нибудь покупатель, – поучал меня Ленька, – так ты его спроси; сколько ему надо фунтов керосину… Ну, он, к примеру, скажет: десять фунтов. Ты возьмешь у него посуду и нальешь ему десять вот таких фунтовых корцов… А когда нальешь, то пошлешь его оплатить в кассу за десять фунтов… Да старайся недоливать керосину. Понял?
– Понял.
– Хозяин это любит, потому как ему прибыль, – продолжал поучать меня паренек. – Вот этот корец полуфунтовый. А этот – четверть фунта.
Целый день возился я с керосином. Я не мог дождаться вечера, когда наконец лавка закроется. У меня теперь окончательно созрело твердое решение не приходить больше сюда.
Я думал о том, как мне избавиться от ненавистной лавки с ее вонючим керосином. И вот придумал.
Завтра утром я сделаю вид, что собираюсь идти в лавку, сам же между тем, захватив коньки и кусок хлеба, махну на Хопер, приверну к сапогам коньки и помчусь по льду к Маше…
Наступил долгожданный вечер. Купец подсчитал в конторке дневную выручку, приказчики навели порядок в лавке. Гремя ключами, хозяин попрощался, с нами и стал запирать лавку.
– Эй ты, малец! – крикнул он мне. – Гляди не проспи. Чтоб завтра к семи был здесь, как стеклышко. Как он, Ленька, работал-то?
– Хорошо, Павел. Николаевич, – закрутился перед хозяином Ленька. – Из него будет толк… Ей-богу, правда!.
– То-то же, – снисходительно сказал купец, кладя ключи в карман. – У меня и должен быть толк у всех… Бестолковых мне не надобно. Понял, Сашка? Не опоздаешь?
– Понял, – буркнул я угрюмо. – Не опоздаю.
– Разве ж так хозяину отвечают? – сказал мне старший приказчик, старик лет шестидесяти. – Надо быть учтивым, вежливым.
– Невежа! – сказал купец. – Ленька, как надо ответить?
– Не извольте беспокоиться, Павел Николаевич, – тоненько пропел мальчишка, – не запоздаю. Приду ровно к семи часам утра.
Сказав это, Ленька с превосходством взглянул на меня, как бы говоря своим взглядом: «Эх ты, размазня, вот как надо!»
– Ну, так-как надо сказать? – строго спросил у меня Чагов.
Я был упрямый мальчишка. В другой раз он черта с два бы от меня чего добился. Но сейчас я шел на все, лишь бы скорее отделаться от хозяина с его лавкой и керосином, от Леньки, от всех. Кривя душой, я даже слаще, чем Ленька, угодливо пропищал:
– Не извольте беспокоиться, Павел Николаевич. Завтра я чуть свет приду сюда.
– Хе-хе!.. – удовлетворенно засмеялся лавочник. – Это ты уж того, переборщил… Ну, ладно, прощайте!
Только этого я и ждал. Как стрела понесся я домой. Жили мы с отцом в это время уже не у Юриных, а снимали комнату неподалеку от них.
– Ну как? – встретил меня отец. – Понравилось?
– Очень, – сказал я угрюмо.
– Я же говорил, что понравится, – оживленно заговорил отец. – Пойдет у тебя дело на лад. Ей-богу, пойдет.
Потом отец куда-то ненадолго вышел из комнаты. В одно мгновение я разыскал под кроватью свои заржавленные коньки, сунул их и кусок хлеба в сумку…
Отец разбудил меня еще до рассвета.
– Вставай, Саша, – сказал он. – Уже шесть часов… Вставай и умывайся… Да садись завтракать.
Когда я сидел уже за столом, отец сказал мне:
– Может, тебе и не понравится возиться с керосином, но это недолго. Все-таки, я думаю, весной мы с тобой уедем в станицу. Но поработать в лавке тебе надо, потому как навык будет, да и вообще, что тебе бездельничать-то?
Я молча слушал отца…
Позавтракав, я схватил приготовленную с вечера сумку с хлебом и коньками и побежал на Хопер. Он протекал верстах в трех от станицы.
В полынье
Наступал мутный рассвет. Над рекой на яру в задумчивом оцепенении, словно завороженные, стояли покрытые инеем молчаливые дубы, тополи, клены, ясени. Посреди реки, прямо на льду, сосредоточенно глядя в лунки, сидели несколько ранних рыбаков.
Пристроив к сапогам коньки, я двинулся вверх по течению реки. Лед был скользкий и блестящий, как стекло. Бежать по нему было одно удовольствие. Река извивалась змеею… Мимо мелькали коричнево-желтые крутояры. С них, как будто с любопытством глядя на реку, интересуясь, что там делается, свешивались верхушки кустарников.
Еще издали завидя меня, не иначе как злословя на мой счет, взбалмошно начинали стрекотать болтливые сороки…
Я мчался уже часа два-три. Спина моя взмокла, по разгоряченному лицу струился пот. Я снимал шапку и подставлял потную голову ветру, и он ласково теребил мои волосы. Хотелось пить. По сторонам изредка мелькали синие полыньи. Я мог бы прилечь к краю и напиться, но боялся простудиться. В прибрежных кустарниках в снегу, как на кусках ваты, пятнами крови краснели тяжелые гроздья калины. По моим расчетам, я пробежал уже около тридцати верст. Казалось, давно бы должен был показаться Машин хутор. Ведь по прямой дороге до него всего только семнадцать верст. А я, наверно, и полпути еще не проделал.
Хопер сделал крутой изгиб влево, и передо мной вдруг предстало десятка два столпившихся на обрывистом берегу казачьих куреней. Из труб их поднимались тусклые клубы дыма.
Что это за хутор? Как бы узнать здесь, далеко ли до Машиного хутора?
На мое счастье, посередине реки я увидел древнего старика, удившего в лунке рыбу.
– Дедушка, – подъехав к нему, спросил я, – это какой хутор?
Старик поднял на меня свои выцветшие, затуманенные глаза.
– Это не хутор, – сказал он, шамкая беззубым ртом, – а станица Добринская… А ты откель, детина, будешь-то?
– Из Урюпинской.
– Да ну?! – вытаращил на меня глаза старик и с необычной для его лет живостью вскочил на ноги. – Да ты что, ай дьяволенок, а? Хи-хи-хи!.. Очумел, что ль?.. Неужто из Урюпинской на коньках притилюпал, а?
– На коньках, дедушка.
– Вот холера те забодай, – смеялся старик, оглядывая меня. – Прям, истинный господь, дьяволенок. Чудеса!.. Ведь это, почитай, ежели по Хопру ехать, так верстов, должно, сорок будет… Тебе куда ж надоть-то?
– А я к сестре еду, на хутор… – Я назвал, куда мне надо.?
– Ого-го! – всплеснул руками старик. – Это ажно к сатане на кулички… Это далече тебе… Верстов, должно, двадцать пять с гаком отмахать надобно. Докатишься, а?..
– Ну а чего ж, конечно, – сказал я.
– Ну, и чертушка ж ты, сукин сын, – доброжелательно похлопал меня голицей по спине старик. – Одним словом, молодчага!.. Ну, дуй!.. Господь тебя благослови. К вечеру доберешься. А ну катись – погляжу на тебя.
Я распрощался с веселым дедом и, желая показать ему свое молодечество, лихо разогнался и, как вихрь, исчез за поворотом реки.
Но я все-таки порядочно утомился и чувствовал огромную усталость во всем теле.
Теперь я бежал тише, чаще отдыхая. За дорогу я очень проголодался и, съев весь свой хлеб, даже не почувствовал, что утолил голод..
На сугробы легли фиолетовые сумеречные тени. Скоро завечереет, а до конца пути еще далеко. Ноги налились свинцовой тяжестью, и я еле передвигал ими.
С лесистого яра вдруг грохнул выстрел, у меня с испугу все внутри дрогнуло. Эхо долго рокотало по лесу, постепенно затихая где-то вдалеке. Затем снова прогрохотали один за другим два выстрела. И оттуда, где только что стреляли, на лед стремглав выскочил ошалевший от страха заяц. Прижимая уши и скользя по льду, он бежал в мою сторону. Но вдруг, завидя меня, он круто шарахнулся назад и запрыгал вдоль берега. Свернув, я помчался за ним. На льду, как горошины, алели капельки крови. Видимо, заяц был ранен…
– А-яй-яй! – вопил я пронзительно, несясь за косым. – Держи его!.. Держи!..
Азарт был до того велик, что я забыл обо всем на свете – и об усталости, и о голоде, и об осторожности. Единственным моим желанием было сейчас поймать зайца. Я уже нагонял его. Вот-вот я нагнусь и схвачу его за длинные уши.
Впереди мне почудилось что-то подозрительное, как будто распласталась синяя полынья, слегка подернутая ледком и запорошенная снегом. Вообще-то таких замаскированных полыней по пути мне попадалось немало. Я научился их распознавать.
Но сейчас я плохо соображал. Мне мерещился только заяц.
– Держи его! – истошным голосом крикнул я.
В это мгновение я услышал предостерегающий крик. Но… было поздно. Подо мной треснул лед, и я провалился в полынью.
Пришел я в сознание уже у Маши на горячей печке.
Охотник, казак с Сатраковского хутора, успел ухватить меня за шиворот и вытащить из полыньи. На счастье мое, казак этот был родственником Георгия, гулял на Машиной свадьбе. Он узнал меня и привез к Маше.
* * *
Как и следовало ожидать, купание это не прошло для меня бесследно – я заболел. Чем болел – неизвестно. Поставить диагноз было некому: не только врача, но и захудалого фельдшера в хуторе не было.
Меня лечила древняя старуха Панкратьевна разными отварами из трав.
– Горячка у него, горячка, – говорила она. – Простудился… Это ничего… Вот попьет моих травок, попотеет и очунеется.
И, действительно, я скоро «очунелся», выздоровел.
Некоторое время я жил у Маши, а потом за мной приехал отец. Я боялся, что он будет меня ругать за побег от лавочника. Но об этом он ничего не сказал.
– Я приехал за тобой, – обнял он меня. – Поедем, родной, в нашу станицу.
Я затрепетал от счастья – так уж мне хотелось туда поскорее попасть.
На другой день, распрощавшись с Машей и ее мужем, мы уехали.
В родной станице
– Вон она, ваша станица-то, – сказал подводчик.
Сердце мое бурно заколотилось. С пригорка хорошо были видны сквозь зеленые клубы садов белые стены казачьих куреней. Из-за косматых верхушек верб ослепительно вспыхивали золотые кресты маленькой станичной церковки.
Боже мой, как колотилось мое сердце! Оно, кажется, готово было выскочить из груди и полететь туда, откуда доносило к нам душный и терпкий аромат цветения.
Когда мы въехали на окраину, то увидели, что вся станица белеет в весеннем цвету.
Был воскресный предвечерний час. Отовсюду слышались веселый говор, смех. Кое-где, расположившись прямо на траве, играли в карты и лото казаки. Слышались заунывные казачьи песни. Надрывно плакала где-то гармошка.
По улицам бегали мальчишеские ватаги. Я присматривался к ним, стремясь найти среди них моих товарищей. Но никого из них не увидел.
Казаки узнавали отца и весело кричали ему:
– Илья Петрович, с приездом, родной!..
Отец, помахивая фуражкой, раскланивался с ними.
Некоторые казаки даже подбежали к нашей повозке, стали обниматься с отцом, целоваться.
Такая теплая встреча станичников тронула меня.
Мы подъехали к покосившемуся, замшелому домишке деда Карпо. Отец стал расплачиваться с подводчиком.
Из ворот выскочила бабка Софья.
– Здравствуйте, бабушка! – сказал отец.
– Здравствуйте, родные! – старуха потянулась целовать нас.
– Милые мои, – расплакалась, она.
– Можно у вас, бабушка, остановиться на недельку? – спросил у нее отец. – Пока мы квартиру себе найдем.
– Ой, и о чем там спрашивать, – всплеснула руками добрая старушка. – И спрашивать нечего… Живите у нас сколько вам захочется.
– А Карпо Парамонович не будет возражать?
– У-у ты, боже мой! Да он рад без ума будет.
Пока отец разговаривал с бабкой Софьей, я внимательно оглядывал улицу.
Вот большой, крытый железом, дом Кодьки Бирюкова, а вот рядом с ним и наш бывший дом, в котором теперь живут Вохлянцевы… У меня тоскливо заныло сердце. Сколько милых воспоминаний связано с нашим домом. Такой он родной, близкий, и вот теперь в нем живут чужие люди… Глаза мои затуманились…
– Сашурка! – окликнул кто-то меня.
Широко расплывшись в улыбке, по улице бежал веснушчатый мальчишка.
– Хо! – закричал я обрадованно. – Коля!
Ко мне бежал один из друзей детства – Коля Самойлов.
Подбежав, мальчуган с радостным изумлением уставился на меня своими серыми глазенками.
– А где ж Кодька? – спросил я.
– Кодька-а, – протянул Коля, – в Усть-Медведице… Он там второй год уже учится в духовном училище… И вохлянцевы ребята тоже там учатся.
Вот, оказывается, почему не видно Кодьки. Учится. Меня это поразило. Никодим не был большим охотником до учения, и вдруг он в духовном… Чудеса!
– А Андрей Поляков где?
– Ну, Андрей-то тут… – сказал Коля, – Да и другие ребята тоже тут.
Он не спускал с меня восторженного взгляда.
– Совсем приехал, Саша? – спросил он.
– Совсем. Теперь никуда уже не поеду.
– А дом свой не отберете у Вохлянцевых?
Вопрос был коварный. С каким удовольствием я отобрал бы свой дом, но ведь это же невозможно.
– Нет, Коля, – вздохнул я. – Как же его отберешь? Ведь деньги-то мы с отцом растранжирили.
– А надо б отобрать, – сказал Коля. – А то они все, Вохлянцевы, такие задаваки… Ванька с Андреем, когда приезжают из Усть-Медведицы, так на нас и не глядят… Корчат из себя благородных. Подумаешь! Мы им собираемся морду набить.
– А Кодька тоже задается?
– Нет. Кодька не задается. Он с нами играет… А ты, Сашурка, тоже где-нибудь учишься?
Я смутился, покраснел.
– Фу ты, подумаешь, – с пренебрежением сказал я. – А чего мне учиться?.. Я и так все знаю… Я так читаю, – расхвастался я. – Я все книги про индейцев прочитал… Ты читал Майн Рида?
– Нет, – закрутил головой Коля.
– А Фенимора Купера?
– Н-нет.
– А Густава Эмара?
Бедный Коля заморгал, пораженный моей начитанностью.
– Н-нет.
– А Жюль Верна? – с горячностью наступал я.
– Нет.
– А про сыщиков Нат Пинкертона и Шерлок Холмса читал?
– Н-нет, – сконфуженно прошептал мальчик, совершенно ошеломленный и уничтоженный моим превосходством.
– Я и книги Вальтер Скотта читал, – стал перечислять я. – И Виктора Гюго, и «Пещеру Лехтвейса»… Да я и сам книгу написал про войну индейцев с казаками. Вот как-нибудь прочту ее тебе…
Коля посмотрел на меня с изумлением.
– Вот ты какой, – прошептал он почтительно. – Ты, наверно, пишешь красиво, с нажимом?..
Этот вопрос немного охладил меня.
– Да как тебе сказать, – с запинкой проронил я. – Ничего так пишу, но… подучиться писать лучше не мешает.
Коля обрадовался.
– А я, Сашурка, пишу, ух, как красиво!.. – сказал он, довольный тем, что хоть чем-то он может похвалиться. – Я учусь в третьем классе на пятерки… А по чистописанию все время мне ставят пять с плюсом… Хочешь, я тебя научу красиво писать?
«Тоже мне, учитель», – подумал я, но вслух ничего не сказал.
– А арифметику ты тоже знаешь? – спросил Коля.
– Есть чего, – самодовольно фыркнул я.
– А сколько семью восемь? – спросил Коля.
– Семью восемь? Семью восемь… Семью восемь… – Я вспотел. – Да черт его знает, сколько это семью восемь… Семью восемь, – шептал я, – это семь раз по восемь… семь да семь – четырнадцать… Да еще четырнадцать – двадцать восемь…
– Ну, чего ты, Саша, шепчешь? – весело рассмеялся Коля. – Семью восемь – пятьдесят шесть.
Я был поражен тем, как быстро считает Коля.
– А шестью семь? – спросил он снова, весьма довольный тем, что привел меня в замешательство.
Я было снова начал шептать, складывая в уме, но Коля, развеселившись, перебил меня.
– Да сорок два ж! – воскликнул он, – Да ты что, Саша, не знаешь таблицы умножения, что ли?
– Нет, – сконфуженно ответил я. – А это что такое?
– Неужели не знаешь? – изумленно спросил мальчуган. – Да ведь ее еще в первом классе изучают…
Я был окончательно посрамлен. Авторитет мой был подорван.
Опустив голову, я молчал. Мне было стыдно.
– Ну, ничего, – успокаивающе проговорил Коля. – Я тебе дам таблицу умножения, ты ее выучи… Это пустяки. За два дня ты ее выучишь и сразу будешь знать, сколько пятью пять и шестью шесть…
– Завтра же принеси. Ладно? – попросил я.
– Ладно.
– Сашурка! – позвала меня бабушка Софья. – Иди вечерять.
Мы расстались с Колей, договорившись назавтра встретиться.








