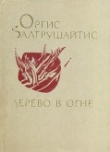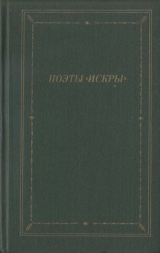
Текст книги "Поэты «Искры». Том 2"
Автор книги: Дмитрий Минаев
Соавторы: Виктор Буренин,Николай Курочкин,Гавриил Жулев,Алексей Сниткин,Василий Богданов,Петр Вейнберг,Николай Ломан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
Поэма
Печален будет мой рассказ.
А. Пушкин
1
Не всё ж смеяться нам… Находит иногда
На каждого из нас стих грустный, господа,
А не найдет, так жизнь сама тот стих подскажет,
Его с каким-нибудь печальным фактом свяжет
И если вырвет смех, то не веселый, злой,
Как в осень ветра стон, под непроглядной мглой
Тоскливо ноющий, нам в душу проникая…
Печальный свой рассказ начну издалека я.
В те дни, когда от сел до шумных городов
Очнулась наша Русь от сна, в конце годов
Пятидесятых, вдруг в кружках литературных
И в двух-трех органах, в то время подцензурных,
Но смелых, – с цензором в ладу жила печать,—
Писатель молодой вниманье обращать
Стал на себя. Ему успех сулили верный
Журналы тех времен, и – случай беспримерный! —
Сам Гончаров Иван, на похвалы скупой,
К нему благоволил. Закон судьбы слепой,
Однако, подшутил над бедняком жестоко,
И не сбылись слова газетного пророка,
Сплетавшего ему заранее венок
Лавровый. С климатом Невы бороться мог
Недолго молодой приятель мой Рахимов
(Я выбрал для него один из псевдонимов)
И, раздражительный до крайности, больной,
В хандре был принужден уехать в край иной
За новым воздухом живительным и светом.
Как жил, что делал там два года он – об этом
Не знал никто из нас. Как в воду канул он
И без вести пропал. Был сильно поражен
Печальной вестью я уже гораздо после,
Что он сошел с ума в Испании. Нашлось ли
Там несколько друзей у юноши? Какой
Отравой нравственной с безумною тоской
Он был сражен? Не мог о том сказать никто нам;
Узнали только мы, что там, под небосклоном
Толедо, он попал в больницу, как в тюрьму,
Где, верно, суждено окончить дни ему,
И что надежды нет уже на возвращенье Рассудка.
От души и полны сожаленья,
На родине друзья скорбели о судьбе
Собрата своего, но в будничной борьбе,
Где бьемся день за днем мы все теперь тревожно,
Воспоминаньями жить долго невозможно,
И постепенно был забыт и погребен
В гробнице памяти друзей живущих он.
2
Так два десятка лет промчались… Разве мало?
Достаточно нас всех помяла, истрепала
Жизнь, полная тревог, падений, горьких слез,
Обманутых надежд и оскверненных грез.
Ко многому привык наш мозг, наш глаз и ухо,
И старость, гадкая, развратная старуха,
Неумолимая, как голод, как нужда,
Уже подходит к нам… «Жизнь вечно молода!»
Но отвлеченное понятие такое
Иронии полно и не вернет покоя,
Когда при этом я – не правда ли, mesdames? —
Вам по наружности лет сорок с лишним дам,
Наживши в вас врага ужаснейшего сразу…
Однако возвращусь я к своему рассказу.
Рахимов был забыт, как я уже сказал,
Но вдруг случилось то, чего никто не ждал
И меньше всех врачи испанские в Толедо…
Где было знание бессильно, там победа
Осталась за одной природой. Прав Шекспир,
Что многое есть в ней, чего не может клир
Всех мудрецов понять. Больной, приговоренный
К безумью навсегда, при жизни погребенный
В больнице, ожил вдруг, и разом спала тьма,
Как пелена, с его дремавшего ума.
То было чудо, но все стихотворцы с жаром
Испанию зовут «страной чудес» недаром,
А факт вам налицо. Давно забытый друг
На родину спешил и, словно с неба вдруг
Иль, правильней сказать, как выходец из гроба,
Явился предо мной, но мы друг друга оба
Едва могли узнать, и радость встречи той
Смутила грусти тень. «О милый мой, постой,—
Твердил невольно я. – Да это, полно, ты ли?
Прощаясь, разве мы с тобой такими были?»
И в этом старике усталом и худом
Живого юношу я мог признать с трудом,
И только лишь глаза, хотя глубоко впали,
Нередко у него, как в юности, сверкали.
3
Но драма впереди еще его ждала,
Чего не мог тогда предвидеть я. Была
Большая разница меж им и всеми нами,
Которых он нашел покрытых сединами.
Мы шаг за шагом шли все эти двадцать лет,
Оставив за собой утрат печальный след;
Судьба не сразу нас, но исподволь ломала,
Нас жизнь по мелочам со многим примиряла,
И мы не делали в ней бешеных скачков,
А он слетел в наш мир как будто с облаков,
С мечтами прежними, с студенческим экстазом,
Все эти двадцать лет перешагнувши разом,
Начавши с лозунга: «Курган Малахов сдан!»
И кончив новостью: «Взят Карс и Ардаган».
Тогда его пришлось знакомить год за годом
С неведомым ему огромным периодом,
Сжав повесть длинную, состарившую нас,
В один эпический и бытовой рассказ.
Друг слушал, голову склонив и хмуря брови,
Всё делался бледней – в лице ни капли крови —
И наконец сказал: «Но было в наши дни
Немало крупных сил, талантов… Где ж они?
Да, где они, скажи? Не все же изменили
Прошедшему, не все еще лежат в могиле?
Я веру сохранил в людей, мне дорогих,
И, прежде чем спрошу тебя я о других,
Дай Добролюбова и Писарева адрес».
– «Они отправились…» – «Куда, зачем?» – «Ad patres[65]65
К праотцам (т. е. умерли) (лат.). – Ред.
[Закрыть].
Оплакали мы их, но в мире нет потерь
Незабываемых, и их у нас теперь
С успехом заменить успел Евгений Марков,
Переснявший всех, как посреди огарков
Друммондов яркий свет». – «Бессмертье заслужив,
Великий комик наш Мартынов, верно, жив?»
– «Жив… в памяти своих поклонников, дружище.
А сам давно лежит на городском кладбище
С Максимовым рядком, с Сосницким… Многих нет,
Которых он увел с собою в лучший свет
И никого взамен себя нам не оставил…
Но, впрочем, нет, у нас еще есть Вейнберг Павел,
При общем хохоте всех русских городов
Способный мастерски изобразить жидов».
– «Некрасов как живет, что пишет? В полной силе,
Надеюсь я, талант его богатый, или…
Боюсь спросить о том…» – «Он умер тоже, брат,
И уж о нем у нас почти не говорят.
Забыт и Курочкин покойный вместе с Меем.
Мы духу времени противиться не смеем
И в век промышленный биржевиков, дельцов
Совсем уже не чтим лирических певцов,
Давно их заменив продуктами грошовых
Стихотерзателей каких-то Барышевых,
Мартьяновых… имен не помню даже всех,
Чего, конечно, мне ты не поставишь в грех».
– «Да, почва невская, я вижу, нездорова…
Хоть Даргомыжского найду ли я, Серова?»
– «Увы, их тоже нет, но вздох свой затаи:
Маэстро Лазарев есть с Цезарем Кюи,
Который так у нас не терпит итальянцев,
Что со столбцов газет привык, как из-за шанцев,
Их грозно сокрушать как музыкальный страж».
– «Так кем же полон мир интеллигентный ваш?
Порадуй чем-нибудь меня хорошим, новым,
Дай „Современник“ мне последний с „Русским словом“».
– «Тебе их дать, мой друг, никак я не могу.
Вот „Берег“ почитай… Нет, нет, поберегу
Тебя на первый раз… Два толстые журнала,
Где прежде мы с тобой работали немало,
Уж стали редкостью, и их библиоман
Хранит в своем шкафу и переплел в сафьян.
Вот „Русский вестник“ ты везде найдешь покуда
И купишь дешево на рынке на вес, с пуда;
Но сам Катков сказать мог смело бы весьма:
„Теперь я, брат, не тот!“ как в „Горе от ума“,
И лишь с Цитовичем – судьба такая вышла —
Он вправе нынче стать под пару прямо в дышло».
– «А Помяловский где, Левитов и Слепцов?»
– «Всё там же, где и все, – у дедов и отцов.
Зато за шестерых, день каждый, без отдышки,
Стал Лейкин печь то очерки, то книжки
И так пришелся всласть, что уже с давних пор,
Поджав животики, ржет целый Щукин двор
От разных сцен его и очерков…» – «Довольно!
Пощады я прошу, тебя мне слушать больно…»
И быстро он ушел… Теперь он очень плох.
Смутил его контраст различных двух эпох,
Поставленных пред ним так беспощадно рядом,
И старый юноша, идеалист по взглядам,
Не ужился в среде, совсем чужой ему,
Дичиться начал всех, не ходит ни к кому
И часто, позабыв об отдыхе и пище,
Проводит целый день на Волковом кладбище,
Читая надписи крестов, могильных плит
И, потрясенный вновь, как доктор говорит,
От ломки нравственной поправится едва ли
И перейдет опять к безумью от печали.
1880
ИЗ ПЕРЕВОДОВ
Генрих Гейне332. ИЗ ПОЭМЫ «ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
<Глава> 3
Томас Гуд
В старом Ахене в старой гробнице лежит
Карл Великий… Я верен надежде,
Что с ним Мейера Карла не будут мешать;
Этот «карлик» жил в Швабии прежде.
В императорском гробе во храме лежать
Не желал бы я трупом отпетым;
В этом случае лучше бы я предпочел
Жить в Штутгарте безвестным поэтом.
Даже псы в древнем Ахене выли с тоски
И просили такого привета:
Чужестранец! Пожалуйста, дай нам пинка,
Может быть, развлечет нас хоть это.
Целый час я бродил в этом скучном гнезде,
С прусским воинством встретился снова,
И, его наблюдая, я в нем не нашел
Измененья почти никакого.
На шинелях всё тот же пришит воротник,
С ярко-красным, воинственным цветом:
Красный цвет знаменует французскую кровь —
Кернер нам сообщил под секретом.
А народ всё такой же солдат и педант,
В каждом жесте – углов переломы;
Заморожено чванством холодным лицо,
Деревянные те же приемы.
Эти бревна в мундирах с ходулей глядят,
Словно все они вдруг проглотили
Те же самые палки, которыми их
Так недавно еще колотили.
Да! для них фухтеля не исчезли вполне…
Но, внутри себя их сберегая,
Знают верно они, что без тех фухтелей
Жить не может страна дорогая.
Нынче носят, положим, большие усы,
Но что ж нового в том, в самом деле?
В старину прежде сзади носили косу,
Нынче – под носом косы надели.
Вот мне новая форма пришлась по душе —
Стоят, право, похвальной огласки
Шишаки с их булатным, большим острием,
Наподобие рыцарской каски.
Старину с романтизмом напомнит опять
Этот шлем, заостренный как пика,
Он напомнит баронские замки, пиры,
И Фуке, и Ула́нда, и Тика;
Он напомнит рассказы из средних веков,
Знаменосцев в их пышном наряде,
Как они свою верность носили в груди,
А гербы золоченые – сзади.
Он напомнит крестовых походов года,
Меченосцев, турниры, обеты,
Дни, когда ядовитый печатный станок
Не печатал для мира газеты.
Да, на каску я, право, с восторгом глядел.
Ведь, ей-богу, придумано мило:
Королевская выдумка эта для всех
Остроумье свое заявила.
Я боюсь одного: если вспыхнет гроза
И метать свои молнии станет,
То, пожалуй, ваш острый булатный шишак
На себя гром народа притянет.
Каской новой и легкой на случай войны
Вам придется тогда запасаться:
Ведь под тяжкими шлемами средних веков
Мудрено будет бегством спасаться.
На почтамтской стене, я увидел опять,
Ненавистная птица сидела,
И своими глазами она на меня
Ядовито и злобно смотрела.
О! проклятая птица! Когда я тебя
Наконец в свои руки поймаю —
Я из крыльев все перья твои отщиплю
И все когти твои обломаю.
На высоком шесте я тебя посажу,
И, чтоб разом покончить с тобою,
Созову непременно я рейнских стрелков
Развлекаться веселой стрельбою.
И чья пуля зловещую птицу собьет,
Я невольный восторг обнаружу,
И корону и скиптр королевский вручу
Я тому благородному мужу.
<1867>
333. ПЕСНЯ О РУБАШКЕ
Шарль Бодлер
В лохмотьях нищенских, измучена работой,
С глазами красными, опухшими без сна,
Склонясь сидит швея, и всё поет она,
И песня та звучит болезненною нотой.
Поет и шьет, поет и шьет,
Поет и шьет она, спины не разгибая,
Рукой усталою едва держа иглу,
В грязи и холоде, в сыром своем углу
Поет и шьет она, спины не разгибая:
«Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока петух вдали кричать не станет;
Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока хор звезд сквозь крышу не проглянет.
О, лучше б быть рабой у турков мне
И от работы тяжкой задохнуться:
Ведь в их нехристианской стороне
Язычники о душах не пекутся!..
Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока твой мозг больной не станет расплываться;
Сиди и шей, шей день и ночь,
Пока глаза твои совсем не помутятся.
Переходи от ластовицы к шву…
Швы, складки, пуговки и строчки…
Работу сон сменил, но словно наяву
Я и в тревожном сне всё вижу шов сорочки.
О вы, которых жизнь тепла так и легка,
Вы, грязной нищеты не ведавшие люди,—
Вы не бельем прикрыли ваши груди,
Нет, не бельем, но жизнью бедняка.
Во тьме и холоде, чужая людям, свету,
Сиди и шей с склоненной головой…
Когда-нибудь, как и рубашку эту,
Сошью сама себе я саван гробовой.
Но для чего теперь я вспомнила о смерти?
Она ли устрашит рассудок бедный мой?
Ведь я сама похожа так – поверьте —
На этот призрак страшный и немой.
Да, я сама на эту смерть похожа.
Всегда голодная, ведь я едва жива…
Зачем же хлеб так дорог, правый боже,
А кровь людей повсюду дешева?
Работай, нищая, не ведая истомы,
Работай без конца! Твой труд всегда с тобой,
Твой труд вознагражден: кровать есть из соломы,
Лохмотья грязные да черствый хлеб с водой,
Прогнивший ветхий пол и потолок с дырою,
Разбитый стул, подобие стола
Да стены голые; казалось мне порою —
С них даже тень моя свалиться бы могла…
Сиди и шей и спину гни,
С работы не своди взор тусклый, утомленный
Сиди и шей и спину гни,
Как спину гнет в тюрьме преступник заключенный.
Сиди и шей – работа нелегка,—
Работай – день, работай – ночь настанет,
Пока разбитый мозг бесчувственным не станет,
Как и моя усталая рука.
Работай в зимний день без солнечного света,
Не покидай иглы, когда настанут дни,
Дни благовонного, ликующего лета…
Сиди и шей и спину гни,
Когда на зелени появятся росинки,
И гнезда ласточки свивают у окна,
И блещут при лучах их радужные спинки,
И в угол твой врывается весна.
О, если б я могла вон там, над головою,
Увидеть небеса без темных облаков,
Увидеть пышный луг с зеленою травою,
Могла упиться запахом цветов —
И белой буквицы и розы белоснежной,—
То этот краткий час я помнила б всегда,
Узнала бы вполне я цену скорби прежней,
Узнала б, как горька бессменная нужда.
За час один, за отдых самый краткий
Неблагодарною остаться я могла ль?
Ведь мне, истерзанной холодной лихорадкой,
Понятна лишь одна безмолвная печаль.
Рыданье, говорят, нам сердце облегчает,
Но будьте сухи вы, усталые глаза,
Не проливайте слез: работе помешает
Мной каждая пролитая слеза…»
В лохмотьях нищенских, измучена работой,
С глазами красными, опухшими без сна,
Склонясь сидит швея, и всё поет она,
И песня та звучит болезненною нотой.
Поет и шьет, поет и шьет,
Поет и шьет она, спины не разгибая,
Рукой усталою едва держа иглу,
В грязи и холоде, в сыром своем углу
Поет и шьет она, спины не разгибая.
<1865>
334. КАИН И АВЕЛЬ
Виктор Гюго
Племя Авеля, будь сыто и одето,
Феи добрые покой твой охранят;
Племя Каина, без пищи и без света
Умирай, как пресмыкающийся гад.
Племя Авеля, твоим счастливым внукам
Небеса цветами усыпают путь;
Племя Каина, твоим жестоким мукам
В мире будет ли конец когда-нибудь?
Племя Авеля, довольство – манной с неба
На твое потомство будет нисходить;
Племя Каина, бездомное, без хлеба,
Ты голодною собакой станешь выть.
Племя Авеля, сиди и грейся дома,
Где очаг семейный ярко запылал;
Племя Каина, постель твоя – солома,
В стужу зимнюю дрожишь ты, как шакал.
Племя Авеля, плодишься ты по свету,
Песню счастия поют тебе с пелен;
Племя Каина лишь знает песню эту:
Вопль детей своих и стоны чахлых жен.
Племя Авеля! Светло твое былое,
Но грядущего загадка нам темна…
Племя Каина! Терпи, и иго злое
Грозно сбросишь ты в иные времена.
Племя Авеля! Слабея от разврата,
Измельчает род твой, старчески больной…
Племя Каина! Ты встанешь – и тогда-то
Под твоим напором дрогнет шар земной.
<1870>
335. ВО МРАКЕ
Старый мир
Волна, остановись, отпрянь назад. Довольно!
Прилив твой никогда так дерзко-произвольно
Вверх не взлетал… И отчего, волна,
Ты так сурова, мрачно-холодна?
Зачем весь этот рев, и ливень беспрерывный,
И ветра дикий вой в час полночи отзывной?
Как чудо грозное, твой вал вперед бежит…
Так стой же, говорю. Здесь твой предел лежит.
Не сокрушай в своих набегах ярых
Законов старины и предрассудков старых,
Безумья нищеты и тяжкого ярма,
Ничтожества давно уснувшего ума,
Где стихли навсегда желанья с их тревогой;
Цепей, наложенных на женщину, не трогай,
Оставь великий пир, где нищим места нет,
И пусть предания боготворит весь свет.
Не трогай их и стой: они для нас святыни.
Те сильные, громадные твердыни
Вкруг человечества я строил и воздвиг…
Но ты вперед бежишь, всё выше каждый миг,
Всё унося в неистовом напоре:
Вот старый манускрипт, вот древний кодекс в море
Ты унесла, и в массе буйных вод
Умчался далеко кровавый эшафот.
Вот королевский трон. Оставь его… О боже,
Низвергнут он. Низвергнуты с ним тоже
Последних месс последние жрецы.
Вот судьи, – стой! Стой – это чернецы…
Довольно – стой! Не поднимайся выше,
Соленая вода, покойней будь и тише…
Но до колен моих ты поднялась,
Меня залить ты хочешь… ворвалась
В приют мой, вечно тихий и обширный.
Волна
Ты думал, я – прилив, а я – потоп всемирный.
<1875>
ВАСИЛИЙ БОГДАНОВ
Биографическая статья
Василий Иванович Богданов родился 12 января 1837 г. в городе Лихвине Калужской губернии, в семье священника.
По окончании калужской гимназии он поступил на медицинский факультет Московского университета. Будучи студентом, Богданов некоторое время давал уроки в семействе Берсов (провел у них в Покровском-Стрешневе, под Москвой, лето 1860 г.). В воспоминаниях жены Л. Н. Толстого, урожденной Берс, сохранилась колоритная страница, рисующая его облик в студенческие годы. «Это был живой, способный малый, интересовавшийся всем на свете, – пишет С. А. Толстая, – прекрасный студент, умелый учитель и ловкий стихотворец. Он первый, как говорится, развивал нас трех сестер. Он так умел интересно преподавать, что пристрастил прямо меня, ленивую девочку, например, к алгебре и русской литературе, особенно к писанию сочинений. Эта форма самостоятельного изложения впечатлений, фактов, мыслей до того мне нравилась, что я писала длиннейшие сочинения с страшным увлечением. Раз он задал мне тему чрезвычайно трудную: „Влияние местности на развитие человека“». Позже, по свидетельству Толстой, Богданов приносил ей «философские книги материалистов: Бюхнера, Фейербаха и других»; вместо урока «он горячо толковал мне, что бога нет, что весь мир состоит из атомов и тому подобное»[66]66
Толстая С. А. Письма к Л. Н. Толстому. М.; Л., 1936. С. 4. По словам П. С. Попова, Богданов послужил прототипом студента Дмитрия Ивановича – героя повести С. А. Толстой «По поводу „Крейцеровой сонаты“» (там же. С. XII). См. также: Кузьминская Т. А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. 3-е изд. Тула, 1959. С. 53, 75, 85, 471.
[Закрыть].
В 1861 г. Богданов окончил университет, а в 1862 г. переехал в Петербург. Сначала он служил в больнице для чернорабочих и в родильне воспитательного дома, а затем перешел в морские ведомства и в течение двадцати лет служил врачом в Балтийском флоте: в Кронштадте и Петербурге, в морском госпитале, флотских экипажах и пр[67]67
Сведения о врачебной деятельности Богданова приведены в био-библиографическом словаре Л. Ф. Змеева «Русские врачи-писатели», тетр. 4, Спб., 1888. С. 33.
[Закрыть]. В 1865–1867 гг. Богданов совершил кругосветное плавание на клипере «Изумруд». Литературным результатом этого путешествия явилась статья «Корабельный медицинский журнал винтового клипера „Изумруд“» («Медицинские прибавления к „Морскому сборнику“», вып. 10, Спб., 1870) и путевые очерки (не все они напечатаны), в которых отразились его впечатления от разных стран, его демократические симпатии и ненависть ко всякому гнету, в частности враждебное отношение к порядкам, господствовавшим в английских и голландских колониях.
После переезда в Петербург Богданов, по-видимому, довольно скоро сблизился с искровцами. Во всяком случае, уже 22 марта 1863 г. в III Отделение поступил донос бывшего студента Технологического института Волгина, исключенного во время студенческих беспорядков 1861 г., в котором он упоминает и о Богданове. «После падения Шахматного клуба, – писал Волгин, в доносах которого, правда, много вздора, – образовался клуб поморных в редакции журнала „Искра“. Инициатива этого клуба принадлежит г-ну Василию Степановичу Курочкину. В его клубе собирались и собираются постоянно большею частью члены крайней партии и иногда и члены бывшего Шахматного клуба, в ожидании открытия нового публичного клуба. Состав его уже известен: Курочкин, Преображенский[68]68
Псевдоним Н. С. Курочкина.
[Закрыть], Минаев, Храповицкий, Зиновьев, Лев Камбек, Николай Наумов, Стопановский и многие другие. В последнее время в этот клуб поступили два новые лица: Александр Венецкий и доктор Василий Богданов; обе эти личности из Московского университета, из кружка деркачевского[69]69
Вероятно, речь идет о революционном кружке Ивана Деркача, уволенного в 1858 г. из Харьковского университета, переехавшего в Москву и сблизившегося со студентами Московского университета; см. статью Г. И. Ионовой «Воскресные школы в годы первой революционной ситуации» («Историч. записки», 1956. Т. 57. С. 204–205). Не исключено, впрочем, что имеется в виду Илья Петрович Деркачев, впоследствии известный педагог.
[Закрыть]. В настоящее время в этом клубе поморных идет решение вопроса о том: 1) каким образом открыть новый публичный клуб (вроде Шахматного) и 2) каким образом открыть подписку денег на расходы, которые окажутся необходимыми при первой удобной минуте к революции»[70]70
Герцен А. И. Полн. собр. соч., Пб., 1920. Т. 16. С. 170.
[Закрыть].
Богданов был тесно связан с «Искрой» вплоть до ее прекращения в 1873 г. и был одним из тех сотрудников журнала, которые определяли его идейную физиономию.
Главным героем первых стихотворений Власа Точечкина (основной псевдоним Богданова в эти годы) является трудовой люд большого города, преимущественно бедняк-разночинец, задавленный нищетой и бесправием: лекарь, который думал – «жить буду честным человеком», но опустился и стал взяточником («Лекарь»)[71]71
«Искра». 1863, № 40. С. 566.
[Закрыть]; провинциальный семинарист, пешком добравшийся до Петербурга, поступивший в университет, но не имевший возможности учиться, спившийся и умирающий с голоду («Наш пролетарий»); выгнанный со службы мелкий чиновник, заливающий свою несчастную долю водкой («Песня дяде Хмелю»)[72]72
«Искра». 1865, № 20. С. 288.
[Закрыть], и т. д. Высмеивая оторванную от реальной жизни, игнорирующую ее темные стороны «чистую поэзию», Богданов в программном стихотворении «Беседа с музою» демонстративно подчеркивает, что его героями являются бедняки, труженики, работающие до изнурения и живущие в ужасных условиях.
Многие стихотворения этого и более позднего времени являются своеобразными стихотворными очерками, зарисовками, сценками, портретами. Богданов, как и другие искровцы, обращается к куплету с рефреном. При этом он, по удачному выражению одного критика, старался приспособить рефрен «не только на русский, но и на мужицкий лад»[73]73
Амфитеатров А. В. Забытый смех. М., <1914>. Сб. 1. С. 360.
[Закрыть]. Явственно чувствуется в стихотворениях Богданова с первых лет его литературной деятельности идейно-художественное воздействие Некрасова, его образов, поэтических интонаций.
В середине 1860-х годов в творчестве Богданова намечается известный перелом. Вехой этого перелома является его «Дубинушка» («Много песен слыхал я в родной стороне…»), которая, в позднейшей переделке А. А. Ольхина, стала одной из самых популярных революционных песен. Естественно, что замечательная революционная песня заслонила собою первоначальный, легальный текст «Дубинушки», который был совершенно забыт и до 1933 г. ни разу не перепечатывался, а между тем не только в творчестве Богданова, но и в истории русской революционной песни его «Дубинушка» представляет собою заметное явление.
Судьба крестьянина оттесняет в поэзии Богданова на задний план образ задавленного нуждою демократа-разночинца. В то же время наряду с лирикой существенное, даже преобладающее место занимает в ней сатира, а безнадежные настроения, психологическая подавленность сменяются бодрым, мажорным тоном. Ко второй половине 1860-х годов относятся стихотворения «Химеры» и «Eppur si muove!», полные веры в светлое будущее человечества, причем в первом из них явственно чувствуются социалистические симпатии Богданова.
«Героем времени», с наибольшим постоянством и язвительностью преследовавшимся в сатире Богданова, является пореформенный крепостник. Многие его стихотворения воссоздают яркий сатирический образ помещика, тоскующего о блаженных временах крепостного права, жалующегося на лень и грубость «хамова отродья» и взывающего к правительству о сохранении всех сословных привилегий дворянства. Он не прочь несколько «улучшить быт простонародья», но отнюдь не из любви к нему, а вследствие убеждения, что более или менее сытый, здоровый и грамотный мужик будет ему гораздо полезней («Свой идеал»). Вместе с тем он «ладит дома с батраками Кулаками» («Подводный камень современного прогресса»[74]74
«Будильник». 1865, № 35. С. 137.
[Закрыть]). В стихотворении «Мы – особь статья!», написанном, как и некоторые другие, от имени «одного из могикан» крепостнической России, говорится о постепенном оттеснении от социально-политической жизни родовитого дворянства и высмеиваются претензии аристократии на первую роль в государстве. Не только в революционных идеях, но даже в постепенном проникновении в русскую жизнь капиталистических начал и весьма умеренных реформ герой стихотворения видит посягательство на неотъемлемые права своего класса.
Резко антидворянский характер имеет стихотворение «Из автобиографии щенка»[75]75
«Искра». 1871, № 6. С. 170–173.
[Закрыть]. Иронизируя над дворянством, кичащимся своим древним происхождением, Богданов обличает его тунеядство, угодливость и подобострастие перед особами царствующего дома, презрение к народу и как бы мимоходом упоминает о французской революции XVIII в. («От революции бежали С поджатым между ног хвостом»). Таким образом, антидворянские тенденции выражены здесь на западноевропейском материале. Стихотворение интересно и по своим художественным приемам. По словам автора, оно является «переводом с собачьего языка на российский». Герой стихотворения взят из мира животных, и оно в какой-то степени перекликается со сказками Щедрина.
Как видим, сатира Богданова касается не только русских, но и иностранных дел. В течение нескольких лет он вел в «Искре» (а когда в 1869 г. «Искра» несколько месяцев не выходила, то в «Будильнике», где он вообще активно сотрудничал) обозрение иностранной политической жизни «Заметки со всех концов света». В них рассыпано много интересных образцов политической поэзии, стихотворных отрывков, которые нередко почти невозможно изъять из прозаического контекста. Но и по своим художественным, жанровым признакам это преимущественно фрагменты, фиксирующие и оценивающие отдельные стороны и события текущей политической жизни. В них много злых насмешек над милитаризмом, клерикализмом, над притеснителями рабочего класса, предпринимавшими поход на заработную плату, разгонявшими демонстрации и сходки, над соперничеством английского и французского империализма в колониях, Наполеоном III, Бисмарком, Тьером, ряд явно сочувственных высказываний об активизации западного пролетариата, об испанской революции, Парижской коммуне и т. д. Стихотворение о Парижской коммуне, построенное в форме диалога парижского и версальского хоров, т. е. сторонников и врагов Коммуны, кончается столь же выразительной, сколь лаконичной репликой парижан: «Ну так пусть все прения порешат штыки»[76]76
Несколько позже, в «Новостях и заметках», напечатанных в «Азиятском вестнике», Богданов писал о зверствах версальцев (1872, № 1.С.88).
[Закрыть]. Сквозь иностранные события нередко просвечивают русские социальные отношения (см., напр., стихотворение «Плантаторам рабов отдали напоследках»). Очень часто Богданов приписывал свои стихи какому-нибудь французскому или немецкому сатирическому журналу, а самого себя выдавал лишь за скромного переводчика, но читатели-друзья понимали, конечно, что это делается для цензуры.
После прекращения «Искры» Богданов вряд ли перестал писать, но он потерял широкую читательскую аудиторию, которая у него была во время сотрудничества в журнале Курочкина; оборвались, по-видимому, и его тесные связи с литературной средой.
Во время своей службы в Кронштадте Богданов принимал близкое участие в работе местного общества морских врачей, а в 1874–1875 гг. состоял его секретарем. В «Протоколах» общества он напечатал две медицинские статьи. В 1878 г. Богданов выпустил брошюры: «Таблицы для измерения влажности воздуха на судах» и «Житье-бытье на море: Беседы из морского и приморского быта». Он задумал целую серию популярных брошюр-бесед о «житье-бытье на море», но дальше первой, в которой говорится «о том, как люди начали плавать по морю», дело не пошло.
В 1884–1885 гг. Богданов много печатался в «Осколках», но помещенные там стихотворения, за исключением двух-трех политически острых вещей, не возвышаются над уровнем непритязательного и поверхностного юмора этого журнала. В значительной степени это объясняется, вероятно, цензурными условиями и крайней осторожностью редактора «Осколков» Н. А. Лейкина. Ряд стихотворений Богданов напечатал также в театральной газете «Суфлер», но лишь одна из появившихся в «Суфлере» вещей заслуживает внимания. Это – перевод «Марсельезы», из которого, правда, были изъяты – без сомнения, по цензурным причинам – наиболее резкие места о тиранах и деспотах. Переводу было предпослано краткое предисловие («Два слова о „Марсельезе“»), где Богданов писал, что «Марсельеза» – не «чисто революционная песня, разжигающая народные страсти», а «просто патриотический гимн», в котором нет «ровно ничего возмутительного»[77]77
«Суфлер». 1885, № 22. С. 2.
[Закрыть]. Разумеется, все это вовсе не выражает подлинных взглядов Богданова и является «защитным цветом», ширмой, которыми часто приходилось пользоваться писателям демократического лагеря. Только таким образом можно было провести в печать – хотя бы в урезанном виде – знаменитую революционную песню. Следует подчеркнуть, что и в таком виде появление «Марсельезы» в легальной печати было весьма небезразличным фактом, напоминавшим русской читающей публике о вдохновенной песне, с которой шли на борьбу за родину и революцию против отечественной реакции и иностранных интервентов французские революционеры и патриоты XVIII в. и которая звучала как призыв к революционному действию для многих поколений не только французского, но и русского народа[78]78
Иначе – как сознательное и «грубо тенденциозное, реакционное искажение гимна революции» – оценивает богдановский перевод «Марсельезы» и «Два слова» о ней А. Л. Дымшиц («Литература и фольклор». М., 1938. С. 162–163), совершенно не учитывающий при этом условия русской печати 1880-х годов.
[Закрыть].
В 1885 г. Богданов перевелся в Черноморский флот, был назначен в Николаевский морской госпиталь. Умер он 5 августа 1886 г.
Только в 1959 г. стихотворения Богданова вышли отдельной книгой: Богданов В. И. Собрание стихотворений. Собрал и подготовил проф. А. В. Кокорев. Здесь появилось немало ценных фактических сведений и неизвестных стихотворений Богданова, однако текстологическая сторона издания и примечания изобилуют ошибками.