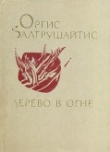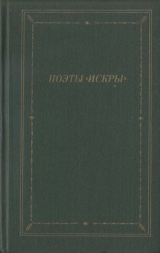
Текст книги "Поэты «Искры». Том 2"
Автор книги: Дмитрий Минаев
Соавторы: Виктор Буренин,Николай Курочкин,Гавриил Жулев,Алексей Сниткин,Василий Богданов,Петр Вейнберг,Николай Ломан
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
423–426. АНТОЛОГИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
1. НЕПОНЯТЫЙ ВОПРОС2. ПОДРАЖАНИЕ XIV ИДИЛЛИИ БИОНА
Скажи мне, подруга, не сам ли Зевес,
Спустившись на облаке светлом с небес,
В блаженстве со смертной три ночи провел
И дочку такую на свет произвел?
С обидной насмешкой глядя на меня,
Наивно сказала подруга моя:
«Какой тут Зевес и какая тут ночь!
Я просто военного писаря дочь».
<1859>
3. НАШЕ ВРЕМЯ
Звезда прелестная Венеры нежно-страстной!
Пока Диана лик скрывает свой прекрасный
За ближней рощею – молю тебя: свети,
Чтоб было через лес мне не темно идти.
Покинул я свой дом не для трудов опасных,
И в сердце не таю я замыслов ужасных.
Нет, мне назначила лесничего жена
Свиданье тайное в лесу. Теперь она
Давно, я думаю, супруга напоила.
Так некогда и ты Вулкана проводила.
<1859>
4. ПОЕЗДКА В ПАРГОЛОВО
Увы, давно прошли счастливые те годы,
Когда, послушные лишь голосу природы,
Народы мирно жизнь среди полей вели
И реки не водой, а нектаром текли;
Когда за смертными Юпитер увивался
И Бахус замертво с людями напивался;
Когда не привлекал Венеру денег звон
И неподкупен был прекрасный Аполлон;
Когда с Фемидою в согласьи судьи жили
И правдой правому, а злому злом платили;
Когда сам грозный Зевс преступников карал
И только лишь один Меркурий плутовал;
Когда… Но для чего нам попусту роптать?
Чем век наш не хорош? Чего еще желать?
Хоть нравы-то у нас теперь не слишком чисты,
Хоть денег за труды не платят журналисты,
Хоть Аполлон порой несет такую дичь,
Которой ни богам, ни смертным не постичь,—
Да гласность грозная повсюду процветает
И за делами всех бессонно наблюдает…
Забыв поэзию, людей и всё на свете,
Я ехал с милою в извозчичьей карете,
Спеша под кровлею крестьянской отдохнуть
И в тишине ночной в восторгах утонуть.
То было первое блаженное свиданье:
Красавица, склонясь на страстное желанье,
Решилася тайком покинуть отчий дом,
Чтоб сутки провести с любовником вдвоем.
(Кто любит истинно, в том безгранична вера!)
Для смелости с собой мы взяли редерера,
Бутылку коньяку, наливок двух сортов
И вкусных 35 с грибами пирожков.
(К несчастью, одарен я страшным аппетитом,
А поцелуями, увы! нельзя быть сытым.)
Но вот приехали. С улыбкой на лице
Встречает толстая нас баба на крыльце
И в комнату ведет, где, пар густой пуская,
Сердито самовар ворчит, на нас пеняя…
…………………………………
…………………………………
Остались мы одни. Обвив меня руками,
Подруга милая впилась в меня устами.
И этот поцелуй так много говорил,
Что понял я его и – свечку погасил…
427–429. ЭЛЕГИИ
1. ВОСПОМИНАНИЕ2. В ПАВЛОВСКЕ
Когда в ночной тиши я вспомню вдруг о ней,
Как с ней ложились мы вдвоем на это лоно,—
То плачу я тогда, как плакал иудей,
Влекомый в дальний плен от стен родных Сиона.
Не жаль мне капитал, который я убил
На шляпы, на цветы, на шелковые платья;
Не жаль мне ничего, что ей я подарил
За жаркий поцелуй, за страстные объятья;
Я не сержусь за то, что мне ты предпочла
Улана с длинными, пушистыми усами…
Но, от меня бежав, зачем ты унесла
Шкатулку с деньгами и ценными вещами!
3. «Я всё еще ее, безумный, не забыл!..»
Постой! здесь хорошо… Зеленою оградой
Кустарники кругом с деревьями сплелись;
Чуть слышно музыка доносится из сада,
А шумный говор стих и звуки улеглись.
Я не пойду туда, где Штраус вероломный
Ломается с смычком и скрипкою в руках,
Как в знойной Африке, на Ниле, змей огромный,
Свиваясь, нежится на солнечных лучах.
Да, в этот уголок мы забрели недаром.
Скорей здесь отдохнем под тению куста!
А там ты встретишься с знакомым лейб-гусаром…
Нет, не пойдем туда… там шум и суета!
Я всё еще ее, безумный, не забыл!
Я всё еще ее нередко вспоминаю,
Хотя давно уже другую полюбил
И, с первой разорись, вторую разоряю.
Я всё еще ее, безумный, не забыл.
Люблю, как не любить Полонскому и Фету,
Хоть деньги на нее казенные убил,
Хоть предпочла она откупщика поэту!
<1859>
430–431. МЕЛОДИИ
1. «Я мрачно сидел за бутылкой…»2. «И ветер и дождик шумели…»
Я мрачно сидел за бутылкой,
На мир, на людей рассердись,—
Когда между мною и ромом
Какая-то связь родилась.
Стихи я писал, но какие?
Не помню, а кажется, вздор!
Ром сразу меня отуманил,
И ром полюбил я с тех пор.
И ветер и дождик шумели
В деревне далекой, степной.
Мы с нею у печки сидели
С какою-то глупой хандрой.
Она была в теплой камали,
И я был закутан в халат,
А на сердце столько печали,
Как будто бы в нем целый ад!
И вижу я: духи толпою
Танцуют пред нами канкан.
О друг мой, скажи, что с тобою?
Я понял давно, что я пьян.
<1859>
432. ПОДРАЖАНИЕ ГЕЙНЕ («Расскажи, моя малютка…»)
Расскажи, моя малютка,
С кем тебя вчера я встретил?
Я прошел нарочно мимо,
Будто вас и не заметил.
Видел я, что он немолод
И мужчина некрасивый.
И малютка, покрасневши;
Отвечала мне стыдливо;
«Это мой внучатный братец,
И приехал он намедни;
Когда с ним меня ты встретил,
Мы домой шли от обедни».
И все дальние вопросы
Поцелуем прекратила.
Знаю я, что ты, плутовка,
Мне неправду говорила!
Знаю я, что этот братец
У тебя, как я, ночует;
Знаю я, что эти глазки
Часто он, как я, целует.
И вся разница меж нами,
Что его ты обираешь,
А потом его все деньги
Ты со мною же мотаешь.
Не виню я, что должна ты
Исполнять его желанья:
Ведь тебе, моя малютка,
Не даю я содержанья!
<1859>
433. СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
Под кустом густой малины,
В полдень, часто я лежу —
И на всё тогда так мрачно,
Как философ, я гляжу.
Скандинавские преданья,
Поэтические сны,
И народные сказанья,
И поверья старины —
Всё, что важно, что глубоко,
Носит след неясных дум,
До чего нам всем далеко…
Вот что мой решает ум.
Отчего к шарам воздушным
Не приделают руля?
Отчего, не уставая,
Вечно вертится земля?
Отчего непостоянно
Звезды на небе блестят?
Непонятные вопросы!
Непонятный результат!
<1859>
434. УГНЕТЕННАЯ НЕВИННОСТЬ, ИЛИ НОВАЯ ОДИССЕЯ
(НЕВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ ГОМЕРУ)
Муза, воспой похождения рыцаря Горькая Чаша,
Как он, ревнуя к науке, долго по свету скитался,
Сказки, поверья народа и песни везде собирая.
Как наконец он попался, подобно вождю Одиссею,
В руки циклопов новейших, грубых, небритых и пьяных.
Се, помолясь, начинаю:
Рыцарь Горькая Чаша
Прибыл в хладную область гипербореев,
В город, древле своим перевозом преславный.
Вот и прибыл туда Горькая Чаша в наряде народном:
В синем кафтане, у чресл препоясан ременкой,
В красной рубахе, брадатый, как есть православный.
(Каждый читатель поймет, что ученому мужу,
Шляясь по курным избам и беседу ведя с мужиками,
В белых перчатках ходить и во фраке совсем не пристало.)
Как гражданин, знающий твердо порядки, наш рыцарь
Лично отправился вид предъявлять. Это его и сгубило!
Строгий блюститель порядка и вместе блюститель прогресса,
Горькую Чашу в умысле тайном вдруг заподозрив,
Брови нахмурив, как Зевс, с речью такою к нему обратился:
«Чертов ты сын! Ну какой же ты доблестный рыцарь?
Ты среди белого дня шляешься в этаком срамном костюме:
Видно ли где, чтобы рыцарь костюм свой дворянский
Нагло сменил на гуню (и блюстителя речь справедлива).
Ты иль масон, иль бродяга, иль даже мормонский учитель.
Думаешь, нам неизвестно, кто это такие мормоны?
Нет, брат, читал в „Библиотеке“ я – и недавно —
Всю подноготную суть об этом проклятом расколе.
Знаю, что в разные страны клевретов они посылают
Народ обращать. И по роже твоей эфиопской
Вижу, что есть ты мормон и, стало, притом многоженец.
Ну, отправляйся в сибирку и жди там себе приговора».
Тщетно Горькая Чаша всеми бессмертными клялся,
Что не мормон он и даже совсем не женатый.
Тщетно к богам он взывал, призывая на помощь Фемиду.
Было ответом ему столько же слов энергичных,
Сколько не скажет и сам становой в воскресенье.
И посадили его. Долго он, долго томился
В грязной сибирке, сказки свои арестантам читая.
А просидел бы и дольше, когда бы не сам бюргермейстер,
Хотя из военных, но муж современного века,
Сам бы к нему не явился с ласково-нежным приветом.
«Милый мой (рек он ему), вижу, что вы не мормон, а ученый.
Паспорт возьмите вы свой и ступайте куда там хотите».
Горькая Чаша, снова в поддевку облекшись,
Тотчас хотел же уехать в свой град по железной дороге;
Но был он схвачен вторично и снова опять заподозрен:
Будто бы он не мормон был, а сам Дон-Кихот Сервантеса.
Снова его заключили, и снова galant[188]188
Вежливый, учтивый (франц.). – Ред.
[Закрыть] бюргермейстер
Через неделю ему и билет возвратил, и свободу.
Будь осторожен, читатель! Брей себе бороду глаже
И никогда не носи (если ты только ученый)
Скверной поддевки. Не то тебя горькая участь
Нашего рыцаря рано иль поздно постигнет.
Право, никто не поверит, что ты титулярный советник.
Примут тебя за мормона иль за кого?.. за бродягу!
И уж наверно тогда перешлют напрямик восвояси.
1859 или 1860
435. ДЛЯ МНОГИХ
Господь мне не дал дарованья
Изображать в моих стихах
И сонных листьев трепетанье,
И сонм созвездий в небесах.
Стихи мои не воспевают
Обеды знатных, высший свет —
Зато их многие читают
И я для публики поэт.
Я не взываю к сильным лицам,
Мои стихи для их ушей
Подобны дерзким небылицам
Мальчишки глупого. Речей
Моих не слушают народы,
Зато туманного в них нет.
Я не певец цветов, природы,
Но я для публики поэт.
Не веря в честность Немезиды
И в бескорыстие судей,
Я не прощаю им обиды
Безгласных, маленьких людей.
И подвиг грязный и скандальный
В моих стихах найдет ответ;
И скажет не один квартальный,
Что я для публики поэт.
Я знаю: люди есть иные,
Которым правда колет глаз.
Они не любят, чтоб другие
Над ними тешились хоть час.
Я как поэт их презираю,—
Но чтоб об них проведал свет,
Я их печатно обличаю.
Да, я для публики поэт!
1860
ПРИМЕЧАНИЯ
ДМИТРИЙ МИНАЕВ
I
156. «Перепевы». – Печ. по «Думам и песням» 1864 г., с исправл. по сб. «Перепевы». Пародия на стих. В. Г. Бенедиктова «К отечеству и врагам его», написанное во время осады Севастополя. Обличая англичан и французов, Бенедиктов воспевает не только русский народ и русскую природу, но и самодержавие и православие:
…Я люблю тебя во всем:
В снеговой твоей природе,
В православном алтаре,
В нашем доблестном народе,
В нашем батюшке-царе
и т. д.
Тема пародии подсказана самим Бенедиктовым: дальше в перечислении идет ст. «В русской барыне широкой». Тотчас же после появления в печати стихотворение Бенедиктова было высмеяно Некрасовым («Заметки о журналах»//Полн. собр. соч. и писем. М., 1950. Т. 9. С. 312–313).
157. «Время». 1861, № 1, в фельетоне о переводчиках Гейне, без подписи, – «Думы и песни» 1863 г. Пародия на «итальянские» драмы Нестора Кукольника, в которых ходульный романтический образ художника или поэта занимает очень существенное место. См. импровизации Веррино в пьесе «Джулио Мости» (ч. 4, явл. 8). Можно отметить и некоторые текстуальные совпадения – ср., напр., ст. 1 пародии со словами Торквато Тассо в одноименной пьесе Кукольника: «Я весь в жару, как в первый день восторга» (акт 1, явл. 1). С именами Гёте, Данта и т. д. Возможно, что здесь скрывается намек на давнюю статью о «Торквато Тассо» О. И. Сенковского, который, превознося талант Кукольника, называл его «юным нашим Гёте» (БдЧ. 1834, № 1. С. 29).
158. «Время». 1861, № 1, в том же фельетоне. В «Думах и песнях» 1863 г. без ст. 12, по-видимому выпавшей случайно. Пародия на стих. В. Г. Бенедиктова «Вальс». В «Бале» пародируется, кроме того, и вообще «бенедиктовщина». Отдельные детали «Бала» связаны со стих. «Напоминание», «Наездница» (указано Л. Я. Гинзбург; см.: Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1939. С. 318) и др. Пародируя Кукольника и Бенедиктова, Минаев, конечно, имел в виду не только их самих, но и пережитки романтических представлений о поэзии и поэте и напыщенного романтического стиля 1830–1840-х годов в современной литературе.
159. «Время». 1861, № 1, в том же фельетоне. Пародия на стих. Н. Ф. Щербины «Пир». Гиматий – см. примем. 185.
160. «Время». 1861, № 1, в том же фельетоне, без загл. и строфы 8, – «Думы и песни» 1863 г. В стихотворении есть ряд соответствий со «Школьником» Некрасова. Та же сюжетная схема использована для разоблачения либеральной болтовни об улучшениях крестьянского быта и реформах. Некоторые детали (армяк, длинная палка и др.) являются реминисценциями из некрасовского «Власа».
161. И. 1860, № 15, в цикле «Перепевы», подпись: Обличительный поэт. – Печ. по «Думам и песням» 1864 г. с исправл. по И. Стихотворение направлено против В. И. Аскоченского и его журнала «Домашняя беседа». К мукам вечным Абирона и Дафона. По библейскому преданию, Абирон (Авирон) и Дафон (Дафан), взбунтовавшиеся против Моисея и Аарона, были поглощены за это землею. Ксенофонт – К. А. Полевой. Фаддей – Ф. В. Булгарин. «Грозный акт» – «перепев» стих. А. Н. Майкова «Приговор» («На соборе на Констанцском…») (1860).
162. И. 1860, № 20, в цикле «Перепевы», подпись: Обличительный поэт, – «Думы и песни» 1863 г. Черновой автограф – ПД (арх. «Рус. старины»), «Аммалат-бек» – повесть А. А. Бестужева-Марлинского, пользовавшаяся огромной популярностью в 1830-е годы. А князь Рюрик не мнил и т. д. Намек на диспут между М. П. Погодиным и Н. И. Костомаровым 19 марта 1860 г.; см. т. 1, примеч. 33. Акций бурный поток и т. д. В 1850–1860-е годы в России возникло очень много акционерных обществ; в большинстве из них процветали растраты и нечистые дела; все это нередко приводило к банкротству обществ и разорению рядовых акционеров. Новый Нестор – Н. В. Кукольник. Как пел Глинка псалмы. Ф. Н. Глинке принадлежит ряд переложений псалмов, вошедших в его сборник «Опыты священной поэзии» (1826). И нас трагик пленял и т. д. По всей вероятности, имеется в виду В. А. Каратыгин. Ср. у Некрасова в «Прекрасной партии»: «И диким зверем завывал Широкоплечий трагик». Муж грамматики – Греч. Н. И. Греч написал несколько книг по русской грамматике. «Ах, где та сторона?..» – «перепев» агитационной песни К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева «Ах, где те острова…».
163. И. 1860, № 19, подпись: Обличительный поэт. В сборники Минаева не включено. 29 марта 1860 г., после появления «Накануне», состоялся третейский суд между Тургеневым и Гончаровым. Гончаров, познакомивший Тургенева с планом своего романа «Художник» (первоначальное загл. «Обрыва»), увидел в «Дворянском гнезде» и «Накануне» частичное осуществление собственного замысла и обвинил их автора в плагиате. Обвинения болезненно подозрительного Гончарова были, разумеется, неосновательны. Третейский суд пришел к заключению, что «произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях» (Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960. С. 442). Но мысль о плагиате продолжала мучить Гончарова всю жизнь – см. его записки, озаглавленные «Необыкновенная история», в которых он изложил в мельчайших подробностях историю своих отношений с Тургеневым («Сборник Российской публичной библиотеки». Пг., 1924. Т. 2). Гончаров очень добродушно отозвался о «Парнасском приговоре» в письме к С. А. Никитенко (Гончаров И. А. Собр. соч. М., 1980. Т. 8. С. 289). У меня – Елена имя, у него – Елена тоже. Героиня «Обрыва» Вера первоначально называлась Еленой. То же имя носит героиня «Накануне». Роль купца играть немую и т. д. 14 апреля 1860 г. состоялся спектакль в пользу Литературного фонда с участием ряда крупных писателей. Был поставлен «Ревизор». Тургенев играл одного из купцов. На казенный счет поедешь и т. д. Намек на факт биографии Гончарова. Еще в 1852–1854 гг. он принял участие в экспедиции адмирала Е. В. Путятина в Японию. Литературным результатом этого путешествия явился «Фрегат „Паллада“» (1856).
164–166. И. 1860, № 29, подпись: Обличительный поэт. – Стих. 2, без загл., без ст. 24, в цикле «Московские песни» – «Думы и песни» 1864 г. – Стих. 3, вне цикла, с исправл. – «Думы и песни» 1863 г. – Печ. по И. Из четырех стихотворений цикла печатаются три. В эти годы наиболее активную роль в московском Обществе любителей российской словесности играли славянофилы.
Примечание. «Дилетантизм во всех его проявлениях» – фельетоны В. Курочкина, направленные против славянофилов; были напечатаны незадолго до этого в И. Завтрашние мысли, подоплека народная, меч правды. См. т. 1, стих. 32 и примеч. к нему.
1. «Перепев» стих. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…») и отчасти «Когда волнуется желтеющая нива…» (ст. «Тогда смиряется в душе моей тревога» и сл.). На даче Безбородко. Парк при загородном доме графа Г. А. Кушелева-Безбородко (в Петербурге). «Беседа Русская» – журнал славянофилов РБ. Капище – языческий храм. Да лягут в ней Елагин, Селиванов. См. т. 1, стих. 31, 32 и примеч. к ним.
2. «Перепев» стих. А. И. Полежаева «Провидение» («Я погибал…»).
3. «Перепев» перевода Лермонтова из Гейне «Они любили друг друга так долго и нежно…».
167. И. 1861, № 19, где на 16 ст. больше. – «Думы и песни» 1863 г. У Покрова… На Сенной – в Петербурге. Лукулловский обед – т. е. роскошный; от имени римского полководца Лукулла, который был известен своим богатством, пристрастием к роскоши и пирам. «Жизнь игрока» – «Тридцать лет, или Жизнь игрока», мелодрама В. Дюканжа, имевшая большой успех у театральной публики 1820–1840-х годов (в переводе P. М. Зотова).
168. PC. 1861, № 6, в ДТЧ, без загл. – «Думы и песни» 1863 г.
169. PC. 1861, № 9, ДТЧ, без загл. и эпиграфа. – «Думы и песни» 1863 г. Написано по поводу «Заметки» П. Д. Юркевича, вышедшей в Киеве отдельной брошюрой, а затем перепечатанной в «Домашней беседе» Аскоченского (1860, № 14). Юркевич утверждал, что розги пока еще «неизбежное зло», что жизнь «нуждается в основах и мотивах более энергических, нежели отвлеченные понятия науки», и только «страх божий» может избавить детей от необходимости применять к ним телесные наказания. Эпиграф не является точной цитатой.
170. И. 1861, № 14, подпись: Обличительный поэт. – «Думы и песни» 1864 г. В И «Праздная суета» сопровождалась ироническим «примечанием переводчика», в нем Минаев писал, что автор якобы переведенного им стихотворения – русский, но, «рожденный в среде высокообразованного и светского общества», он мало знаком с русской речью и «за невозможностью изъясняться по-русски пишет на французском языке». «Праздная суета» – отклик на празднование юбилея П. А. Вяземского; см. о нем т. 1, примеч. 44. Вторая половина стихотворения довольно точно передает детали чествования Вяземского в Академии наук – см. изданную анонимно брошюру П. А. Плетнева «Юбилей пятидесятилетней литературной деятельности академика князя П. А. Вяземского» (СПб., 1861). Как и «Стансы» В. Курочкина, «Праздная суета» направлена и против самого Вяземского, и, главным образом, против его апологета В. А. Соллогуба. Загл. сатиры взято из куплетов Соллогуба, которые он спел на чествовании Вяземского. Граф Чужеземцев и есть граф Соллогуб. В 1856 г. он по поручению министра императорского двора В. Ф. Адлерберга поехал за границу для изучения постановки театрального дела в европейских столицах. Особенно долго он был в Париже, где, между прочим, поставил свою французскую комедию «Une preuve d’amitié» («Доказательство дружбы»), «La nuit de st.-Sylvestre» – французский водевиль Соллогуба. «История двух калош» (1839) и «Тарантас» (1845) – произведения Соллогуба, относящиеся к наиболее значительному периоду его литературной деятельности. Чернышевский с Миллем. В 1860–1861 гг. в «Совр.» были напечатаны «Основания политической экономии» Милля в переводе и с примечаниями Н. Г. Чернышевского. Пале-Рояль – парижский театр. «Цампа» – комическая опера Л.-Ж. Герольда. Немец-гость – В. Вольфсон. «Праздная суета» – «перепев» «Современной песни» («Был век бурный, дивный век…») Д. В. Давыдова.
171. PC. 1861, № 8, в ДТЧ. В сборники Минаева не включено. «Эти тени, – писал Минаев, – не призраки из шекспировского „Макбета“, но три нам всем знакомые издания». Стихотворение вызвано нападками ОЗ, PB и «Рус. речи» на сатирическую журналистику и поэзию. Свистуны – см. т. 1, примеч. 59. Свисток идет – т. е. очередной номер «Свистка».
172. PC. 1861, № 8, в ДТЧ, с еще двумя строфами (после 11-й и в конце). – «Думы и песни» 1864 г. Как и «Разговор трех теней», является отповедью периодическим изданиям, нападавшим на сатирическую журналистику и поэзию. «Бранитесь же, господа, – писал Минаев, – негодуйте, проклинайте, но сознайтесь откровенно, что тех людей, которых вы называете шутами, гаерами, литературными турманами, – сознайтесь, что вы их боитесь, этих „балаганных плясунов“. Вы очень хорошо знаете, что эти шуты для вас опасны». «Рыцарями свистопляски» окрестил М. П. Погодин левый лагерь русской журналистики, вызывая Н. И. Костомарова на диспут о происхождении государства в Древней Руси (СПбВ.1860, 17 марта). Скит – небольшой монастырь монахов-отшельников. Хроники в трауре… Пел хроникер – о внутреннем обозрении «Современная хроника России», которую вел в ОЗ С. С. Громека. У него Минаев заимствовал, разумеется совершенно переосмыслив, образ жертвенника. В «Современной хронике России» (ОЗ. 1861, № 4. С. 63) это «мрачный жертвенник, у которого собрались… и, взявшись за руки, занялись свистопляской» сторонники «духа отрицания, безмолвно воцарившегося в литературе под личиною шутки». Смолк и «Куку». В апреле 1861 г. в ОЗ появились за подписью «Куку» (псевдоним А. М. Иванова) три стихотворения с эпиграфом: «Горе, горе живущим на земле!» Даже погас перед статуей гласности. Минаев, как и другие искровцы, как и «Совр.», слово «гласность» нередко употреблял иронически, потому что, во-первых, подлинная гласность была неосуществима в царской России, во-вторых, одной гласности было недостаточно для коренных изменений социального строя и, наконец, потому что громкие фразы либералов о гласности часто находились в резком противоречии с их практической деятельностью и журнальной борьбой против демократического лагеря. См. также т. 1, примеч. 30. Даже Буслаева – личность ученую. О полемике между «Совр.» и Ф. И. Буслаевым. В № 1 «Совр.» за 1861 г. появилась статья А. Н. Пыпина «По поводу исследований г. Буслаева о русской старине»; Буслаев поместил в ОЗ (1861, № 4) «Ответ г. Пыпину…». Тогда в спор вмешался и Н. Г. Чернышевский; в «Полемических красотах» («Совр.». 1861, № 7) он подверг критике мифологическую теорию, сторонником которой был Буслаев, идеализацию старины в его работах и пр.
173. «Всемирный вестник», 1906, № 2, под загл. «Кумушка»: во «Всемирном вестнике» в обоих случаях – «Не вернешь, Кондратьев-на». – Печ. по корректуре И, для которой предназначалось. На корректуре следующая надпись П. А. Ефремова: «Было дозволено Ф. Ф. Веселаго для „Искры“, но накануне выхода он явился в типогр<афию> д<епартамента> уделов (в этой типографии печаталась И. – И. Я.) и заставил исключить, приняв перепечатку на свой счет» (Библиотека Института русской литературы АН СССР). Стихотворение является откликом на студенческие волнения в Петербурге осенью 1861 г. Оно построено на каламбурах. За словами лупят под лопатку ли скрывается «лупят подло Паткули», за словами гнать, и гнать, и гнать его – «гнать и гнать Игнатьева». Петербургский обер-полицмейстер генерал А. В. Паткуль и военный губернатор П. Н. Игнатьев «прославились» как усмирители студенчества. Стихотворение ходило по рукам в списках. В заграничном архиве Герцена и Огарева сохранился список (рукою Огарева) с указанием на то, что «Кумушки» предназначались для И и не были пропущены цензурой, с расшифровкой каламбуров и датой: сентябрь 1861 г. (ЦГАЛИ, ф. 2197, оп. 1, № 572). По словам Н. А. Лейкина, использованный в «Кумушках» каламбур, связанный с фамилией Игнатьева, принадлежит П. А. Каратыгину («Н. А. Лейкин в его воспоминаниях и переписке». СПб., 1907. С. 157); рифма «Игнатьева – и гнать его» имеется также в эпиграмме С. А. Соболевского на Г. Н. Геннади (Соболевский С. А. Эпиграммы и сатиры. М., 1912. С. 18). Дело земское – т. е. общее.
174. PC. 1861, № 12, в ДТЧ, без загл. и эпиграфа. – «Думы и песни» 1864 г. В статье «Крестьянские выборы» («День». 1861, 4 нояб.) П. Б. Бланк заявил, что крестьяне нередко поступают как стадо, но их, мол, нельзя в этом обвинять, потому что «все люди суть животные и… чем менее толпа людей просвещенна, тем более подходит она к инстинктивному стремлению животных».
175. «Гудок». 1862, № 1. Милютины лавки – роскошные гастрономические магазины в Петербурге. «Травиата» – опера Д. Верди.
176. И. 1862, № 15, без загл., в фельетоне «Отцы или дети? (Опыт художественной критики)», подпись: Обличительный поэт, – «Думы и песни» 1864 г. Фельетон вызвал недовольство начальника III Отделения кн. В. А. Долгорукова; см.: Рудаков В. Е. Последние дни цензуры в Министерстве народного просвещения//«Историч. вестник». 1911, № 9. С. 974. «Кто устоит в неравном споре?» – строка из «Клеветникам России» Пушкина. Кто лучших правил? Кто уважать себя заставил? Ср. начало «Евгения Онегина»: «Мой дядя самых честных правил… Он уважать себя заставил». Как лев на Брюлевской террасе. В последней главе «Отцов и детей» говорится, что Павел Петрович Кирсанов поселился в Дрездене и ежедневно гулял на Брюлевской террасе. Лев – законодатель мод, светского поведения и пр. «Норма» – опера В. Беллини. Он отрицает и… См. примеч. 398–399. Гостеприимства прав не зная. В журнальном тексте «Отцов и детей» абзац, в котором говорится об отъезде Базарова из усадьбы Кирсановых после дуэли с Павлом Петровичем (гл. 24), кончался фразой: «Ему <Базарову> и в голову не пришло, что он в этом самом доме нарушил все правила гостеприимства». Слова эти были вставлены Катковым или под его нажимом и впоследствии исключены Тургеневым. Кальян – восточный курительный прибор. Тогенбург – герой баллады Ф. Шиллера «Рыцарь Тогенбург», воплощение идеальной романтической любви. «Базаров… не однажды выражал свое удивление, почему не посадили в желтый дом Тогенбурга со всеми миннезингерами и трубадурами». Инсаров – главный герой романа «Накануне». Построение строфы и система рифмовки заимствованы из «Бородина» Лермонтова.
177. И. 1862, № 15, без загл., в том же фельетоне, – «Думы и песни» 1863 г. Как и предыдущее стихотворение, направлено против «Отцов и детей» Тургенева. Якшаться с студентами. Ср. последнюю главу «Отцов и детей», где говорится, что Кукшина «по-прежнему якшается с студентами». В Думе на лекциях. О публичных лекциях в здании петербургской Городской думы см. т. 1, примеч. 60. «Дама, приятная во всех отношениях», как и Коробочка (только не Дарья, а Настасья Петровна), – из «Мертвых душ» Гоголя. «Просьба» – «перепев» «Молитвы» Лермонтова («Я, матерь божия, ныне с молитвою…»). Строки «Вечно нарядные, вечно свободные» – «перепев» ст. «Вечно холодные, вечно свободные» из стих. Лермонтова «Тучи».
178. И. 1862, № 16, подпись: Обличительный поэт. – Печ. по «Думам и песням» 1863 г. с исправл. по И. Написано по поводу происходивших в то время в Петербурге совещаний об упрощении русской орфографии. Минаев насмешливо отнесся к ним, считая обсуждавшийся на них вопрос общественно незначительным. Квартальный – см. примеч. 393. Думал шрифт ввести латинский и т. д. Один из участников совещаний, К. М. Кадинский, автор брошюр «Упрощение русской грамматики» (1842) и «Преобразование и упрощение русского правописания» (1847), в которых ратовал за замену русского шрифта латинским, в 1862 г. возобновил свое предложение, но ни в ком не встретил сочувствия. Подьячий – в старину мелкий чиновник. Ер и ерь – старинные названия твердого и мягкого знаков. Замысел стихотворения возник, по-видимому, под влиянием напечатанного в журнале «Время» (1862, № 3) фельетона К. К. Сунгурова «Ортографическая распря», где совещания также изображались в виде суда; в нем говорится о «процессе здешних грамотеев с русской орфографией», мелькают слова «обвинительный акт», «преступница», «допрос».
179. И. 1862, № 21, подпись: Обличительный поэт, – «Думы и песни» 1864 г. Поводом для написания стихотворения послужил, по словам Минаева, «торжественный праздник „последних могиканов“ славянщины», посвященный памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия (примеч. к стихотворению в И). Свежее предание – загл. романа в стихах Я. П. Полонского. Одр – постель, ложе. За честь «народной подоплеки». Выражение «народная подоплека» принадлежит А. С. Хомякову (РБ. 1860, № 1. С. 2) Мурмолка – старинная меховая или бархатная шапка, часто упоминающаяся в народных песнях и сказках. Циклоп (греч. миф.) – фантастическое существо, великан с одним глазом во лбу. Перун – в славянской мифологии главное божество, бог грома и молнии. Чадил, кого-то примиряя. В объявлении об издании журнала «Светоч», выходившего в Петербурге в 1860–1862 гг., и во «Вступительном слове» его редактора Д. И. Калиновского говорилось о необходимости примирения западничества и славянофильства. Богатырь Илья – Илья Муромец. Ендова – в Древней Руси большая посуда для вина, меда или пива. Баян – см. т. 1, примем. 92. «Последние славянофилы» – «перепев» стих. А. Н. Майкова «Последние язычники».
180. «Сборник статей, не дозволенных цензурою в 1862 году». Т. 2. СПб., 1862; PC. 1863, № 9, в ДТЧ. – «В сумерках». Первоначально стихотворение предназначалось для «Гудка», но 9 августа 1862 г. было запрещено цензурой; автограф за подписью «Облич. п.» и с надписью о запрещении – собр. корректур С.-Петерб. ценз. комитета, № 31. Л. 1. По этому автографу «Сказка о восточных послах» и была напечатана в «Сборнике статей, не дозволенных цензурою…». Вслед за публикацией в PC Минаев хотел включить стихотворение в сб. «Думы и песни», но опять натолкнулся на сопротивление цензуры (Журнал заседания С.-Петерб. ценз. комитета от 9 окт. 1863 г.); через год перепечатка была снова запрещена (Опись журналам С.-Петерб. ценз. комитета, заседание 5 авг. 1864 г.). Написано в связи с приездом в Петербург летом 1862 г. японского посольства. Минаев предпослал стихотворению воспоминание о недавнем времени, когда «прогрессистов явилась тьма-тьмущая, потому что быть прогрессистом в тот лирический период было вовсе не трудно. Вы смеетесь над Аскоченским, вы порицаете откупа – значит, вы прогрессист. Теперь пришло другое время; теперь все смеются над Аскоченским, все порицают откупа, но, увы! прогрессисты, переродившись в новейших нигилистов, сидят у многих как камень на шее… Весть о нарождении русского прогресса дошла даже до японцев, которые, желая на месте убедиться в этом случае, прислали к нам особую миссию. Одному из этих послов, по просьбе его – написать что-нибудь на память в его записную книжку, я написал следующее стихотворение…» Метресса – любовница.
181. PC. 1863, № 1, в статье «Забытые уголки Парнаса, по поводу выхода в свет „В гостях и дома“, стихотворений кн. Вяземского. Письма и размышления отставного майора Михаила Бурбонова», – «Думы и песни» 1864 г. Так, как иронически рекомендует смеяться Минаев, смеялся, по его словам, П. А. Вяземский «в лучшую пору своей деятельности». Следует отметить, что эта оценка вызвана литературно-общественной позицией Вяземского в 1850–1860-е годы и не соответствует «лучшей поре его деятельности». Над ездой в телеге тряской. Намек на стих. Вяземского «Русский бог» («бог метелей, бог ухабов, бог мучительных дорог»), «Дорожная отметка» и др. Свистопляска – см. примеч. 172.