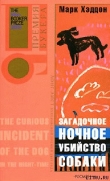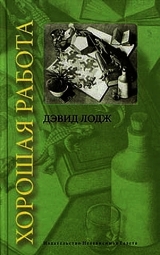
Текст книги "Хорошая работа"
Автор книги: Дэвид Лодж
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
Робин припарковывает машину на одной из университетских стоянок, берет с переднего сиденья сумку от «Глэдстоуна» и направляется к Английской кафедре. Ее походка нетороплива и изящна. Она гордо держит голову, и золотисто-рыжие кудри подобны фонарю, горящему в сером утреннем тумане. Глядя на то, как Робин идет по кампусу, улыбаясь знакомым, на ее горящие глаза, никогда не подумаешь, что ее терзают какие-то волнения. Впрочем, она действительно относится к этим волнениям не очень серьезно. Она молода, уверена в себе и ни о чем не жалеет.
Робин входит в холл. На лестницах и в коридорах – толпы студентов. Воздух наполнен их криками и смехом – они приветствуют друг дружку в первый день нового семестра. Перед дверью кафедры Робин встречает Боба Басби, представителя кафедры в местном комитете Ассоциации университетских преподавателей. Он прикалывает листок бумаги к доске объявлений. Заголовок гласит: «В среду, 15 января, – однодневная забастовка». Расстегивая куртку и разматывая шарф, Робин читает через плечо Боба: «День активных действий… протест против сокращений… понижения зарплаты… пикеты будут выставлены у каждого входа в Университет… добровольцы могут записаться у представителя кафедры… остальных просят в этот день не появляться на кампусе».
– Боб, запишите меня в пикеты, – просит Робин.
Боб Басби, у которого никак не получается вытащить кнопку из доски, поворачивается к Робин и шевелит черной бородой.
– Шутите? Вам бы не стоило.
– Почему?
– Ну… понимаете, вы молодой преподаватель, на временной работе… – Боб Басби явно смущен. – Если вы воздержитесь, вас никто не упрекнет.
Робин возмущенно фыркает.
– Но это же дело принципа!
– Хорошо, я вас запишу, – соглашается Боб и снова принимается за кнопку.
– Доброе утро, Боб! Доброе утро, Робин!
Оба поворачиваются к Филиппу Лоу, который, судя по всему, только что появился: на нем довольно неопрятная куртка с капюшоном, в руках потрепанный портфель. Это высокий, худой и сутулый мужчина с серебристой сединой, с залысинами на висках и спадающими на спину прядями. Говорят, когда-то он носил бороду, и с тех пор все время ощупывает подбородок, как будто пытается ее найти.
– Привет, Филипп, – откликается Боб Басби.
Робин тоже чуть не сказала «привет». Она до сих пор не может решить, как обращаться к заведующему кафедрой. «Филипп» – слишком фамильярно, «профессор Лоу» – слишком официально, «сэр» – до невозможности раболепно.
– Как каникулы? Хорошо отдохнули? Готовы к битвам? Ну, и славно. – Филипп Лоу обрушивает на них поток банальностей, не рассчитывая услышать что-либо в ответ. – Это о чем, Боб? – Его лицо вытягивается по мере того, как он читает объявление. – Неужели ты думаешь, что от забастовки будет хоть какая-то польза?
– Будет, если все ее поддержат, – отвечает Боб Басби. – Включая тех, кто голосовал «против».
– Одним из них был я и не скрываю этого, – говорит Филипп Лоу.
– Но почему? – смело вмешивается в разговор Робин. – Мы просто обязаны действовать, чтобы прекратить сокращения, а не сидеть сложа руки, как будто это неизбежность. Нужно протестовать.
– Согласен, – кивает Филипп Лоу, – но я сомневаюсь в эффективности забастовки. Кто ее заметит? Мы же не водители автобусов и не авиадиспетчеры. Боюсь, что большинство населения запросто обойдется один день без университетов.
– Зато все заметят пикет, – возражает Боб Басби.
– Да, очень сложный сюжет, – соглашается Филипп Лоу.
– Пикет. Я говорю, все заметят пикет, – почти кричит Боб Басби, пытаясь перекрыть стоящий в коридоре гул голосов.
– Гм… выставляем пикеты, да? Если уж делать, то по-большому. – Филипп Лоу мотает головой и выглядит довольно жалким. Потом украдкой бросает взгляд на Робин. – У вас есть свободная минутка?
– Да, конечно, – кивает та и идет вслед за ним в кабинет.
– Хорошо отдохнули? – снова спрашивает Лоу, стягивая с себя куртку.
– Да, спасибо.
– Присаживайтесь. Ездили куда-нибудь? В Северную Африку? Или занимались зимними видами спорта? – Он ободряюще улыбается ей, словно намекая, что его очень обрадует положительный ответ.
– Господи, нет, конечно.
– Я слышал, в январе очень дешево съездить в Гамбию.
– Даже если бы у меня были деньги, я бы не смогла выбраться, – отвечает Робин. – Нужно было проверить кучу работ. А всю прошлую неделю я ездила на интервью.
– Да, да, конечно.
– А вы?
– Ну… я… я больше этим не занимаюсь. Конечно, я привык…
– Да нет же, – улыбается Робин, – я хотела спросить, ездили ли вы куда-нибудь?
– А-а… Меня приглашали на конференцию во Флориду, – мечтательно произносит Филипп Лоу, – но я не смог договориться об оплате дорожных расходов.
– Господи, стыд и позор, – говорит Робин, не будучи в состоянии изобразить искреннее сопереживание.
По словам Руперта Сатклифа, старшего преподавателя кафедры, и согласно главной теме сплетен, еще совсем недавно Филипп Лоу все время путешествовал по миру, летая с одной конференции на другую. Теперь ему словно подрезали крылья.
– И правильно сделали, – заявлял Руперт Сатклиф. – Я считаю, что все эти конференции – пустая трата времени и денег. Вот я ни разу не был ни на одной международной конференции.
Робин вежливо кивала в знак согласия с его неприятием конференций, а сама думала, что Руперт Сатклиф, видимо, не страдал от избытка приглашений.
– Кстати, – продолжал Сатклиф, – по-моему, его удерживает здесь вовсе не отсутствие финансов. Подозреваю, что Хилари объявила ему ультиматум.
– Миссис Лоу?
– Ну да. Во время поездок он обычно пускался во все тяжкие. Пожалуй, я должен вас предупредить: Лоу питает слабость к женскому полу. Кто предостережен, тот вооружен.
С этими словами Сатклиф потер нос указательным пальцем, в результате чего очки съехали набок и рухнули в чашку с чаем. Тот разговор происходил в профессорской вскоре после приезда Робин в Раммидж. Теперь, глядя на сидящего перед ней Филиппа Лоу, Робин никак не могла узнать в нем закоренелого бабника из рассказа Руперта Сатклифа. Лоу выглядел усталым, изможденным и слегка потрепанным. Интересно, зачем он пригласил ее в кабинет? Он нервно улыбается ей и ощупывает несуществующую бороду. И вдруг атмосфера накаляется.
– Я хотел вам сказать, Робин… Как вы знаете, ваша должность временная.
Сердце Робин трепещет в надежде.
– Да, – отвечает она и сжимает руки в замок, чтобы не тряслись.
– Только на три года. Второй из них наполовину позади, и с сентября начнется последний, третий. – Он описывает ситуацию медленно и подробно, как будто Робин может чего-то не помнить.
– Да.
– Я хотел сказать вам, что будет очень обидно потерять такого великолепного преподавателя. Вы настоящий клад для нашей кафедры, хотя и работаете здесь всего ничего. Это действительно так.
– Спасибо, – хмуро произносит Робин, разнимая руки. – Но?
– Что «но»?
– Мне показалось, вы собирались сказать еще что-то, начинающееся с «но».
– А-а… Э-э… Ну да. Я хотел сказать, что у меня… у нас не будет претензий, если вы уже сейчас начнете подыскивать себе работу.
– Другой работы нигде нет.
– Ну, в данный момент, может быть, и нет. Но кто знает, не появится ли она к концу года? Если да, то вам, пожалуй, нужно будет занять это место. Я хочу сказать, что вы не должны чувствовать себя обязанной отработать здесь полностью все три года. Хотя нам будет очень жалко терять вас, – в который раз повторяет Лоу.
– Иными словами, у меня нет шансов остаться здесь по истечении трехлетнего срока.
Филипп Лоу разводит руками и пожимает плечами.
– Увы, никаких, насколько я могу судить. Университет еле-еле сводит концы с концами. Поговаривают о новой волне сокращений. Даже если кто-то из членов кафедры уволится или умрет, даже если вы сподобитесь договориться о замене с одним из нас, – он смеется, давая понять, что это шутка, и при этом обнажает щербатые пожелтевшие зубы, торчащие в разные стороны, как могильные плиты на заброшенном погосте, – даже в этом случае я очень сомневаюсь в том, что мы сможем утвердить замену. Будучи деканом, я прекрасно осведомлен о финансовых затруднениях Университета. Каждый день ко мне приходят завкафедрами, жалуются на недостаток средств и просят о заменах или новых назначениях. Мне ничего не остается, кроме как объяснять им, что единственный способ добиться нашей цели – это прекратить работать вообще. Молодым людям в вашем положении сейчас приходится несладко. Поверьте, я вам очень сочувствую.
Он протягивает руку и кладет ее поверх рук Робин. Она смотрит на три руки с таким безразличием, словно это не живые руки, а натюрморт. Может, этот жест – всего лишь домашняя заготовка? Или где-то здесь, в кабинете, находится диванчик, на котором происходят утверждения в должности? Судя по всему, нет, потому что Филипп Лоу сразу же убирает руку, встает и подходит к окну.
– Должен сказать, быть деканом в наши дни – сомнительное удовольствие. Только и делаешь, что приносишь людям дурные вести. Еще Шекспир заметил, что «дурные вести нередко вестнику грозят бедой…»
– «…когда он их несет глупцу иль трусу»[6]6
Шекспир. Антоний и Клеопатра. Пер. Мих. Донского.
[Закрыть], – Робин цитирует следующую строку из «Антония и Клеопатры», но, к счастью, Филипп Лоу ее не слышит. Он задумчиво смотрит в окно, на центральную площадь кампуса.
– Порой мне кажется, что к моменту моего выхода на пенсию я проживу полный жизненный цикл вместе с послевоенным высшим образованием. Когда я сам был студентом, провинциальные университеты наподобие Раммиджа только вставали на ноги. В шестидесятые годы я видел, как они росли, крепли, строились. Вы, наверно, не поверите, но тогда мы в основном жаловались только на шум со строительных площадок. А теперь все стихло. Не за горами тот день, когда к нам пришлют бригады для сноса.
– Тогда я тем более не понимаю, почему вы не поддерживаете забастовку, – бурчит Робин. Но Филипп Лоу, видимо, решает, что она сказала что-то другое.
– Совершенно верно. Это сродни теории «большого взрыва» Вселенной. Говорят, что в определенный момент она перестанет расширяться и снова начнет сжиматься до первоначального размера. Отчет Роббинса стал нашим «большим взрывом». Мы начали сжиматься.
Робин тайком поглядывает на часы.
– А может, мы угодили в черную дыру, – продолжает Филипп Лоу, увлеченный полетом своей астрономической фантазии.
– Прошу меня извинить, – перебивает Робин, вставая со стула, – но мне нужно подготовиться к лекции.
– Да, да, конечно. Прошу прощения.
– Ничего страшного, просто я…
– Да, да, это моя вина. Не забудьте сумочку.
С улыбками, кивками и явным облегчением от того, что неприятный разговор позади, Филипп Лоу провожает Робин до двери своего кабинета.
Боб Басби все еще возится у доски объявлений, прикалывая старые бумажки вокруг новой. Он похож на садовника, пересаживающего цветы на клумбе. Увидев Робин, Боб с любопытством смотрит на нее, вскинув брови.
– Не кажется ли вам, что Филипп Лоу туговат на ухо? – спрашивает Робин.
– Ну да. И последнее время стало гораздо хуже, – кивает Боб Басби. – Это такая высокочастотная глухота. Гласные он слышит, а согласные – нет. И старается по гласным догадаться о том, что ему говорят. Частенько ему мерещится то, что он хотел бы услышать.
– От этого разговор напоминает стрельбу наугад, – говорит Робин.
– Вы говорили о чем-то важном?
– Нет, о пустяках, – отвечает Робин, потому что не хочет делиться с Бобом Басби своим разочарованием. Вместо этого она невозмутимо улыбается и проходит мимо.
Перед дверью ее кабинета притулились у стенки несколько студентов, кто-то даже сидит на полу. Подойдя, Робин насмешливо смотрит на них, потому что прекрасно знает, зачем они явились.
– Привет, – здоровается она сразу со всеми, одновременно вылавливая в кармане куртки ключ от кабинета. – Кто первый?
– Я, – откликается симпатичная темноволосая девушка, одетая в джинсы и безразмерную мужскую рубашку, похожую на блузу художника. Вслед за Робин она заходит в кабинет. Здесь все так же, как и у Филиппа Лоу, только комната поменьше. Она даже слишком мала для всей той мебели, которая в нее втиснута: письменный стол, книжные шкафы, каталожные ящики, журнальный столик и с десяток жестких стульев. На стенах плакаты самых разных движений – ядерного разоружения, борьбы за свободу женщин, движения в защиту китов – и огромная репродукция «Леди Шелотт» Данте Габриэля Россетти, которая кажется здесь совершенно неуместной, пока вы не услышите объяснение Робин: она являет собой ярчайший образец мужского представления о женственности.
Девушка по имени Мерион Рассел сразу же берет быка за рога:
– Мне нужно продлить срок написания курсовой работы.
Робин тяжело вздыхает.
– Я так и думала.
Мерион постоянно опаздывает с курсовыми, хотя и не без причины.
– Понимаете, я в каникулы работала на двух работах: днем на почте, а по вечерам в пабе.
Мерион не получает стипендию, потому что ее родители весьма обеспеченные люди, но живут они отдельно не только друг от друга, но и от дочери. Поэтому Мерион вынуждена подрабатывать то там, то тут.
– Вы же знаете, что для продления срока нужна причина медицинского характера.
– А я страшно простыла сразу после Рождества.
– Справки у вас, конечно, нет.
– Нет.
Робин опять вздыхает.
– Сколько вам нужно времени?
– Дней десять.
– Могу дать неделю, – говорит Робин, выдвигает ящик стола и достает нужный ей бланк.
– Спасибо. В этом семестре я постараюсь не опоздать. Нашла хорошую работу.
– Хорошую – это как?
– Часов меньше, а денег больше.
– И что это за работа?
– Ну, это… типа фотомодели.
Робин перестает писать и впивается в Мерион пронзительным взглядом.
– Надеюсь, вы отдаете себе отчет в своих действиях?
Мерион хихикает.
– Ой, это совсем не то, что вы подумали.
– А что я подумала?
– Ну, то самое. Порнуха.
– Уже легче. И что же тогда?
Мерион опускает глаза и слегка краснеет.
– Ну, это нижнее белье.
Перед глазами Робин встает очень зримый образ собеседницы, которая сейчас одета вполне мило и практично. Робин представляет ее затянутой в латекс и нейлон, с полным фетишистским набором – браслетами, панталонами, подвязками и чулочками, – в который галантерейная промышленность пытается упаковать женское тело и выставить его в модных магазинах на обозрение вожделеющих мужчин и безжалостных женщин. На Робин накатывает волна сочувствия, смешанная с запоздалой жалостью к себе. Ей мерещится тайный государственный заговор с целью эксплуатации и притеснения молодых женщин. Начинает давить в груди, на глаза наворачиваются слезы. Робин встает и заключает обалдевшую Мерион Рассел в свои объятия.
– Даю вам две недели, – наконец объявляет она, садится и шумно сморкается.
– Ой, Робин, спасибо вам! Это просто потрясающе.
К следующему просителю, молодому человеку, который в канун Нового года упал с мотоцикла и сломал лодыжку, Робин не столь добра. Но даже наименее достойный из страждущих получает отсрочку на несколько дней, ибо Робин старается вместе со студентами противостоять оценивающей их системе, хотя сама и является частью этой системы. Наконец уходит последний проситель, и Робин может подготовиться к одиннадцатичасовой лекции. Она открывает сумку, достает из нее папку с конспектами и принимается за работу.
3Университетские часы бьют одиннадцать, их бой сливается с голосами других часов, вблизи и вдалеке. В Раммидже и его окрестностях все люди работают. Или не работают, ведь всякое бывает.
Робин Пенроуз держит путь в лекционную аудиторию «А» – по коридорам и лестницам, наводненным студентами, которые переходят из одного класса в другой. Они проходят мимо нее, как волны мимо величественного корабля. Робин улыбается тем, кого узнает. Некоторые пристраиваются ей в хвост и идут в ту же аудиторию, поэтому вскоре она оказывается во главе процессии – эдакий дудочник Браунинга в женском обличье. Она несет под мышками конспект лекции и связку книг, из которых будет зачитывать иллюстрирующие ее рассказ цитаты. Ни один из студентов мужского пола не предлагает ей свою помощь. Галантность теперь не в моде. Робин настроена против нее по идеологическим соображениям, а другие студенты расценили бы эту галантность как подхалимаж.
Вик Уилкокс беседует со своим коммерческим директором, Брайаном Эверторпом, который только в половине десятого откликнулся на просьбу перезвонить и стал жаловаться на дорожные пробки. Вик в тот момент диктовал письма и назначил ему зайти в одиннадцать. Эверторп – крупный мужчина (что само по себе уже не внушает Вику симпатии) с кустистыми бакенбардами и бородкой военного летчика. На нем костюм-тройка, на живот свисает цепочка от часов. Эверторп – старейший и самый услужливый сотрудник из унаследованной Виком команды.
– Тебе, как и мне, нужно жить в городе, Брайан, – говорит Вик, – а не в тридцати милях.
– Ах, ты же знаешь, какова моя Берил, – отвечает Брайан Эверторп с улыбкой, задуманной как печальная.
Вик понятия не имеет, какова его Берил. Он никогда ее не видел, знает только, что это вторая жена Эверторпа, она же его бывшая секретарша. Насколько ему известно, образ Берил возникает, исключительно когда нужно оправдать опоздания Эверторпа. «Берил сказала, что детям нужен свежий воздух. Берил нездоровилось сегодня утром, пришлось везти ее к доктору. Берил просила извиниться – она забыла передать мне ваше сообщение». Настанет день, причем очень скоро, когда Брайану Эверторпу придется понять разницу между женой и работодателем.
В кафе, расположенном в торговом центре Раммиджа, Марджори и Сандра Уилкокс потягивают кофе и обсуждают, какого цвета туфли нужно купить Сандре. Стены кафе отделаны цветным стеклом, из колонок на потолке льется мягкая синкопированная мелодия.
– Мне кажется, бежевые, – предлагает Марджори.
– Или те светло-оливковые, – добавляет Сандра.
В торговом центре полным-полно тинейджеров, которые собираются группами, курят, сплетничают, смеются, в общем тусуются. Они разглядывают товары в светящихся витринах, слоняются по бутикам, но ничего не покупают. Некоторые заглядывают в кафе, где сидят Марджори и Сандра.
– Ох уж эти дети, – неодобрительно говорит Марджори. – Небось прогуливают.
– Скорее живут на пособие, – отвечает Сандра, с трудом сдерживая зевоту, и рассматривает себя в зеркале, висящем за спиной у матери.
Робин раскладывает на кафедре конспекты лекций и ждет, когда рассядутся опоздавшие. В поточной аудитории барабанным боем отдается болтовня сотни с лишним студентов, которые разговаривают одновременно, как будто только что дорвались друг до друга после одиночного заключения. Робин стучит карандашом по кафедре и прочищает горло. Наступает мертвая тишина, сотня лиц – любопытных, выжидающих, угрюмых и равнодушных – поворачивается к ней. Эти лица похожи на пустые блюдца, которые ждут, чтобы их наполнили. Лица Мерион Рассел среди них нет, и Робин становится немного обидно – вот ведь неблагодарность.
– Я просмотрел твой отчет подотчетных сумм, Брайан, – говорит Вик, перелистывая небольшую стопку счетов и квитанций.
– И что? – переспрашивает Брайан Эверторп и слегка цепенеет.
– Он очень скромный.
Эверторп расслабляется.
– Спасибо.
– Я сказал это не в качестве комплимента.
– Извини. – Эверторп озадачен.
– Я считаю, что коммерческий директор такой крупной фирмы должен требовать вдвое больше за сверхурочную ночную работу.
– Видишь ли, Верил не любит оставаться одна на ночь.
– Но ведь с ней ваши дети.
– Только не во время учебы, старина. Мы отправляем их в школу. Приходится так делать, ведь живем-то в глубинке. Поэтому я предпочитаю возвращаться домой после встреч с клиентами, даже если ехать очень далеко.
– Пробег у твоего автомобиля тоже весьма скромный, так ведь?
– Разве? – Брайан Эверторп снова цепенеет, потому что начинает понимать, куда ветер дует.
– В сороковые и пятидесятые годы девятнадцатого века, – рассказывает Робин, – в Англии было опубликовано множество романов, которые имели явное сходство. Реймонд Уильямс назвал их «промышленными» или «рабочими романами», ибо в них затрагивались социальные и экономические проблемы, порожденные Промышленной революцией, а иногда описывалось и промышленное производство. В то время их нередко именовали «романами о положении в Англии», поскольку в них прямо говорилось о положении нации. В этих романах герои обсуждают главные общественные и экономические вопросы так же запросто, как и любовь, брак, рождение детей. Они делают карьеру, обретают или теряют свое счастье, в общем, занимаются тем же, чем и персонажи светского романа. Рабочий роман породил отличительную черту английской художественной литературы, которая свойственна и современной прозе. Ее можно обнаружить, к примеру, у Лоуренса или Форстера. И нет ничего удивительного в том, что впервые это явление возникло именно в так называемые «голодные сороковые». К пятидесятым годам девятнадцатого века Промышленная революция уже полностью разрушила традиционную структуру английского общества, доведя количество богатых людей до единиц, а бедных – до миллионов. Крестьяне, которых проведенные в конце восемнадцатого и начале девятнадцатого века огораживания земель лишили средств к существованию, перекочевали в города Центральных и Северных графств, где laisser-faire[7]7
Свобода предпринимательства (фр.).
[Закрыть] вынуждала их работать с утра до ночи в ужасных условиях и за гроши. А как только рыночная экономика стала угасать, все они остались без работы. Попытке рабочих защитить свои права, организовав профсоюзы, яростно воспротивились работодатели. С еще более стойким сопротивлением они столкнулись, когда пытались примкнуть к чартистскому движению.
Робин поднимает глаза от конспектов и оглядывает аудиторию. Некоторые студенты судорожно записывают каждое слово, другие вопросительно смотрят на нее и покусывают авторучки. А те, кому в самом начале было явно скучно, теперь или смотрят в окно, или старательно выцарапывают на казенной мебели свои инициалы.
– Программа чартистов призывала к всеобщему избирательному праву для мужчин. Даже самым отпетым радикалам не приходило в голову, что может существовать всеобщее избирательное право для женщин.
На эти слова реагируют все студенты, даже те, которые только что смотрели в окно. Они улыбаются, кивают или одобрительно хмыкают и присвистывают. Этого-то они и ждут от Робин Пенроуз. Даже парень-регбист с последнего ряда был бы разочарован, не позволяй она себе время от времени подобных высказываний.
Вик Уилкокс просит Брайана Эверторпа остаться на его совещание с инженерами технического и производственного отделов. Приглашенные заходят в кабинет и рассаживаются вокруг длинного дубового стола. Это мужчины в однотипных костюмах, из нагрудных карманов которых торчат авторучки и карандаши. Они слегка робеют в присутствии начальства. Вик устраивается во главе стола, справа от него стоит чашка остывшего кофе. Он раскрывает папку с распечатками документов.
– Кто-нибудь знает, – спрашивает он, – сколько видов различной продукции выпустила наша фирма в прошлом году? – Тишина. – Девятьсот тридцать семь видов. Я считаю, что это примерно на девятьсот больше, чем нужно.
– Вы имеете в виду наименования, а не продукцию, не так ли? – смело переспрашивает инженер технического отдела.
– Хорошо, пусть будут наименования. Но каждое новое наименование означает, что мы должны заморозить производство, сменить или обновить оборудование, остановить конвейер, и тому подобное. На это уходит время, а время – деньги. К тому же, когда переоборудование почти завершено, обычно выясняется, что операторы в чем-нибудь ошиблись. Затраты снова возрастают. Вы согласны со мной?
– В истории чартистского движения было два кульминационных момента. Первый – представление Парламенту в 1839 году Народной Хартии с миллионами подписей. Ее отклонение привело к целым сериям забастовок и демонстраций, а стало быть – репрессивных мер со стороны правительства. На этой почве произросли «Мэри Бартон» миссис Гаскелл и «Сибилла» Дизраэли. Второй – представление в 1848 году следующей петиции, породившей «Элтона Локка» Чарльза Кингсли. В 1848 году повсюду в Европе вспыхивали революции, и многие англичане опасались, что чартизм тоже спровоцирует революцию, а то и террор в их стране. Поэтому в литературе описываемого периода воинственность рабочего класса трактуется как угроза общественному порядку. Это в полной мере относится и к роману Шарлотты Бронте «Ширли» (1849). Хоть он и был написан в эпоху Наполеоновских войн, его трактовка восстания луддитов косвенным образом комментирует более злободневные события.
Трое молодых чернокожих в безразмерных разноцветных вязаных кепи, сидящих на головах, как бабы на чайник, прилипают к витринному стеклу кафе и пальцами выбивают на нем дробь в ритме рэгги, пока менеджеры их не отгоняют.
– Я слышала, что в выходные опять была потасовка в Ангелсайде, – говорит Марджори, изящной салфеточкой стирая с губ молочную пену от каппучино.
Ангелсайд – это черное гетто Раммиджа, где безработица среди молодежи достигает восьмидесяти процентов, а беспорядки практически не прекращаются. В это утро, как обычно, возле отдела социального обеспечения Ангелсайда выстроилась длиннющая очередь. Единственная работа, которую можно получить в Ангелсайде, – это проводить собеседование в том же отделе соцобеспечения, где мебель привинчена к полу на случай, если клиент попытается с ее помощью покалечить сотрудника.
– А может, цвета устричной раковины, – задумчиво произносит Сандра. – Они подойдут к моим розовым брюкам.
– Мое мнение таково, – заявляет Вик. – В последнее время Мы производили слишком много разнообразных вещей, которые почти не пользуются спросом. Нужно перестроиться. Предлагать узкий ассортимент проверенной временем продукции по разумным ценам. И заставить покупателей спланировать их систему вокруг нашей продукции.
– А им-то это зачем? – спрашивает Брайан Эверторп, раскачиваясь на стуле и заложив большие пальцы рук в карманы пиджака.
– Затем, что продукция станет дешевле, качественнее и надежнее, – объясняет Вик. – Если им понадобится от нас что-нибудь особенное – милости просим, но спецзаказ должен быть либо очень крупным, либо дорогостоящим.
– А если они не захотят играть по новым правилам? – не унимается Брайан Эверторп.
– Пусть обращаются в другое место.
– Мне это не по душе, – говорит Эверторп. – Вслед за мелкими заказами приходят крупные.
Все остальные во время этого спора вертят головами влево-вправо, как зрители на теннисном матче. Вид у них завороженный, но слегка испуганный.
– Вот уж чему не верю, Брайан, – возражает Вик. – Зачем делать крупный заказ, если можно обойтись мелким и не увеличивать расходы?
– Я говорю о репутации, – поясняет Брайан Эверторп. – Девиз «Принглс» гласит…
– Я знаю, Брайан, – перебивает Вик Уилкокс. – Если это можно сделать, «Принглс» сделает. Что ж, я предлагаю новый девиз: Если это выгодно, «Принглс» сделает.
– Мистер Грэдграйнд в «Тяжелых временах» является воплощением духа промышленного капитализма, как Диккенс его себе представлял. Философия этого героя утилитарна. Он презирает чувства и воображение, верит только Фактам. Кроме всего прочего, в романе показаны чудовищные последствия этой философии для детей самого мистера Грэдграйнда – Том становится вором, а Луиза чуть не ступила на путь прелюбодейства – и для жителей Кокстауна, безотрадного городишки, по которому «пролегало несколько больших улиц, очень похожих одна на другую, населенных столь же похожими друг на друга людьми, которые все выходили из дому и возвращались домой в одни и те же часы, так же стучали подошвами по тем же тротуарам, идя на ту же работу, и для которых каждый день был тем же, что вчерашний и завтрашний, и каждый год – подобием прошлого года и будущего»[8]8
Ч. Диккенс. Тяжелые времена. Пер. В. Топер.
[Закрыть].
Этому безрадостному и цикличному образу жизни противопоставлен цирк с его непосредственностью, благородством и творческим воображением. «Видите ли, хударь, говорит мистеру Грэдграйнду шепелявый владелец цирка, людям нужны развлечения»[9]9
Там же.
[Закрыть]. И только Сесси, презираемая всеми дочь циркового наездника, удочеренная Грэдграйндом, вносит в его жизнь искупление. Основная мысли романа предельно ясна: безрадостность труда в условиях промышленного капитализма можно преодолеть лишь добротой, любовью и игрой воображения, носителями которых в романе являются Сесси и цирк.
Робин выдерживает паузу, чтобы судорожно строчащие авторучки успели записать ее рассуждение, а заодно и для того, чтобы усилить впечатление от следующего пассажа.
– Разумеется, такое прочтение абсолютно неадекватно. Идеология самого Диккенса пронизана противоречиями.
Те студенты, которые не отрываясь записывали каждое слово, теперь подняли глаза и криво усмехаются, глядя на Робин Пенроуз. Они чувствуют себя жертвами удачного розыгрыша, откладывают авторучки и разминают пальцы, пока она молчит и перелистывает конспекты, готовясь к следующему действию своего спектакля.
На Эвондейл-роуд сыновья Уилкокса наконец пробудились от сна и наслаждаются бесконтрольной властью над домом. Гэри на кухне пожирает полную миску кукурузных хлопьев, читает «Домашний компьютер», прислонив его к бутылке молока, и слушает через холл и две открытых двери запись «UB40», которая на всю мощь орет из музыкального центра на веранде. В спальне Реймонд мучает электрогитару, включенную в огромный, как поставленный на попа гроб, усилитель. Парень ласково улыбается, когда его гитара «заводится» от усилителя, издавая завывания и стоны. Весь дом гудит и вибрирует, как улей. Какой-то торговец несколько минут трезвонит в дверь и уходит, отчаявшись.
– Интересно отметить, что очень много рабочих романов было написано женщинами. Идеологическое неприятие промышленной революции либеральными гуманистами среднего класса приобретает у них специфический сексуальный характер.
При слове «сексуальный» по рядам молчаливых слушателей пробегает волна заинтересованности. Поднимают глаза и усаживаются поудобнее те, кто дремал или выцарапывал на крышке стола свои инициалы. А те, кто записывал, продолжают писать с еще большим остервенением. Прекращается покашливание, посапывание и шарканье ног. Робин продолжает, и единственным звуком, примешивающимся к звуку ее голоса, становится шелест исписанных ею листов формата А4, которые она вынимает из стопки.
– Вряд ли необходимо подчеркивать, что промышленный капитализм по сути своей фаллоцентричен. Изобретатели, инженеры, владельцы заводов и банкиры, питающие и поддерживающие его, – все они представители мужского пола. А наиболее привычный метонимический признак промышленности – заводская труба – есть не что иное, как метафора фаллического символа. Характерным описанием промышленного или городского пейзажа в литературе девятнадцатого века было следующее: пронзающие небо толстые трубы, извергающие струи черного дыма; здания содрогаются от ритмичных толчков мощных двигателей; поезд безудержно несется по тихим пригородам. Все это пропитано мужской сексуальностью доминирующего и деструктивного типа.